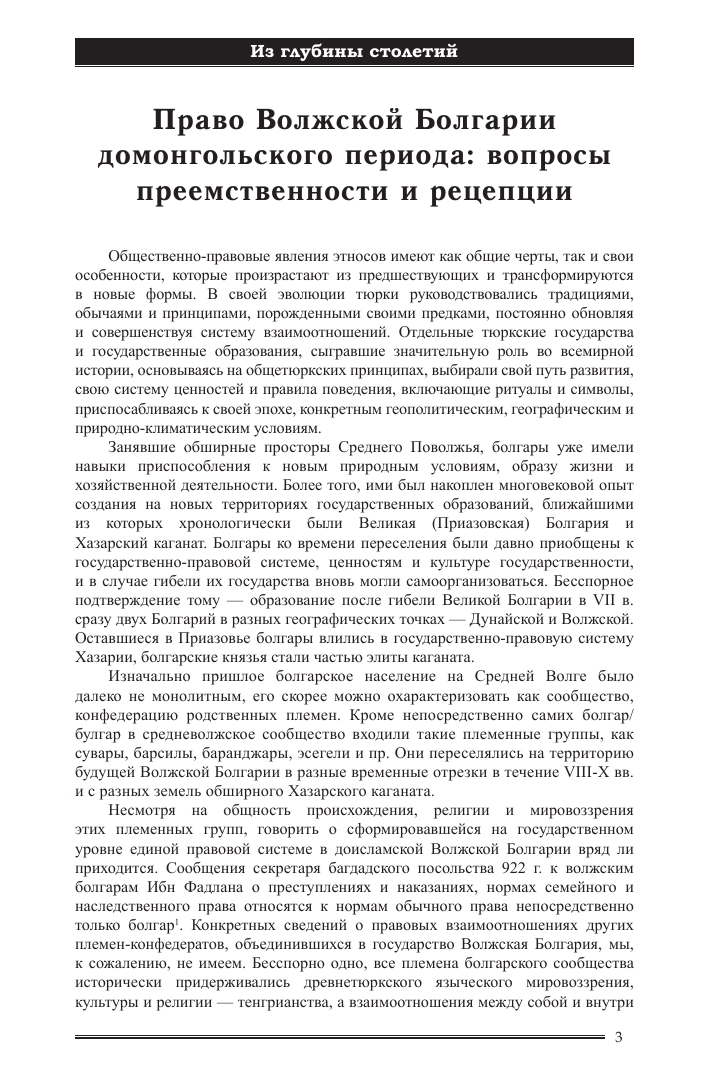Из глубины столетий
Право Волжской Болгарии домонгольского периода: вопросы преемственности и рецепции
Общественно-правовые явления этносов имеют как общие черты, так и свои особенности, которые произрастают из предшествующих и трансформируются в новые формы. В своей эволюции тюрки руководствовались традициями, обычаями и принципами, порожденными своими предками, постоянно обновляя и совершенствуя систему взаимоотношений. Отдельные тюркские государства и государственные образования, сыгравшие значительную роль во всемирной истории, основываясь на общетюркских принципах, выбирали свой путь развития, свою систему ценностей и правила поведения, включающие ритуалы и символы, приспосабливаясь к своей эпохе, конкретным геополитическим, географическим и природно-климатическим условиям.
Занявшие обширные просторы Среднего Поволжья, болгары уже имели навыки приспособления к новым природным условиям, образу жизни и хозяйственной деятельности. Более того, ими был накоплен многовековой опыт создания на новых территориях государственных образований, ближайшими из которых хронологически были Великая (Приазовская) Болгария и Хазарский каганат. Болгары ко времени переселения были давно приобщены к государственно-правовой системе, ценностям и культуре государственности, и в случае гибели их государства вновь могли самоорганизоваться. Бесспорное подтверждение тому — образование после гибели Великой Болгарии в VII в. сразу двух Болгарий в разных географических точках — Дунайской и Волжской. Оставшиеся в Приазовье болгары влились в государственно-правовую систему Хазарии, болгарские князья стали частью элиты каганата.
Изначально пришлое болгарское население на Средней Волге было далеко не монолитным, его скорее можно охарактеризовать как сообщество, конфедерацию родственных племен. Кроме непосредственно самих болгар/ булгар в средневолжское сообщество входили такие племенные группы, как сувары, барсилы, баранджары, эсегели и пр. Они переселялись на территорию будущей Волжской Болгарии в разные временные отрезки в течение VШ-X вв. и с разных земель обширного Хазарского каганата.
Несмотря на общность происхождения, религии и мировоззрения этих племенных групп, говорить о сформировавшейся на государственном уровне единой правовой системе в доисламской Волжской Болгарии вряд ли приходится. Сообщения секретаря багдадского посольства 922 г. к волжским болгарам Ибн Фадлана о преступлениях и наказаниях, нормах семейного и наследственного права относятся к нормам обычного права непосредственно только болгар1. Конкретных сведений о правовых взаимоотношениях других племен-конфедератов, объединившихся в государство Волжская Болгария, мы, к сожалению, не имеем. Бесспорно одно, все племена болгарского сообщества исторически придерживались древнетюркского языческого мировоззрения, культуры и религии — тенгрианства, а взаимоотношения между собой и внутри
общин строили на основе общих норм древнетюркского обычного права. Однако говорить о тождественности норм обычного права племен болгарского сообщества на Средней Волге не приходится.
В связи с этим хотелось бы сослаться на З. Яхтанигова, который пишет, что на Кавказе, например, обычное право неодинаково у всех народов, нет такой системы, которая претендовала бы на всеобщее признание. Нам особо интересны утверждения исследователя о том, что балкарская система обычного права обнаруживает много разительных контрастов, по сравнению с карачаевской, хотя это и родственные, говорящие на одном языке, народы2.
В части правовых взаимоотношений волжских болгар языческого периода встает вопрос об их истоках и преемственности с обычным правом предыдущих тюркских народов. С. Максуди, исследовавший в 1920-1940-х гг. тюркскую историю и право, рассматривал проблему заимствования древними тюрками правовых норм у других народов, рецепции права. Изыскания приводят ученого к однозначному выводу: законы тюрков были оригинальны и носили самостоятельный характер. «В древний период, — пишет С. Максуди, — тюрки могли воспринять понятие "закон" только из Китая». Однако сами китайские источники ясно сообщают о том, что основы права не были заимствованы из Китая. В них утверждается, что у тюрков (гуннов) нет ни «ли» (законов, касающихся обязанностей), ни «и» (правил общения). Это лишь доказывает, что гунны не восприняли собственно китайские законы «ли» и «и», заключает исследователь. На вопрос о том, заимствовали ли тюрки понятие «закон» и правовую систему у других народов или же это продукт их собственной умственной деятельности, он однозначно отвечает, что «законы тюрков были оригинальными и носили самостоятельный характер»3.
Фактически С. Максуди в своем исследовании «Тюркская история и право» опровергает мнение о полной бездеятельности тюрков в области создания и развития правовых отношений. Одним из факторов, определивших положение тюрков как народа, способного создать государство, ученый считает «сильно развитое у них чувство общественного порядка, т. е. стремление к жизни на основе установленных законов и правил»4. Таким образом, древние тюрки никогда и ни у кого не заимствовали в части норм права и правил поведения. Все формы правовых взаимоотношений появились исключительно в недрах древнетюркского сообщества. Такое утверждение само по себе является более чем спорным, и опровергается историей развития права народов мира в целом. Изыскания специалистов по истории права практически не оставляют сомнений, что правовые системы всех стран с давних времен «тесно взаимодействуют друг с другом, ведут между собой нескончаемый культурный диалог»5.
Не углубляясь в проблемы заимствования правовых норм и взаимоотношений древних тюрков, относительно волжских болгар можно сказать следующее: источниками общественно-правовых отношений волжских болгар языческого (доисламского) периода были древнетюркские обычаи и традиции. Изучение показало, что взаимоотношения внутри раннебулгарского общества (социальные, земельные и налоговые, брачно-семейные, наследственные, имущественные и др.), а также с инородческим населением решались в соответствии со сложившимися древнетюркскими традициями. Другое дело, что в результате развития общественных отношений некоторые нормы утрачивали свой авторитет или предназначение, переставали применяться и заменялись другими. Новые
географические и природно-климатические условия, обусловившие изменения в хозяйственной деятельности, также приводили к определенным новшествам и в образе жизни. Так, письменными источниками у волжских болгар зафиксированы уникальные виды и способы наказаний за отдельные преступления и нарушения запретов, не имевшие аналогов в других обществах мира, в т. ч. тюркских обществах. Определенные коррективы в регулирование общественно-правовых взаимоотношений внесли, надо полагать, непосредственное общение и партнерство с соседними странами и народами, в частности, тесное взаимодействие с русами-варягами, славянами, финно-угорскими племенами и народностями Севера6. Однако эти изменения лишь дополняли и обогащали жизнедеятельность булгарского общества, которая по большому счету происходила по законам предков.
Рецепция (гесерйо) в переводе с латинского означает «принятие», а приниматься и заимствоваться могут или прошлый правовой опыт (что само по себе и есть правопреемственность), или же элементы прошлых или современных (в данном случае волжским болгарам), но других правовых систем. Если даже расценивать в данном случае преемственность древнетюркских традиций у волжских болгар как рецепцию, то в таком случае любую преемственность можно будет расценивать как рецепцию, а это внесет неопределенность в изучении культурно-исторического развития практически всех обществ. Поэтому нам необходимо конкретно и однозначно определить понятие «рецепция» и его трактовку в современный период.
На сегодняшний день «рецепция» имеет своим содержанием восприятие и приспособление каким-либо обществом социальных и культурных форм, возникших в другой социокультурной среде (другая страна, другой исторический период)7. В толковом словаре 30-х гг. ХХ в. слово «рецепция» расшифровывается так: «усвоение и приспособление данным обществом социологических и культурных форм, возникших в другой общественной среде. Рецепция римского права в странах Западной Европы»8. Так называемую прагматическую рецепцию можно увидеть там, где возникшие в прошлом интеллектуальные феномены используются последующими обществами напрямую для решения насущных социально-политических и социально-культурных проблем. Прагматическая направленность была характерна для самых ранних случаев рецепции. Это прежде всего наблюдается в рецепции права, в частности, римского права, а потому проблема рецепции в истории права пользуется большим исследовательским интересом9.
В данном случае термин «рецепция» используется для обозначения заимствования, восприятия какой-либо национальной (этнической) правовой системой принципов, институтов, идей, основных черт других национальных (этнических) правовых систем. Через понятие «рецепция» реализуется исторический подход в историко-правовой науке, поскольку о заимствованиях и влияниях в истории права речь идет с тех пор, как эта отрасль общественного сознания пережила самоопределение. С. В. Ткаченко пишет, что рецепция — «универсальный механизм развития права... Как правовое явление, рецепция является самым востребованным инструментом модернизации права. Зачастую по различным причинам государства прибегают к осуществлению полномасштабной рецепции, меняя облик общества»10. Ученый, обратившись к изучению рецепции права, утверждает, что «применение рецепции можно найти в государствах с различным правовым режимом и в
различных формациях»; и даже столь одиозные «закрытые» правовые системы как, например, правовая система Древней Спарты, не могли обходиться без рецепцированных «чужеземных» правовых институтов. «Известно, что древняя традиция свидетельствует о критском происхождении многих спартанских институтов, включая систему воспитания и общественных обедов»11.
В случае с волжскими болгарами доисламского периода, мы можем сказать, что они не восприняли чужеродные правовые нормы, как, например, европейцы римское право, или спартанцы критские традиции. По большому счету, не было приспособления обществом волжских болгар к социологическим и культурным, правовым формам, возникшим в другой общественной среде. В общественно-правовых взаимоотношениях они не использовали европейские, китайские или персидские нормы. Право развивалось в русле древнетюркских традиций.
Чтобы понять, что рецепция (во всяком случае, полномасштабная), как таковая не существовала в доисламский период истории волжских болгар, необходимо остановиться и на источниках обычного права древних тюрков. Один из основных источников права древних тюрков торе (toru, tora) в памятниках древнетюркской письменности в целом обозначен как «порядок», «правило», «обычай», «закон», «право». Поскольку понятие «торе» было хорошо известно орхонским тюркам, данных о более раннем его употреблении не имеется. Но согласно исследованиям В. В. Трепавлова, формирование принципов управления кочевой империей в соответствии с торе следует отнести к VI-VIII вв.12 Однако не факт, что торе, как закон, «данный Небом», как высший закон не применялся во взаимоотношениях более древних тюркских обществ. Другим важным источником обычного права для древних тюрков был йусун, регулировавший частноправовые отношения (брак, семья, наследство, побратимство и пр.). В отличие от торе, регулировавшее государственное устройство, взаимоотношения между «Небом и землей», нормы йусуна решались на уровне общин, без вмешательства государственных структур. Они оставались внутренними. Кроме этих источников права, споры и тяжбы древних тюрков, а также отдельные важные вопросы разрешались актами, волей правителей, судебными прецедентами и договорами.
Эти же источники права были в общих чертах характерны и для волжских болгар домонгольского периода. Поэтому говорить о рецепции права в их обществе не приходится. Речь идет о преемственности общественно-правовых взаимоотношений, но с некоторыми поправками. Могли изменяться временные и пространственные факторы, которые сопутствовали перемене мест обитания и природно-климатических условий. Однако основы и принципы самих норм обычного права, основанных на древнетюркских традициях, оставались в своей основе теми же.
Ситуация изменилась с проникновением и официальным принятием на государственном уровне в Х в. ислама. Волжские болгары приняли религию, которая была основана иной этнической системой и при совершенно других природно-климатических условиях. Отныне тюрки лесостепной зоны стали вынужденными жить по правилам и законам арабов пустыни. Поэтому не приходится удивляться, что многие традиции арабо-мусульманской культуры могли совершаться тюрками чисто внешне. Более того, случались и недоразумения, в частности, из-за природно-климатических особенностей Ближнего Востока и Среднего Поволжья. В качестве примера можно привести практику совмещения вечерней и ночной молитв в летнее время в средневолжских широтах. Вопрос
об этом встал в первые же дни прибытия багдадского посольства Ибн Фадлана к волжским болгарам и вызвал между ним и правителем болгар Алмышем некое недоразумение и конфликтную ситуацию13. Решение его требовало специальной фетвы (официальное суждение по поводу какого-либо правового или культового характера, выносимое религиозным авторитетом)14.
Рецепция в форме принятия элементов параллельных правовых систем других современных себе государств таит в себе больше возможностей механического заимствования чуждых правовых ценностей (чуждых исторически, социально, религиозно-этически и даже природно-климатически). Нечто подобное мы можем наблюдать и у волжских болгар, после принятия ислама. Начинает происходить обновление, кардинальное изменение общественно-правовых взаимоотношений в булгарском обществе.
Принятие новой веры предопределило включение Среднего Поволжья в орбиту мусульманской цивилизации, а на политическом уровне — в категорию стран ислама (дар аль-ислам). Начиная с этого времени, все последующее культурно-историческое развитие региона вплоть до начала ХХ столетия было сопряжено с динамикой процессов, переживаемых мусульманским миром. С принятием мусульманства как государственной религии произошла переоценка ценностей как в волжско-болгарском обществе в целом, так и во всех сферах общественно-правовых взаимоотношений. Нормы шариата, мусульманский образ жизни постепенно вытесняли из применения древнее право и обычаи тюрков.
Вместе с тем, с принятием новой религии на территории Волжской Болгарии сосуществовали общественно-правовые взаимоотношения как на основе древнетюркских традиций так и мусульманские нормы. Известно и то, что часть волжских болгар к моменту багдадского посольства (922 г.) уже исповедовали ислам. А сам булгарский хан Алмыш еще в 902-908 гг. чеканил монеты под арабским именем Джафар ибн Мухамад15. В целом можно сказать, что распространение ислама среди волжских болгар было более похожим на реализацию норм шариата в его адаптированном, но не доктринальном виде, по причине чего не сильно изменило устои местного обычного права. Усилиями правящей элиты ислам получал все более широкое распространение, древнетюркские обычаи постепенно вытеснялись нормами шариата.
Впрочем, среди специалистов мнения об уровне исламизации Волжской Болгарии полемизируются. В любом случае к этому времени уже произошло проникновение религиозно-мировоззренческих и материально-культурных ценностей чужеродного происхождения. Учитывая, что шариат регулирует практически все вопросы частноправового характера, требует от мусульманина веры только в своего бога и совершать обряды только по своим правилам, рецепция права в данном случае несомненна.
Ислам и шариат проникли в Волжскую Болгарию без особых проблем, не считая отказ части сувар принимать новую религию. Этому способствовало несколько факторов: 1) часть волжских болгар уже была мусульманами; 2) большая часть государственной элиты была заинтересована в новой религии как объединяющего фактора; 3) ислам, как таковой, прямо не противоречил большинству принципов жизнедеятельности тюркского общества. М. М. Ковалевский указывает, что иностранные институты «только в том случае пускают корни в стране, когда не противоречат прямо всему тому наследию прошлого, которое слагается из верований, нравов, обычаев и учреждений известного народа»16. По большому
счету волжские болгары смогли адаптировать ислам, не уничтожая в себе тюркскую культуру, мировоззрение.
В частноправовой сфере изменениям подверглись те нормы, которые невозможно было адаптировать под традиционные; остальные, не противоречащие древнетюркским традициям, лишь обросли некоторыми обстоятельствами. В общинах жизнь протекала как и ранее, религиозный фанатизм не появился, сохранялись прежние устои, большинство из которых были внешне завуалированы под ислам. Механизм рецепции в социально-политической сфере, когда перенимались государственно-правовые нормы, был более заметен, во всяком случае, внешне. Как известно, арабский путешественник XI в. Абу Хамида ал-Гарнати описывает Булгар как чисто мусульманский город со своими мечетями, медресе, мусульманскими учеными и богословами.
Нечто подобное мы видим и у дунайских болгар, в частности, в «Законе судного людям», составленного на основе обычного права дунайских болгар. На формулировки норм обычного права в этом важном для изучения социальной структуры языческого болгарского общества VШ-IX вв. документе оказала влияние византийская «Эклога» — законодательный документ VIII в. Составители «Закона судного людям» активно перерабатывали византийские формулы, стремясь привести их в соответствие с болгарской действительностью. Несмотря на то, что терминология этого акта является славянской, исследователи называют его основой нормы обычного права дунайских болгар17. Все же, по большому счету, этот пример также можно считать рецепцией византийского права в Дунайской Болгарии.
Предположительно, с XI в. основная часть общества волжских болгар начинает жить по мусульманским законам. Прежние принципы землевладения (предположительно, домениальные) заменяются системой икта, когда земельные наделы получают за службу сюзерену. Изменяется система налогообложения, вместо подомного налога начинают взимать джизья и харадж, появляется налог на «не мусульман». Вместо старейшин и жрецов судопроизводство ведут профессиональные судьи — кади. Кардинальные изменения претерпевает частноправовая система — брачно-семейные и наследственные взаимоотношения. Времена женщин-воительниц ушли в небытие, отныне они домохозяйки, со своим уголком в доме и множеством запретов. Их предназначение — работать дома и воспитывать детей. Брак считается действительным только в том случае, если он заключен по нормам шариата (никах). Нормы языческих волжских болгар, когда ребенка воспитывал дед, уступают место шариатским нормам, когда детьми должны заниматься их родители. В наследственной сфере: теперь не младший брат наследует старшему брату, а сын отцу и т. д. Меняется также система запретов (вместо языческих табу — харам), преступлений и наказаний (отныне за кражу не казнят, а калечат).
Исследователи Волжской Болгарии не сомневаются в том, что на всей территории государства господствовал не только единый мазхаб (религиозно-правовая школа) ханафитской основы, но и единая улема (признанные и авторитетные знатоки теологии и религиозного права), которая трактовала некоторые вопросы права и ритуальной практики в соответствии с выработанными традициями, причем опираясь в этом на светскую власть18.
На основании изложенного можно заключить следующее: волжские болгары прибыли в Среднее Поволжье со сложившимися нормами обычного права, основанными на древнетюркских традиционных нормах права. Природно-
климатические и географические особенности края, близкие контакты с соседними народами и племенами привели к изменению или исчезновению некоторых из них и появлению новых. Вместе с тем, преемственность традиций не нарушалась, в основе взаимоотношений волжских болгар оставалось древнетюркское обычное право. После принятия ислама волжские болгары перенимают правила поведения и нормы шариата. В Х-Х1 вв. в Волжской Болгарии происходит рецепция мусульманского права. Это коснулось практически всех сфер жизнедеятельности, как в сфере публичного, так и частного права: земельных и налоговых взаимоотношений, преступлений и наказаний, брачно-семейных, наследственных отношений и т. д.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921922 гг. Статьи, переводы и комментарии. - Харьков, 1956. - С. 136-139.
2. Яхтанигов З. Обычное право на Кавказе: вопросы источников, компиляции и рецепции // История государства и права. - 2008. - № 24. - С. 23.
3. Садри Максуди Арсал. Тюркская история и право. - Казань, 2002. - С. 234.
4. Там же. - С. 235.
5. Ткаченко С. В. Рецепция права: идеологический компонент. - Самара, 2005. - С. 5.
6. Мухамадеев А. Р. Право Волжской Болгарии. Часть 1. Преступления и наказания, правосудие. - Казань, 2013. - С. 11.
7. Чиглинцев Е. А. Рецепция античности в культуре конца XIX — начала XXI в. -Казань, 2009. - С. 7.
8. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=66359.
9. Чиглинцев Е. А. Указ. соч. - С. 8.
10. Ткаченко С. В. Указ. соч. - С. 3.
11. Там же. - С. 5.
12. Трепавлов В. В. Государственный строй Монгольской империи XIII в. Проблема исторической преемственности. - М., 1993. - С. 40.
13. Ковалевский А. П. Указ. соч. - С. 133.
14. История мусульманской мысли в Волго-Уральском регионе. - Казань, 2010. - С. 63.
15. Хузин Ф. Ш. К вопросу о времени возникновения оседлости у волжских болгар // Научный Татарстан. - 2010. - № 4. - С. 118.
16. Мягков Г. П. «Русская историческая школа»: методологические и идейно-политические позиции. - Казань, 1988. - С. 162.
17. История Болгарии: в 2 т. - М., 1954. - Т. I. - С. 60.
18. История татар с древнейших времен: в 7 т. - Т. II: Волжская Булгария и Великая Степь. - Казань, 2006. - С. 555.
Алмаз Мухамадеев, кандидат исторических наук





 CC BY
CC BY 35
35