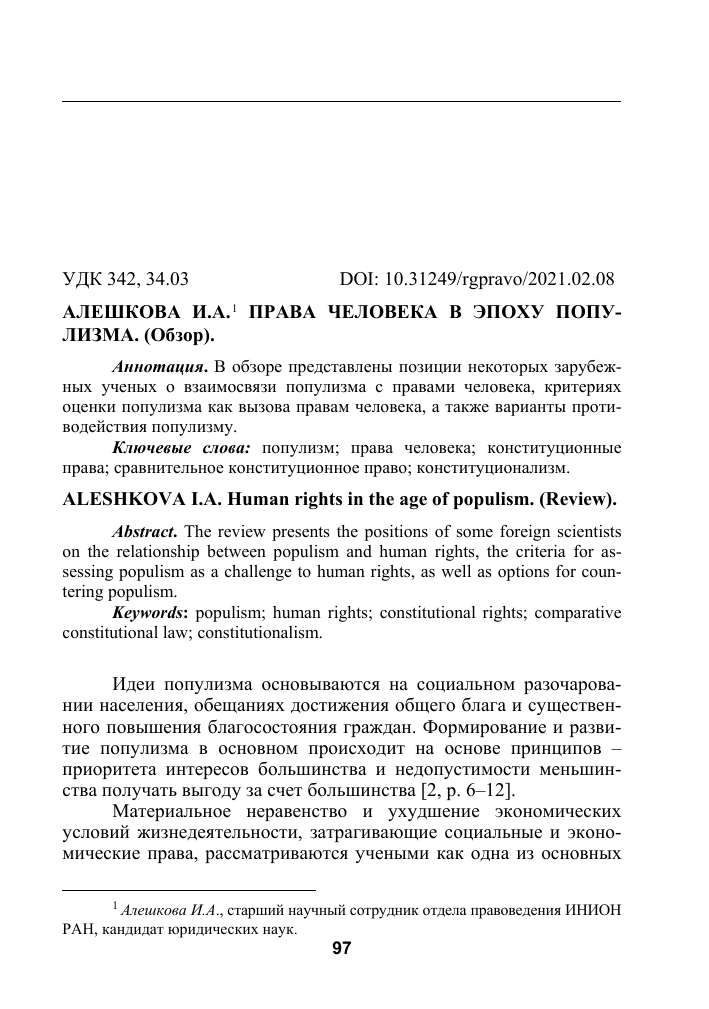УДК 342, 34.03
DOI: 10.31249/rgpravo/2021.02.08
АЛЕШКОВА И.А.1 ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЭПОХУ ПОПУЛИЗМА. (Обзор).
Аннотация. В обзоре представлены позиции некоторых зарубежных ученых о взаимосвязи популизма с правами человека, критериях оценки популизма как вызова правам человека, а также варианты противодействия популизму.
Ключевые слова: популизм; права человека; конституционные права; сравнительное конституционное право; конституционализм.
ALESHKOVA I.A. Human rights in the age of populism. (Review).
Abstract. The review presents the positions of some foreign scientists on the relationship between populism and human rights, the criteria for assessing populism as a challenge to human rights, as well as options for countering populism.
Keywords: populism; human rights; constitutional rights; comparative constitutional law; constitutionalism.
Идеи популизма основываются на социальном разочаровании населения, обещаниях достижения общего блага и существенного повышения благосостояния граждан. Формирование и развитие популизма в основном происходит на основе принципов -приоритета интересов большинства и недопустимости меньшинства получать выгоду за счет большинства [2, p. 6-12].
Материальное неравенство и ухудшение экономических условий жизнедеятельности, затрагивающие социальные и экономические права, рассматриваются учеными как одна из основных
1 Алешкова И.А., старший научный сотрудник отдела правоведения ИНИОН РАН, кандидат юридических наук.
причин популистских движений и обращают внимание на то, что социально-экономические права человека являются частью инструментария популистов, чтобы отстаивать и продвигать свои проекты и интересы [1, р. 307-310].
По мнению Л. Бургорг-Ларсен, популизм приводит к разрушению демократических режимов, для которых права человека являются фундаментальной ценностью в противоположность популизму. На первый взгляд, это кажется странным и даже неуместным связывать эти два термина. Тем не менее эти два явления имеют непосредственную взаимосвязь [2, р. 4].
Существование сложных отношений между популизмом и правами человека этот французский исследователь видит в том, что популизм, обеспечивает импульс к улучшению экономических и социальных условий жизни членов общества, исходит из социальных программ, разработанных для этой цели. Проблема в том, что он не учитывает их зависимость от способности государства их финансировать. Как следствие, очевидной становится тенденция к злоупотреблению некоторыми гражданскими и политическими правами и явный отказ от плюрализма, что создает реальные угрозы некоторым устоявшимся правам человека [2, р. 4-6, 9-10].
Популизм - вызов правам человека. Анализ научной литературы демонстрирует обеспокоенность ученых тем, что популизм в современный период становится более активным и тем самым представляет собой вызов правам человека.
Хотя популисты обычно не отвергают права человека прямо, они используют довольно избирательный и инструментальный подход к ним, стремясь приспособить эту идеологию к своим потребностям. При этом они оперируют тремя основными аргументами для критики прав человека: 1) аргумент безопасности, согласно которому права человека должны уступить место соображениям безопасности; 2) аргумент легитимности приводится для обоснования утраты прав человека своей легитимности, поскольку они были оккупированы определенными группами и программами; и 3) аргумент демократии - осуждает права человека за то, что они отдают предпочтение интересам меньшинств над интересами большинства.
Полагая, что популизм как явление несет многочисленные опасности для прав человека, Дж.Л. Нойман акцентирует внима-
ние на том, что такого рода опасности наблюдаются как внутри собственных сообществ, так и на международном уровне: популисты часто пренебрегают внешними обязательствами, что может привести к дискриминации и насилию меньшинств. Потенциальные жертвы могут принадлежать к бывшим влиятельным элитам или к уязвимым меньшинствам, с которыми, по мнению популистов, обращались лучше, чем они того заслуживают. Более того, подвергается опасности принцип равенства, политические права и свободы, а также право на справедливое судебное разбирательство [4, p. 6-15].
Л. Бургорг-Ларсен называет несколько причин активного развития популизма и их взаимосвязи с правами человека - демократическое разочарование (democratic disenchantment); демократическая деконсолидация (democratic deconsolidation) и демократический ответный удар (democratic riposte).
К причинам, способствующим формированию демократического разочарования и вызывающим демократические сложности, автор относит отсутствие бинарной классификации прав человека и гражданина, характеризующейся вечным концептуальным разногласием относительно их природы и содержания [2, p. 2125]. Вторая демократическая сложность связана с препятствиями, возникающими при реализации судебной защиты - принятие смелых юридических решений и наличие необоснованной критики судебной активности [2, p. 25-29].
За последние 20 лет во всем мире значительно выросло количество судебных решений по социальным правам, в связи с этим Л. Бургорг-Ларсен в качестве еще одной демократической сложности называет неоднородную практику внутригосударственных и наднациональных судов. Суды всех уровней, желая избежать недоверия к ним, зачастую остаются нейтральными к социальным аспектам рассматриваемых ими дел. Ссылаясь в своих решениях на нормы, устанавливающие гражданские и политические права, они поверхностно подходят к их применению [2, p. 23-26].
Нередки и случаи, когда позиции внутригосударственных и так называемых «иностранных» судов радикально отличаются. Приводя в качестве примера два решения суда Л. Бургорг-Ларсен отмечает, что такие решения служат реальной подпиткой всех форм популизма.
Так, например, Европейский суд по правам человека в решении по делу Гариб (Garib) против Нидерландов от 6 ноября 2017 г. двенадцатью голосами против пяти в рамках Большой палаты Суда обошел стороной предоставленную ему впервые в истории судебных разбирательств возможность вынести решение в защиту бедности. Согласно материалам дела заявитель, г-жа Р. Гариб, гражданка Нидерландов, на момент подачи заявления являлась матерью-одиночкой двоих детей, у которой единственным источником дохода было социальное обеспечение. Она поселилась в районе Тарвевик в Роттердаме в 2005 г. Некоторое время спустя владелец собственности, где она снимала жилье, попросил его освободить в виду предстоящего ремонта. Он предложил г-же Р. Гариб снять у него другую недвижимость в том же районе, на что она согласилась, учитывая, что новая квартира была больше и лучше подходит для нее и ее двух маленьких детей.
Тем временем район Тарвевик в Роттердаме как район с высоким уровнем безработицы в соответствии с Законом о внутренних городских проблемах (особые меры) был признан районом, в котором проживание было возможно только с разрешением на жилье. Г-жа Гариб должным образом подала запрос о таком разрешении. В 2007 г. власти отклонили ее просьбу на том основании, что она не проживала в Роттердамском регионе в течение шести лет, непосредственно предшествующих представлению ее просьбы.
Более того, она не соответствовала критериям, которые дали бы ей право на освобождение от продолжительности проживания при подаче требования. Возражение г-жи Гариб против этого решения было отклонено властями города, и в 2008 г. областной суд отклонил ее апелляцию. В частности, утверждалось, что решение этого вопроса входит во внутреннюю компетенцию города (особые меры) и на основании Закона предусмотрены временные ограничения свободы проживания. Г-жа Гариб обратилась в ЕСПЧ с жалобой на нарушение Законом о внутренних проблемах города (особые меры) и соответствующим внутригородским законодательством ее права на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства, гарантированного ст. 2 Протокола N 4 Европейской конвенции по правам человека.
Л. Бургорг-Ларсен сетует, что ЕСПЧ отказался применить комбинацию правил (ст. 14 вместе со ст. 2 Протокола N 4 о свобо-
де передвижения), которая позволила бы Суду вынести решение о дискриминационном характере указанного Закона, разработанного для решения проблемы обнищания определенных районов Роттердама, и, как следствие, это привело к изгнанию с места жительства голландской женщины, которая жила на пособия по социальному обеспечению и одна воспитывала двоих детей [2, p. 27-28].
Приводя в качестве другого примера решение Межамериканского суда по правам человека (Inter-American Court of Human Rights), решение, принятое по делу Лагос-дель-Кампо против Перу N 12.795 от 31 августа 2017 г., Л. Бургорг-Ларсен замечает, что оно отличается дерзостью и демонстрирует отличный от европейской осторожности подход.
Безусловно, это первое решение Межамериканского суда по правам человека, в котором признается прямая возможность принудительного исполнения экономических, социальных и культурных прав в соответствии со ст. 26 Американской конвенции о правах человека 1969 г. В этом случае один из лидеров профсоюзов успешно подал иск против Перу за нарушение его прав на работу, свободу выражения мнений и справедливое судебное разбирательство. В то же время Л. Бургорг-Ларсен подчеркивает, что сфера применения ст. 26 Американской конвенции всегда была в центре многочисленных доктринальных диспутов, и суд Сан-Хосе в решении по делу Асеведо Буэндиа и др. («уволенные и вышедшие на пенсию сотрудники финансового контролера») от 1 июля 2009 г. открыл новый прецедент: принцип «недопустимости отступления» распространял свое действие на социальные права, подлежащие судебной защите, что вызвало в итоге концептуальную революцию.
В связи с этим Межамериканский суд по правам человека предложил новое толкование ст. 26, считая, что «экономические и социальные стандарты», о которых идет речь, вытекают как из Устава Организации Американских Государств, так и из Американской декларации прав и обязанностей человека и представляют в совокупности два документа с важными социальными положениями. Суд предусмотрел возможность применения судами при рассмотрении дел ст. 26, в случаях возникновения потребности защищать беспрецедентное количество экономических и социальных прав [2, р. 27-28].
Еще в качестве одной проблемы демократической сложности профессор Л. Бургорг-Ларсен выделяет неисполнение национальных (и международных) решений по социальным вопросам [2, р. 29-32]. В качестве примера приводится решение ЕСПЧ от 12 октября 2017 г. о прекращении дела «Бурмыч против Украины», которое вскрывает системные проблемы, связанные с практикой принятия так называемых «пилотных решений», когда суды уступают место политике, полагая, что именно эти факторы поддерживают популистский дискурс.
В рамках демократической деконсолидации происходит нарушение доверия к стабильным демократиям и разочарование в действующих правовых институтах, как следствие, это приводит к разрушению механизмов защиты правовых ценностей, одной из которых являются права человека. В этом контексте, отвергая либеральную конституционную модель, игнорируются нормы и принципы, ставшие общепризнанными после Второй мировой войны. Деконсолидация демократии приводит к разрушению основных правовых матриц - принципа разделения властей и принципа качественной защиты прав человека [2, р. 32-47].
Демократический ответный удар наносится в целях сохранения прав человека. Однако, по сути, происходит «война» ценностей, которая формируется во всем мире и, без сомнения, будет определять состояние силовых отношений внутри государств и между ними на многие годы вперед [2, р. 48-62].
Л. Бонадиман и У. Сойрила обращают внимание на то, что в странах с плохо налаженной защитой прав человека популизм представляет собой как минимум два явных вызова правам человека.
Во-первых, популизм отвергает плюралистическую концепцию общества в пользу идентичности. Следовательно, происходит отрицание индивидуальных прав и отдается предпочтение коллективным правам. Соответственно, принятие концепции идентичности делает очень трудным, если не невозможным, защиту индивидуальных прав.
Во-вторых, популизм использует множественную и разнообразную интерпретацию общего блага. Коллективные права, взятые как приоритет в развитии конституционной демократии, определяются как коллективная ценность.
Таким образом, обобщая позиции ученых можно отметить, что популизм обусловливает тенденцию возрастания значимости общего блага, поглощающего индивидуальные и коллективные права, неоднородностью судебной практик и разрушением консолидации правовых институтов и др.
Варианты противодействия популизму как угрозе прав человека. Распространенное мнение о том, что права человека достигли кризиса в форме ответной популистской реакции, вызвало оживленную дискуссию не только о причинах кризиса, но и возможных способах его решения. В этой связи значимым аспектом концентрации внимания как теоретиков, так и практиков является поиск оптимальных вариантов устойчивого развития общепризнанной концепции прав человека.
Л. Бонадиман и У. Сойрила считают, что в целях преодоления материального неравенства на основе принципа солидарности и социальной ответственности государствам следует: сосредоточиться на структурных и распределительных проблемах, переосмыслить концепции развития, переоценить свои стратегии, но при этом не следует отказываться от основных общепризнанных прав человека [1, р. 301-303]; минимизировать растущее желание жертвовать индивидуальными и коллективными правами для общего блага; осуществлять альтернативные интерпретации, сочетая индивидуальное и коллективное посредством публичного, законного и совещательного политического процесса; расширять пространство для гражданского общества; найти способы эффективного решения вопросов неравенства и исключительности; сохранить верховенство международного права и международных правовых институтов [1, р. 303-304].
Права человека могут возродить забытый принцип коллективной солидарности как внутри, так и за пределами национальных границ. Ученые полагают, что сторонники прав человека должны начать анализировать бюджеты, налоговую политику и фискальную политику, т.е. те проблемы, которых они давно пытались избежать. Также авторы полагают, что не следует смешивать солидарность и национализм. Возвратить солидарность на ее почетное место может перепрограммирование движения за права человека и отказ от националистического популизма [1, р. 305-308].
В целях прекращения безрезультатных споров о формальном и абсолютном равенстве Л. Бонадимаа и У. Сойрила предлагают ученым глубже исследование содержания понятия «достаточное равенство» и принципа солидарности. При этом не отрицать связи между правами и экономикой, свободой и равенством, равенством и солидарностью [1, р. 325-328].
В качестве возможной политической защиты от популизма правам человека Л. Бургорг-Ларсен предлагает признать приоритетным путь честного и добросовестного политического диалога, при котором обеспечивается соблюдение принципов права, сохраняется внутригосударственный конституционный правопорядок и выполняются правовые обязанности. Подчеркивая дискуссион-ность правовой переменной, которая на взгляд ученого вызывает целый ряд вопросов о природе права, правовой системе, судебной культуре и т.д., автор оценивает важность политической переменной (с учетом характеристик рассматриваемого государства и политической системы, способности государственной структуры выполнять правовые решения и институциональные соглашения по социальным вопросам в рамках различных государственных структур и т.д.), социально-экономической переменной, которая находится в зависимости от уровня экономического развития, различий в уровне благосостояния, этнической и территориальной фрагментации страны, степени политической поддержки социальной политики и т.д.), а также социальной переменной (сила или иное влияние «неинституциональных социальных агентов» и степень их взаимодействия).
В условиях наличия выше указанных переменных важно, чтобы были сохранены либеральные демократические режимы, считает Л. Бургорг-Ларсен. Для этого необходимо тщательно проанализировать и продумать заново рациональную модель демократии, учесть элементарное требование социальной справедливости, которое не было воспринято всерьез, а культурное и этническое разнообразие не было учтено и не получило должной поддержки [2, р. 57].
Необходим критический анализ сбоев в работе либерально-демократических систем, важно поощрять «инклюзивный патриотизм», который не должен быть аналогом национализма; осуществлять «исправление» экономики путем пересмотра принципов
налогообложения, решения жилищных вопросов и занятости; и, наконец, переосмыслить то, что называется «гражданской религией», путем просвещения граждан. Л. Бургорг-Ларсен полагает, что именно суды отстаивая принцип разделения властей, независимость и самостоятельность судебной власти способны противостоять угрозе прав человека. Профессор обращает внимание на значимость принципов справедливости, уважения достоинства и доверия граждан к закону и действиям государства [там же].
Исходя из вышеизложенного, следует сказать, что представленные в обзоре точки зрения авторов выходят за рамки строгого юридического подхода, основанного на законе и механизмах защиты прав. В этом контексте важное значение имеет именно междисциплинарный подход, на основе которого возможно создать действенные инструменты защиты прав человека от популизма, в том числе, руководствуясь принципами солидарности, консолидации и плюрализма.
Кроме того, важно учитывать принципы конституционного права, которые являются универсальным средством противодействия популизму и способны не только консолидировать правовые интересы различных социальных классов, групп и не допускать развитие народной конфронтации, но и защитить права человека.
Список литературы
1. Bonadiman L., Soirila U. Human rights, populism, and the political economy of the world // Nordic journal of human rights. - 2019. - Vol. 37, N 4. - P. 301-328. -URL: https://doi.org/10.1080/18918131.2020.1741321 (дата обращения: 20.01.2021).
2. Burgorgue-Larsen L. Populism and human rights: From disenchantment to democratic riposte // SSRN Electronic journal : iCourts working paper series. - 2019. -N 156. - 63 p. - URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=3341298 (дата обращения: 20.01.2021).
3. Howse R. Epilogue : in defense of disruptive democracy - A critique of anti-populism // International journal of constitutional law. - 2019. - N 17(2). - P. 641660. - URL: https://doi.org/10.1093/icon/moz051 (дата обращения: 20.01.2021).
4. Human rights in a time of populism : challenges and responses / ed. by Gerald L. Neuman. - Cambridge, 2020. - 250 p.





 CC BY
CC BY 36
36