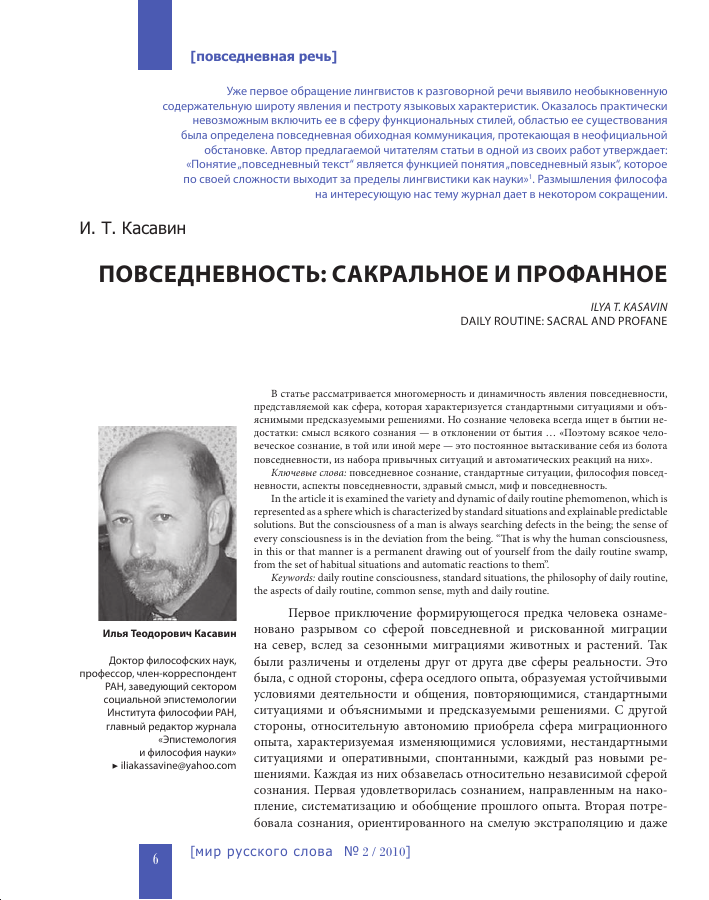Уже первое обращение лингвистов к разговорной речи выявило необыкновенную содержательную широту явления и пестроту языковых характеристик. Оказалось практически невозможным включить ее в сферу функциональных стилей, областью ее существования была определена повседневная обиходная коммуникация, протекающая в неофициальной обстановке. Автор предлагаемой читателям статьи в одной из своих работ утверждает: «Понятие „повседневный текст" является функцией понятия „повседневный язык", которое по своей сложности выходит за пределы лингвистики как науки»1. Размышления философа на интересующую нас тему журнал дает в некотором сокращении.
И. Т. Касавин
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ: САКРАЛЬНОЕ И ПРОФАННОЕ
ILYA T. KASAVIN DAILY ROUTINE: SACRAL AND PROFANE
В статье рассматривается многомерность и динамичность явления повседневности, представляемой как сфера, которая характеризуется стандартными ситуациями и объяснимыми предсказуемыми решениями. Но сознание человека всегда ищет в бытии недостатки: смысл всякого сознания — в отклонении от бытия ... «Поэтому всякое человеческое сознание, в той или иной мере — это постоянное вытаскивание себя из болота повседневности, из набора привычных ситуаций и автоматических реакций на них».
Ключевые слова: повседневное сознание, стандартные ситуации, философия повседневности, аспекты повседневности, здравый смысл, миф и повседневность.
In the article it is examined the variety and dynamic of daily routine phemomenon, which is represented as a sphere which is characterized by standard situations and explainable predictable solutions. But the consciousness of a man is always searching defects in the being; the sense of every consciousness is in the deviation from the being. "That is why the human consciousness, in this or that manner is a permanent drawing out of yourself from the daily routine swamp, from the set of habitual situations and automatic reactions to them".
Keywords: daily routine consciousness, standard situations, the philosophy of daily routine, the aspects of daily routine, common sense, myth and daily routine.
Первое приключение формирующегося предка человека ознаменовано разрывом со сферой повседневной и рискованной миграции на север, вслед за сезонными миграциями животных и растений. Так были различены и отделены друг от друга две сферы реальности. Это была, с одной стороны, сфера оседлого опыта, образуемая устойчивыми условиями деятельности и общения, повторяющимися, стандартными ситуациями и объяснимыми и предсказуемыми решениями. С другой стороны, относительную автономию приобрела сфера миграционного опыта, характеризуемая изменяющимися условиями, нестандартными ситуациями и оперативными, спонтанными, каждый раз новыми решениями. Каждая из них обзавелась относительно независимой сферой сознания. Первая удовлетворилась сознанием, направленным на накопление, систематизацию и обобщение прошлого опыта. Вторая потребовала сознания, ориентированного на смелую экстраполяцию и даже
Илья Теодорович Касавин
Доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий сектором социальной эпистемологии Института философии РАН, главный редактор журнала «Эпистемология и философия науки» ► ¡liakassavine@yahoo.com
полное отбрасывание прошлого опыта, неожиданное объяснение и рискованное предсказание, на логический вывод вопреки иллюзиям и надеждам, на поиск единства в многообразии и многообразия в единстве.
Различение и выделение этих двух сфер бытия и сознания превратило человеческую жизнь в постоянную проблематизацию их взаимоотношений. Обыденность томится мечтой о приключениях, бурная жизнь тяготеет к безмятежной идиллии как своему закономерному исходу. Неподвижные герои чеховских «Трех сестер» отважно восклицают: «В Москву, в Москву!», а погруженный в круговорот бурных приключений капитан Блад из романа Сабатини меланхолически вспоминает о «яблонях в цвету» на юге Ирландии.
Жизнь сознания — в постоянном обмене смыслами между разными сферами. Процесс осмысления — процедура, требующая стабильности и покоя. Дневники путешественника нуждаются в перепечатке, редактуре и систематизации, чтобы стать вкладом в науку. Первичный текст требует интерпретации, которая не столько расшифровывает его смысл, сколько задает его. В таком случае именно повседневность — это сфера возникновения смысловых пространств, на овла-девание которыми затем отправляется искатель приключений. Вполне реальные результаты средневековых путешествий не приводят к принципиальным сдвигам в географии и космологии и рассматриваются лишь как подтверждение уже известной картины мира: в основе реального драматизма приключения лежит тихое приключение мысли, сообщающее цель и смысл приключению в сфере реальности, которое дает лишь повод для размышления.
Обыденное сознание порождается повседневным бытием, но это отношение лишено исчерпывающей гармоничности. Сознание всегда изыщет в бытии недостатки или чрезмерно превознесет его достоинства, смысл всякого сознания — в отклонении от бытия, в его удвоении с определенными погрешностями. Поэтому всякое человеческое сознание, в той или иной мере — это постоянное вытаскивание себя из болота повсед-
невности, из набора привычных ситуаций и автоматических реакций на них. И вместе с тем образ творческого акта, порывающего с повседневностью, драматичен во многом из-за той ценности, которой обладает повседневная реальность как сфера стабильности, безопасности, порядка и покоя. На этом богатом смысловом фоне и разворачивается трагедия творчества как история младшего сына, отправившегося на поиски приснившейся красавицы. И эта история также становится культурным архетипом, который, обмирщаясь, пополняет резервуар социальной памяти и закладывает новые структуры повседневности.
Итак, повседневное сознание постоянно выходит за пределы повседневного бытия, поскольку не только выражает реальность повседневности, но и адаптирует к себе сферы неординарной деятельности и коммуникации — путешествие, приключение, творчество. И сама повседневность как сфера реальности оказывается незамкнутой в себе благодаря сознанию, вводящему в оборот в форме героических мифов новые повседневные структуры.
1. Философия повседневности
Иногда забывают, что значительная и наиболее универсальная часть содержания философии — это анализ повседневного опыта. С его помощью философия возникала, дистанцируясь от античного мифа; изыскивала себе новый предмет в Средние века и эпоху Возрождения; как обобщение обыденного опыта рассматривала она зарождающееся эмпирическое естествознание; наконец, именно в повседневности искала философия спасение от чрезмерных претензий научного рационализма.
Новые эпохи изыскивали в повседневности свои содержания и аргументы, выплескивали на нее свои разочарования и надежды. Отношение философии к повседневности подобно отношению гения к толпе. Делая повседневность своим предметом или вспомогательным средством, философ раскапывает в ней некую нутряную народную мудрость, стремится придать своим терминам понятность для обывателя, прибегает к повседневным примерам и здесь же критикует
повседневность за ее косность, а обыденное сознание — за его неточность и незамысловатость. Обыденное сознание, в свою очередь, обвиняет философию в оторванности от жизни, в умозрительности и одновременно усваивает философские идеи в виде расхожих штампов.
Почему так просто и так трудно писать о повседневности?
Мы все живем в повседневном мире и полагаем не без основания, что знаем его и можем судить о нем. Одновременно с этим в нашем распоряжении нет (или слишком много — что одно и то же) источников, позволяющих анализировать повседневность. Теоретики школы «Анналов» на основе исторических источников дают фрагментарные исторические срезы повседневности. Писатели живописуют повседневную жизнь, повседневное сознание, опираясь на свой опыт. Социологи, психологи, лингвисты разрабатывают свои ракурсы и аспекты повседневности. Аналитические философы и феноменологи чуть ли не с противоположных позиций сделали своим предметом мир повседневности. Все эти источники отчасти несоизмеримы, отчасти противоречат друг другу, иногда совпадают в той или иной мере.
В чем же сегодняшняя задача философа? Ведь целостность и многообразие повседневности не по плечу одной философии. Сегодня мы, находясь в поисках нового мировоззрения и новой философии XXI века, нуждаемся в некотором фундаменте, которым может служить наука, религия, миф или все вместе, но — и это неизбежно — адаптированные, переваренные обыденным сознанием. Что же представляет собой эта алхимическая реторта, этот инкубатор мировоззрений? Заложено ли в природе повседневности в качестве существенного свойства то, что Витгенштейн называл «следованием правилу»? Ведь новому философскому мировоззрению предстоит, наконец, критически преодолеть извечную непостижимость России для «ума и аршина», упорядочить сознание, приучить людей к следованию ясному, публичному, равному для всех моральному правилу и правовому закону. Состоит ли роль повседневности как фундаментального элемента образа жизни и сознания
«среднего класса» помимо всего прочего в этом упорядочивающем, стабилизирующем влиянии? Лишь при ответе на данный вопрос реабилитация повседневности будет социально оправданной философской задачей.
2. Аспекты и акциденции (случайное в противоположность существенному) повседневности
В поисках определения повседневности мы предложим перечень некоторых признаков, вытекающих из особенностей соответствующих подходов к анализу этого феномена.
Повседневность как наиболее хорошо изученный социологический феномен выступает в форме усредненного общественного мнения, измеренного с помощью репрезентативных опросов. К примеру, современное российское повседневное сознание характеризует набор такого рода мнений: политики и бизнесмены в основном жулики; народ в массе живет плохо; пенсии должны быть не ниже прожиточного минимума; образование и медицина должны быть в основном бесплатными; приватизация оказалась «при-хватизацией»; Курильские острова нельзя отдавать Японии; смертную казнь следует сохранить; В. В. Путин — самый авторитетный политик и т. д.
Повседневности в качестве психологического феномена соответствует набор неизменных поведенческих реакций на изменяющееся окружение. Так, водитель притормаживает при виде результатов автоаварии; мужчина провожает взглядом женщину в мини-юбке; женщина кричит при виде мыши; младенец улыбается при виде матери и т. д.
Языковой срез повседневности объединяет в себе синтаксические, семантические и прагматические структуры естественных языков в исторически и географически определенных социокультурных контекстах с акцентом на особенности дискурса, построения текста и учета контекста в стандартных ситуациях.
Социально-антропологический ракурс повседневности — это кумулятивный опыт группы, в котором осуществляется постепенный прирост содержания в ходе решения стандартных проблем в контексте проживания повторяющихся
структурно-подобных ситуаций. Группа транслирует этот традиционный опыт при посредстве политических лидеров, руководящих процессом социализации новых членов.
В когнитивно-социологическом аспекте повседневность выступает как социальное использование результатов культурного творчества. Индивидуальные творческие достижения (новые технологии, произведения искусства, философские, религиозные идеи и т. п.), обязанные определенным авторам и знаменующие собой разрыв культурной преемственности, приобретают в процессе социального использования интерсубъективную форму и закладывают фундамент традиционных механизмов.
В методологическом плане повседневность являет себя как результат аналитической процедуры, благодаря которой она предстает в качестве статического образа мира, в котором искусственно приостановлены креативные, инновационные процессы и выделяются исключительно стабильные, не подвергаемые сомнению основания жизнедеятельности человека (традиции, ритуалы, стереотипы, категориальные системы).
С трансцендентальной точки зрения (с точки зрения бытия, выходящего за сферы эмпирического мира) повседневность представляет собой «оповседневливание» (М. Вебер) архетипа. Так, боги и герои древних мифов служили регулятивными ресурсами праздничных церемоний и жертвенных ритуалов, а становясь литературными персонажами мифа, превращались в источники знания, навыков и норм повседневного поведения. Одновременно повседневность са-крализирует (наделяет предметы, вещи, людей священным содержанием) феномены обыденной жизни, придавая им статус повседневных мифов.
Наконец, — last but not least — экзистенциальное измерение повседневности состоит в ее способности «переваривать» пограничные ситуации, превращать их из источника страха и отчаяния в основу мужества и терпения. Повседневность трансформирует состояния потерянности и заброшенности в мире в нахождение-себя-в-мире.
Повседневность — понятие-проблема, неизбежно связанное с рядом фундаментальных
парных оппозиций. Заблуждение и истина, сущее и должное, профанное и сакральное — аналоговые пары, терминологическое различие которых связано с различием предметных областей. Эти полюса образуют в культуре два измерения, которые мы обозначим как повседневность и миф. В их взаимодействии и напряженном противостоянии протекает вся человеческая жизнь, содержание которой определяется приближением и удалением от полюсов, меняющейся ориентацией на одно или другое направление. Повседневность, дабы обрести смысл, нуждается в отсылке к истокам и прототипам; она требует создания мифа и мифического обоснования. Философия и гуманитарные науки постоянно делают повседневность в ее разных формах объектом своего исследования, постоянно колеблясь между низведением повседневности к рутинному сознанию и практике и возвышением ее до интегрального мифоподоб-ного горизонта, свойственного современности.
3. Обыденное знание, естественный язык, философия здравого смысла
Г. Гадамер, подчеркивая важность анализа повседневности, причисляет к основным гуманистическим понятиям (sensus communis) понятие common sense, в котором философски тематизи-руются отношения действительности, являющиеся предметом гуманитарных наук2. В этом смысле оно относится к «европейским ключевым поня-тиям»3 — таким как разум, вера, традиция, личность и т. п.
Однако современные философы, по-видимому, наиболее преуспели не столько в позитивно-систематическом, сколько в историко-философском и этимологическом рассмотрении понятий и терминов, касающихся повседневности. Такой анализ нередко сводится к изящному обоснованию тезиса о том, что в основе философии и науки лежит здравый смысл как древняя, донаучная мудрость, — идея, выраженная еще стоиками в их рассуждениях о Золотом веке4.
Эпоха Возрождения вносит весомый вклад в разработку данной темы. Николай из Кузы создает «Простецкие диалоги» («Laiendialoge», 1450) — беседы между «идиотом» и схоластом,
в которых неожиданно обнаруживается природная, Богом данная мудрость «простеца», позволяющая ему успешно разбираться в сложных проблемах и отличающая настоящего философа (по образу Франциска Ассизского) от школьного профессора философии. Философская реабилитация «простеца» выступает здесь как возврат к античной традиции. Эразм Роттердамский, Мартин Лютер, Томас Мор обосновывают sensus
communis как общую всем людям силу рассудка. Петрарка, Фракастро, Бокаччо, но также Леонардо да Винчи и Галилей подчеркивают необходимость перехода с ученой латыни на национальный, повседневный и понятный народу язык. Эта тенденция Возрождения образует диалектическое противоречие с тенденцией «гуманистического буквоедства».
Благодаря этому выкристаллизуются три слоя значений common sense:
- позитивное значение — общая всем людям фундаментальная познавательная способность;
- ценностно-нейтральное значение — общее, а следовательно, не что-то особенное, выдающееся, но и не низшее в человеке;
- негативное значение — общая, в том числе и самым ничтожным людям, способность.
Новое время продолжает разработку понятия по указанным направлениям (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Вико, А. Шефтс-бери). Особое значение эта проблематика приобретает для философии здравого смысла шотландской школы (Т. Рид, Дж. Битти), которая представляет собой попытку рассмотреть здравый смысл как способность, обеспечивающую доступ к непосредственным и всеобще-очевидным принципам. Однако если допустить, что принципы здравого смысла являются принципами человеческого мышления в целом, в том числе и дискурсивного разума, а философия в сущности есть разумное мышление, то и философия должна основываться на принципах здравого смысла, т. е. философия, задача которой состоит в разработке принципов, должна исходить из этих самых принципов как предпосылок. При этом принципы распадаются на те, которые предпосылаются, и те, которые обнаруживаются и исследуются.
Дальнейшая типологизация принципов приводит к логическим проблемам, препятствующим построению непротиворечивой системы.
К началу XX века в англо-саксонской философии идеалистические школы в основном вытесняются реалистическими. Свой вклад в позитивную разработку данной темы внес и американский прагматизм (Ч. Пирс, У Джеймс). Дальнейшее развитие проблематики «здравого смысла» характеризуется не столько теоретико-познавательными вопросами классического типа, сколько вниманием к конститутивным условиям познания и мышления. В первую очередь стоит здесь упомянуть лингвистическую философию, которая в силу своего обращения к «философии повседневного языка» и «теории речевых актов» тематизировала естественный язык и тем самым убеждения, свойственные «здравому смыслу» (поздний Витгенштейн, Г. Райл, Дж. Остин).
Обратим внимание на одно существенное обстоятельство. Common sense, bon sens, gesunder Menschenverstand — понятия, имеющие два лица; в дескриптивном повседневном словоупотреблении, а порой и в философском, они обозначают мнения, чувства, идеи и способы поведения, предполагаемые у каждого «здравомыслящего» человека. Как таковые они всегда связаны с конкретно-исторической общностью людей, с определенными культурными традициями. Однако как только они начинают играть определенную нормативную роль в системе обоснования той или иной концепции или идеи, их постигает судьба всех прочих категорий: апелляция к этим словам и понятиям превращает их во вневременные, внеисторические инстанции. И тогда они немедленно становятся объектом философской критики.
4. Миф и повседневность
Различие повседневного и неординарного, как уже упоминалось, в сущности генетически обязано противоположности профанного и сакрального, хотя и не исчерпывается им. В современном глубоко секуляризированном мире место мифа — если не на задворках, то уж по крайней мере на периферии культуры, миф утратил ри-
туальное измерение и превратился в мифологию — чисто лингвистический феномен. Однако в прошлом, откуда берут свои истоки едва ли не все современные формы культуры — искусство, религия, мораль, философия, наука, — миф представлял собой многообразную и сложную структуру. Его образовывала совокупность архэ5, историй о происхождении и жизни богов и героев, а в более общем смысле — культурных схема-тизмов, обладающих нуминозным содержанием6, т. е. высокой аффективной суггестивностью, вызывающих священный ужас и ошеломленное поклонение. Едва ли не все содержание греческих мифов укладывается в краткий перечень архэ — Зевса, Европы, Геракла, Агамемнона и Елены.
Каждое архэ обладает трехуровневой структурой. Ее первый, сакральный уровень обнаруживается в ситуациях епифании, т. е. явления бога или богоподобного героя человеку, находящемуся в определенном эмоциональном состоянии, переживающему экзистенциальную дилемму. Это часто происходило во сне, но и наяву человеку случалось слышать голоса или созерцать образы, идентифицируемые им с богами. Прогуливаясь в аркадском лесу, древний грек мог в переплетении древесных ветвей внезапно увидеть козлоногого Пана, тотчас исчезающего из виду, на вершине Синая древний еврей ошеломленно внимал невидимому Яхве, а древнему германцу в грохоте североморской бури слышались удары молота Тора. Случайный характер эпифании при посредстве природных стихий лишь отчасти позволял вовлечь этот уровень архэ в социальное бытие человека; данные события происходили в сакральном пространстве и времени. Лишь в особо важные, экстремальные моменты было допустимо напрямую, с помощью молитвы, гадания (по грому, например) или самосожжения жертвы (молнией) обращаться к богу и просить о знамении. В целом этот уровень архэ отличает непосредственная данность индивидуальному сознанию (что получает название откровения, ясновидения, интуиции) и одновременно оторванность от повседневной реальности.
Трансляция сакрального содержания мифа на уровень социальной регулярности, когда жерт-
венники стали возжигаться не молнией, а рукою жреца-иерурга, находит выражение во втором, нормативно-регулятивном уровне архэ. На этом уровне участниками архэ становятся обычные люди, правда, только в рамках ритуально-праздничной церемонии, в которой они придают себе облик нуминозных сущностей и воспроизводят присущие им способы поведения. Здесь миф служит структурированию социального пространства и времени, а также регулярной эмоциональной стимуляции человека в момент смены способов деятельности, изменения социального статуса, родственных отношений и т. п. В телетусовке «Двадцать лет без Высоцкого» отмечались современные культурные светила и политические фигуры, исполняя песни и предаваясь воспоминаниям. С определенными неточностями можно понять этот уровень архэ по аналогии с тем, что называется «практически-духовным знанием» (сознанием).
Наконец, третьим, оперативно-функциональным измерением архэ является трансляция мифа на уровень жизненных задач, формулируемых на чисто профанном языке. Кузнец кует меч, взывая к учителю-Гефесту и воспроизводя в своем сознании все, что он знает из мифа о его искусстве. На этом уровне миф растворяется в профан-ной деятельности, сливается с ней; сегодня что-то подобное мы обнаруживаем в том, что получает название «практического познания».
Итак, повседневность — это результат «оповседневливания» сакральных архетипов (если использовать этот, «ужасный», по словам Х. Бардта, термин М. Вебера). И вместе с тем повседневность — это относительно автономная сфера, в которую вторгаются до определенной степени все формы культуры: мораль, искусство, наука, техника. Быть может, именно синкретизм повседневности и образует ее специфику.
Возьмем простейшие жизненные ситуации, в которых человек постоянно пребывает. Одной из них является трудовая деятельность, занимающая значительную часть времени. Нам нет нужды обращаться к экстремальным профессиям (речь не идет о военном, журналисте, биржевом маклере или шахтере), достаточно взять самые распро-
страненные — учителя, врача, продавца. Однако и в них рутина неизбежно соседствует с нестандартными ситуациями. Сколько раз за день учитель «выходит из себя», не в силах справиться с учениками или заинтересовать их? Сколько страданий и трагедий наблюдает врач, порой не в состоянии помочь? Как продавцу не обхамить и не обсчитать покупателя несмотря на накапливающуюся усталость и раздражение? При этом успешно преодолевая конфликты с начальством и сослуживцами, продвигаясь по службе, зарабатывая на жизнь? И вместе с тем почти у каждого есть возможность связать свою деятельность с какой-то высокой идеей, что освещает ее волшебным светом и придает ей глобальный смысл и ценность. Это — так называемое призвание, профессиональная легенда, обеспечивающие внутреннюю мотивацию деятельности. Их символы — Сократ или Песталоцци, Гиппократ или Парацельс, Садко или Синдбад — сакрально-мифологические персонажи, изредка всплывающие из глубин подсознания и приносящие с собой эмоциональное обогащение.
Стабильные условия, установленные пространственно-временные и причинно-следственные границы определяют повседневное бытие и одновременно вытекают из природы последнего. Одна из важнейших функций сакральных мифических структур также в том, чтобы задавать границы повседневного бытия. При этом сакральное измерение бытия постоянно включается при выходе из границ повседневности и в целях такого выхода. Поэтому элементы мифа, магии, религии, искусства, творчества, будучи иной раз незаметно вкраплены в структуры повседневности, образуют возможности выходы за ее пределы, являются окнами в иные, трансповседневные миры.
5. На страже повседневности.
Притча о человеке дождя
Общим местом ряда исследований повседневности является внимание к феноменам, якобы явно выпадающим из обыденного мира. Среди прочего, речь идет о магии, колдовстве и прочих оккультных феноменах, с одной стороны, и о наркотическом опыте, патопсихологических
состояниях — с другой. В этих явлениях странным образом преломляется повседневность, поворачиваясь своей другой, необычной стороной. Обзор таких исследований не является в данный момент нашей задачей7. Вместо этого мы обратимся к примеру.
В титулованной «Оскарами» американской трагикомедии «Человек дождя» (реж. Б. Левинсон, 1988) главные персонажи, которых играют Дастин Хоффман и Том Круз, раскручивают довольно замысловатый сюжет. Бойкий и циничный «юппи», Чарли Бэббит (Круз), промышляющий в сфере торговли автомобилями, запутывается в кредитах и тут внезапно узнает о смерти отца. Нимало не огорчившись потерей нелюбимого предка, контакт с которым утрачен уже давно, он рассчитывает с помощью наследства поправить пошатнувшиеся дела. Однако адвокат сообщает ему, что его часть наследства исчерпывается розовыми кустами и шикарным «олди» — «бьюиком», на котором ему в юности запрещали ездить. На основе же остальных трех миллионов долларов (!) создан некий фонд, которым распоряжается доверенное лицо — директор психиатрической лечебницы. Внезапно выясняется, что среди его пациентов — давно забытый старший брат Чарли, Реймонд Бэббит (Хоффман), страдающий аутизмом — тяжелой формой нарушения коммуникации с окружающими людьми. Чарли похищает Реймонда, надеясь выторговать у директора клиники отступные в счет наследства, которое фактически завещано больному брату. Они путешествуют по Америке в «бьюике», знакомятся, конфликтуют и по-своему привязываются друг к другу. Реймонд, обладая уникальной гипертрофированной памятью, помогает Чарли вернуть срочный кредит с помощью огромного выигрыша в Монте-Карло. Чарли, решая самостоятельно заботиться о брате, все же возвращает Реймонда в лечебницу, поскольку убеждается, что в ней ему будет лучше.
Двух братьев и вырисовывающегося в их тени отца — очень разных людей — объединяет одна родовая черта: по сути они все аутисты. Только у Реймонда эта черта проявляется наиболее необычно и наглядно — в нелепых повад-
ках, заторможенности, истерике, паническом страхе любых перемен. Отец, заточивший одного сына в лечебницу, а другого фактически выгнав из дома, в сущности, тот же классический пациент, безумно зацикленный на оберегании своей спокойной повседневности.
Наконец, Чарли, лгущий на каждом шагу, использующий всех окружающих в своих целях и не воспринимающий их как субъектов коммуникации, живущий в бессмысленной круговерти жестокого бизнеса, столь же плотно изолирован от интерсубъективной реальности, от окружающих людей, как и его родные.
Однако где-то в глубине сознания Чарли существует потребность в более прочной основе собственного бытия. Несправедливость завещания потому и мучает его не только потерей денег, но и непонятностью самого намерения отца оставить деньги человеку, неспособному ими распоряжаться. Тайна этого замысла — а по существу головоломки или притчи, придуманной его отцом и требующей интерпретации, — проясняется постепенно, по мере того, как Чарли начинает ощущать узы, соединяющие его с братом (а тем самым косвенно и с отцом), и то обстоятельство, что смысл жизни не исчерпывается деньгами. Тем самым история с наследством, так внезапно ворвавшаяся в повседневное существование Чарли,
оборачивается своей противоположностью — обретаемыми вновь впечатлениями детства, трепетными воспоминаниями об утраченной безмятежной гармонии и душевном уюте, о песенке, которую пел ему брат Реймонд, слившийся в его детском сознании со сказочным персонажем, «человеком дождя» (Rain man).
Повседневность умирает в безумии, если не черпает силы из мифа, — вот на какую мысль наводит эта история.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Касавин И. Т. Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка. М., 2008. С.93.
2 См.: Гадамер Г. Истина и метод. М., 1988. С. 61-71.
3 PustH. Common sense bis zum Ende des 18. Jahrhunderts // Europäische Schlüsselwörter. Vol. 2. München, 1964. S. 92-140.
4 См., напр.: Dihle A. Vom gesunden Menschenverstand // Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Heidelberg, 1995.
5 Архэ — понятие и термин (др.-греч. 'начало', 'основа'), введенное В. Гренбехом в книге «Духовная история Греции» и истолкованное К. Хюбнером в более широком гносеологическом смысле в «Истине мифа» (М., 1996).
6 Нуминозное — термин Р. Отто («Священное» (1917), СПб., 2008, пер. с нем.), использованный К. Хюбнером в «Истине мифа».
7 См.: Weingarten E., Sack F., Schenkein J. (Hg.) Ethno-methodologie. Beiträge zu einer Soziologie des Alltagshandelns. Fr./M., 1979; Albersmeyer-Bingen H.M. Common sense. Ein Beitrag zur Wissenssoziologie. Bonn, 1985.
[предлагаем вашему вниманию]
Пассов Е. И. Терминосистема методики, или Как мы говорим и пишем. — СПб.: Златоуст, 2009. — 124 с.
Проблема терминосистемы методики остаётся до сих пор «неподнятой целиной». Удивляться тут нечему: гносеологическая дистрофия как органический недуг методики даёт о себе знать. Но всё-таки: почему в этом направлении не делается даже хоть сколько-нибудь серьёзных попыток?
Разумеется, в отдельных работах авторы вскользь касаются терминологии как таковой, обращаются к какому-то понятийному аппарату. Но пока этот аппарат выглядит как эклектическое месиво, составленное из традиционной (в смысле — устаревшей) терминологии, бездумных терминологических заимствований (англицизмов), терминоидов и квазитерминов, субъективных порождений и вкраплений профессионального жаргона.
Книга состоит из 4 частей: I часть — патогенез методического дискурса;
II часть — проблема терминосистемы: можно ли её решить?
III часть — основные термины коммуникативного иноязычного образования: эскизы словаря методики;
IV опыт просветительства (статьи из журнала «Коммуникативная методика»).
Книга полезна как учителям, так и тем, кто интересуется теорией проблемы.





 CC BY
CC BY 168
168