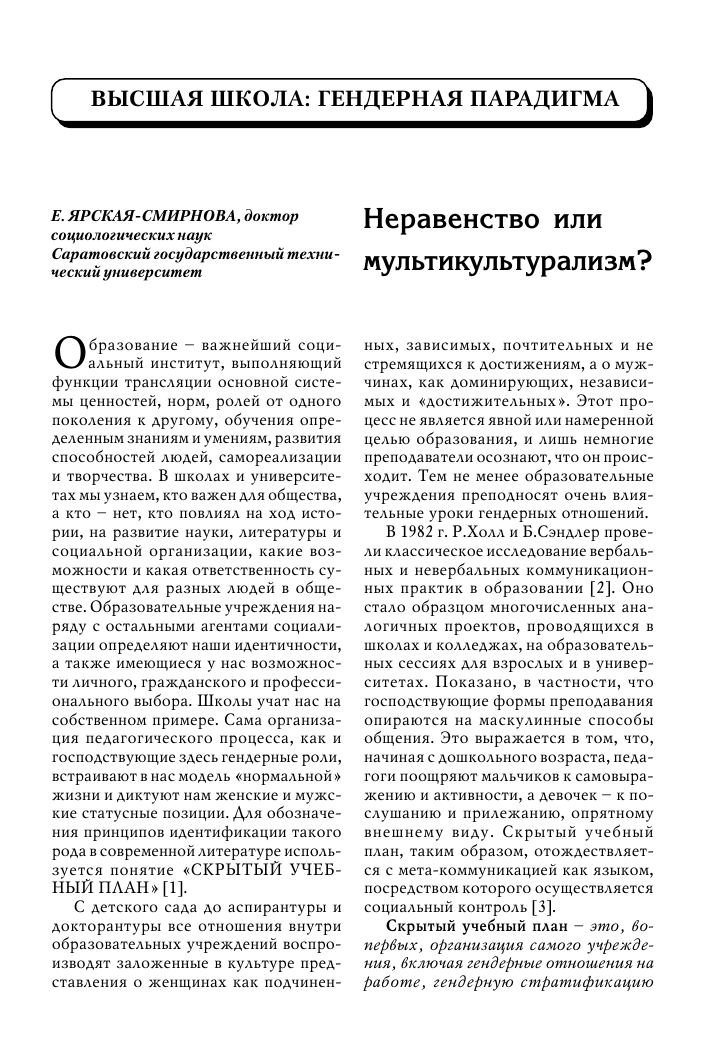' ВЫСШАЯ ШКОЛА: ГЕНДЕРНАЯ ПАРАДИГМА ^
Е. ЯРСКАЯ-СМИРНОВА, доктор социологических наук Саратовский государственный технический университет
Неравенство или мультикультурализм?
Образование - важнейший социальный институт, выполняющий функции трансляции основной системы ценностей, норм, ролей от одного поколения к другому, обучения определенным знаниям и умениям, развития способностей людей, самореализации и творчества. В школах и университетах мы узнаем, кто важен для общества, а кто - нет, кто повлиял на ход истории, на развитие науки, литературы и социальной организации, какие возможности и какая ответственность существуют для разных людей в обществе. Образовательные учреждения наряду с остальными агентами социализации определяют наши идентичности, а также имеющиеся у нас возможности личного, гражданского и профессионального выбора. Школы учат нас на собственном примере. Сама организация педагогического процесса, как и господствующие здесь гендерные роли, встраивают в нас модель «нормальной» жизни и диктуют нам женские и мужские статусные позиции. Для обозначения принципов идентификации такого рода в современной литературе используется понятие «СКРЫТЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН» [1].
С детского сада до аспирантуры и докторантуры все отношения внутри образовательных учреждений воспроизводят заложенные в культуре представления о женщинах как подчинен-
ных, зависимых, почтительных и не стремящихся к достижениям, а о мужчинах, как доминирующих, независимых и «достижительных». Этот процесс не является явной или намеренной целью образования, и лишь немногие преподаватели осознают, что он происходит. Тем не менее образовательные учреждения преподносят очень влиятельные уроки гендерных отношений.
В 1982 г. Р.Холл и Б.Сэндлер провели классическое исследование вербальных и невербальных коммуникационных практик в образовании [2]. Оно стало образцом многочисленных аналогичных проектов, проводящихся в школах и колледжах, на образовательных сессиях для взрослых и в университетах. Показано, в частности, что господствующие формы преподавания опираются на маскулинные способы общения. Это выражается в том, что, начиная с дошкольного возраста, педагоги поощряют мальчиков к самовыражению и активности, а девочек - к послушанию и прилежанию, опрятному внешнему виду. Скрытый учебный план, таким образом, отождествляется с мета-коммуникацией как языком, посредством которого осуществляется социальный контроль [3].
Скрытый учебный план - это, во-первых, организация самого учреждения, включая гендерные отношения на работе, гендерную стратификацию
учительской профессии. Во-вторых, сюда относится содержание предметов, а в-третьих, стиль преподавания. Эти три измерения скрытого учебного плана не просто отражают тендерные стереотипы, но и поддерживают тендерное неравенство, отдавая преимущество мужскому и доминантному и недооценивая женское и нетипичное.
Остановимся на особенностях социального устройства образовательного учреждения. Во-первых, образовательные учреждения отражают гендерную стратификацию общества и культуры в целом, демонстрируя на своем примере неравный статус женщин и мужчин. Как правило, преподаватели, секретари и обслуживающий персонал - женщины, а директор школы или ректор университета - мужчина. Педагогический состав учреждений начального и среднего образования на 90% состоит из женщин. С повышением статуса образовательного учреждения от детского сада к университету число женщин-педагогов уменьшается, хотя для современной России в целом характерна тенденция феминизации высшего образования и науки. Среди покинувших в 1994 году вузовскую научную работу 86% - мужчины, 14% - женщины [4]. Вузовскую работу покидают сегодня в основном сотрудники-мужчины, обладающие средней и высшей квалификацией. И все же среди преподавателей вузов мужчины сегодня представляют две трети кадрового состава, а менее оплачиваемый состав научных лабораторий почти наполовину состоит из женщин.
По данным социологических исследований российской системы образования, проведенных в 1995-1997 годах Центром социологических исследований Министерства общего и профессионального образования РФ и Центром социального прогнозирования и маркетинга [5], в кадровом составе гумани-
тарных вузов и факультетов доля мужчин составляет 39.4%, в педагогических вузах занято 30% мужчин, в экономических (факультетах) - 48.4%, в технических - 57.1%. При этом доля женщин значительно выше среди молодых преподавателей, а мужчин - среди преподавателей старшего возраста (до 30 лет
- 69% женщин и 31% мужчин, 31-40 лет
- 65% женщин и 35% мужчин, 41-50 лет
- 47% женщин и 53% мужчин, 51-60 лет
- 43% женщин и 57% мужчин и старше 60 лет - 14% женщин и 86% мужчин). Базовый средний оклад преподавателей-мужчин на 35% выше, чем средний оклад преподавателей-женщин.
Во-вторых, образовательные учреждения не только предоставляют, но и ограничивают возможности карьеры. Ведь учащиеся видят на примере тех, с кем встречаются каждый день, что мужчины - это начальство, а женщины - подчиненные. Кроме того, некоторые предметы и дисциплины четко идентифицируются у студентов и школьников с полом преподавателя. Тем самым программируется и выбор профессии в зависимости от пола. Те учебные заведения, руководителем которых являются женщины, предоставляют чрезвычайно важный источник идентификации для студенток, которые имеют возможность видеть женщину в роли руководителя, а студенты-юноши убеждаются в том, что на ответственном посту могут быть как мужчины, так и женщины. В США есть много университетов, где работают и обучаются только женщины или только расовые меньшинства. На первый взгляд, такие учебные заведения воспроизводят сегрегацию по признаку пола и расы, однако именно в женских и «черных» колледжах у студентов и преподавателей появляется возможность достичь успеха на основе своих способностей и желания, а не быть оттесненным в сторону из-за своих пола или
цвета кожи. В таких учебных заведениях женщина или мужчина с темным цветом кожи, будучи профессором или ректором, может выступать для студентов ролевой моделью успеха.
В-третьих, в школах и училищах на уроках труда закрепляются стереотипы женской и мужской домашней работы. Соответственные роли усваиваются будущими учителями не только в их семьях, но и в педагогических вузах.
Скрытый учебный план присутствует в содержании предметов. Американские исследователи, начиная с 1970-х гг., демонстрировали наличие сексизма в учебниках и в том языке, который используется на занятиях. В результате многих лет обсуждений публиковавшихся отчетов и рекомендаций планы и содержание учебников постепенно корректировались. В России таким исследованиям и изменениям еще предстоит состояться. Каковы же признаки гендерного неравенства, «запрятанного» в текстах учебных пособий, убранстве аудиторий, языке занятий?
Прежде всего, мужчины, в частности представители доминантной расовой, этнической, конфессиональной группы, представлены в качестве нормы, стандарта. Проведя анализ почти трех тысяч историй и рассказов, используемых в школьных учебниках, американские исследователи пришли к заключению, что соотношение числа упомянутых в них мужчин к числу женщин было три к одному. В биографиях, приводимых в учебных материалах, число мужчин превысило число женщин в шесть раз. Если мужчины - преобладающие персонажи учебных текстов, то школьники убеждаются в том, что доминирование мужчин - это и есть норма, общественный стандарт. Добавим, что среди школьных учителей в России, как и в США, преобладают женщины. Однако персонажи историй - не менее, а порой и более важные ис-
точники идентификации. Мужские персонажи оказываются более видимыми, активными и включенными в те сферы жизни, которые считаются весьма существенными для общества.
Кроме того, все крупнейшие этические учения и теории когнитивного развития основывались на исследованиях, касающихся исключительно мужчин и особенностей мужской социализации, несмотря на то, что в это же самое время женщины социализировались в абсолютно других условиях и по иным принципам. Эти различия в способах социализации, в правилах воспитания девочек и мальчиков вели к разным моральным ориентирам, тогда как теории преподносили «мужские» ценности как универсальные, единые для всего человечества. Самыми очевидными приоритетами феминной социализации, имеющими непосредственное отношение к оформлению нравственной позиции субъекта, являются забота о других и отзывчивость, внимание к их нуждам. Для маскулинной социализации, в свою очередь, характерен акцент на справедливости в отношении других и уважении их прав.
Неудивительно, что теория, созданная на основе жизненного опыта мужчин, измеряла и оценивала женщин как менее зрелых и менее приспособленных к жизни в обществе. Тем самым моральное развитие мужчин представлялось как норма, и любой вопрос о множественности форм человеческой нравственности просто исключался из обсуждения.
Стереотипное изображение мужчин как нормы, активных и успешных, а женщин как невидимок (их просто нет, они отсутствуют в репрезентации) или маргинальных, пассивных и зависимых продолжает воспроизводиться в учебных материалах и специализированных источниках, применяемых в обучении на уровне среднего специального и
высшего образования. Тендерными стереотипами пронизан букварь [6], учебники литературы за 7-9 классы не содержат ни одного упоминания о женщинах-писательницах и поэтах. В учебнике А.С. Батуева, Л.В. Соколовой и М.Г. Левитина «Человек. Основы физиологии и психологии» (1998) для девятого класса школ на рис. 60 показан общий вид мышечной системы человека, а на рис.72 -изменение пропорций тела в процессе созревания. Оба рисунка изображают тело человека мужского пола. Изображение женского тела присутствует лишь в разрезе половой системы на рис.66. Этот же учебник предлагает следующие примеры одаренности в параграфе «Развитие способностей»: Н.А.Римский-Корсаков, И.Е.Репин, В.И.Суриков, В.А.Серов, С.Т.Аксаков, И.А.Гончаров, А.П.Бородин (С.296). В этом списке одаренных людей, как видим, нет ни одной женщины. Параграф «Волевые качества личности» описывает стремление человека достичь цели, невзирая на препятствия: «Представим, что вы мечтаете стать в будущем летчиком, или моряком, или полярным исследователем. Для того, чтобы ваши мечты превратились в реальность, нужно выполнить много условий: хорошо учиться, быть физически развитым, много знать и уметь и т.п____Воля участвует в формировании многих качеств личности - таких, как целеустремленность, настойчивость, выдержка, смелость, решительность, дисциплинированность и др.» (С.301-302). Примеры профессий и упоминание физической силы вызывают ассоциацию с мужским жизненным опытом. Авторы учебника заявляют напрямую: «Ответственность, чувство долга, физическая и нравственная сила, смелость, решительность и надежность - эти качества во все времена считались неотъемлемым атрибутом мужчины» (С.319). Тем самым способности к твор-
честву, науке, вообще к любым достижениям в общественной жизни приписываются мужчинам. В то же время о женщинах речь идет лишь в разделе «Подготовка мальчиков и девочек к семейной жизни». Здесь подробно описывается женское предназначение -«Развитие девочки как будущей матери начинается еще с раннего детства; это проявляется в особенностях ее поведения, специфике интересов, выборе игр. Она любит играть в куклы: баюкает их, одевает, купает, возит в коляске, готовит для них еду и устраивает уютное жилище» (там же). Авторам будто бы невдомек, что дети обучаются ген-дерным ролям на примере взрослых -родителей и знакомых - Значимых и Обобщенных Других.
Каковы последствия такой неадекватной репрезентации женщин в учебных материалах? Во-первых, учащиеся могут незаметно для самих себя прийти к выводу, что именно мужчины являются стандартом и именно они играют наиболее значимую роль в обществе и культуре. Во-вторых, тем самым ограничиваются знания учащихся о том, какой вклад внесли женщины в культуру, а также о тех сферах нашей жизни, которые по традиции считаются женскими. В-третьих, на индивидуальном уровне стереотипы, содержащиеся в образовательных программах, в большей степени поощряют на достижения мужчин, тогда как женщины выучивают модели поведения, в меньшей степени соотносящиеся с лидерством и управлением.
Третья сторона скрытого учебного плана состоит в том, что коммуникационные процессы в образовательных учреждениях недооценивают «женский» способ учиться и выражать знания. Господствующие формы преподавания опираются на маскулинные способы общения. Прежде всего это выражается в том, что, начиная с дошкольного
возраста, педагоги поощряют мальчиков к самовыражению и активности, а девочек - к послушанию и прилежанию, опрятному внешнему виду. Этот факт подтвержден выводами американских исследователей о том, что с мальчиками проводится больше индивидуальных занятий, им посвящается больше времени, чем девочкам [7]. Кроме того, российскими исследователями было отмечено, что наши соотечественники среди школьных предметов важнейшими для мальчиков считают математику, физику, физкультуру, компьютерные знания, а для девочек - домоводство, литературу и историю, этику и психологию семейной жизни, половое воспитание. А как быть с тем обстоятельством, что среди девочек бывает так много отличниц? Наши психологи успешно справились и с этим парадоксом, приписав интеллектуально сильным девочкам ярлык психической ненормальности: согласно Л.Волынской, слишком многие отличницы имеют заниженную самооценку, в них живет глубинное и плохо осознаваемое недоверие к самим себе, и они якобы потому и стараются быть отличницами, чтобы компенсировать этот свой недостаток, скрыть его от себя, приобрести значение в собственных глазах и в глазах окружающих. По мнению автора статьи, отличная успеваемость у девочек является целиком следствием их покладистости, послушания и прилежания - качеств, ведущих к пассивности и безыницитивности и затрудняющих отношения с противоположным полом [8].
На существующее положение вещей, например, на стойкость гендерных стереотипов о способностях и образовательных предпочтениях женщин и мужчин, влияет и популяризация выводов научных исследований. В свою очередь, многие ученые строят свои гипотезы, инструментарий и выводы на пре-
дубеждениях к людям другого пола, не замечая сексистских установок в своем сознании. И появляются популярные статьи, научные и научно-популярные издания, в которых можно встретить следующие сентенции: «Мужчина любит глазами, а женщина - ушами», «Мужчина склонен к полигамии, а женщина к созданию крепкого семейного гнезда», «Сто различий между мужчинами и женщинами». Лучшим примером необъективной теоретической модели является психоаналитическая теория, сформулированная Фрейдом, на основе которой проектируются исследования, устанавливающие зависть к пенису, мазохизм или незрелость супер-эго у женщины. Авторы таких исследований изначально уверены, что пассивность является частью женской личности и женской сексуальности, и в связи с этим женская активность и независимость или мужская чувственность и преданность трактуются как патология [9].
Недооценка женщин проявляется особенно ярко в фактах сексуальных домогательств - как в прямом (физический контакт без обоюдного согласия), так и в косвенном виде (непристойные шутки, намеки, жесты, взгляды, другие формы оскорбительного поведения). Здесь срабатывает стереотипное отношение к женщинам или мужчинам в деловой обстановке как потенциальным сексуальным объектам, партнерам по интимным отношениям. Если между супругами или сексуальными партнерами такая установка естественна, то на работе она дискриминирует. Статья под названием «Почему вас не слышит муж?» в «Комсомольской правде» от 9.07.1999, подготовленная с участием «специалиста по этикету», может служить иллюстрацией сек-систского дискурса. Подзаголовки вторят названию: «Не кричите на мужиков», «...и начальников», «Он говорит
- она тает». Основной тезис - в общении с мужчиной женщины проигрывают, когда говорят высоким (а значит нервным) голосом, поскольку «когда женщина доказывает свою правоту визгливыми криками, мужчина способен думать только об одном: когда она наконец заткнется?!» Мужчинам в общении с женщинами обязательно следует переходить на низкие тона, ведь «женщина, как правило, сразу чувствует, что мужчина понизил голос. Она может еще не отдавать себе отчета в том, что происходит, но реагировать на него будет уже на как на собеседника, а как на самца. ... За десять минут ее можно заставить влюбиться». В свою очередь, женщинам стоит перейти на более низкий, грудной, «теплый» тон, и «у мужчины уже создается впечатление, что он говорит с сексуальной женщиной». Именно на таком знании «этикета» во многих, в том числе и в образовательных, организациях строятся отношения, которые унижают достоинство человека и которые можно классифицировать как сексуальные домогательства. Если последовать упомянутым советам «специалиста по этикету» в одном из университетов США, то запросто можно не только лишиться должности, но и попасть под уголовную ответственность за нарушение прав личности.
Стиль преподавания, формы коммуникации в учебной аудитории также влияют на гендерную социализацию учащихся. Например, экзамены в форме тестов, индивидуальные доклады, соревнования за оценки поощряют пресловутую «мужественность». От этого страдают как девочки, так и мальчики, хотя бы потому, что у тех и у других не развиваются навыки критического мышления, умения задавать вопросы, коллективно обсуждать и решать проблему. Однако скрытый учебный план может быть изменен в сторону демо-
кратии и гуманизма. Новые возможности для женщин и мужчин, принципы гендерного равенства в образовании могут осуществляться в пространстве игры и свободы, где отказываются от муштры, агрессии и дрессировки в пользу мягкости, деликатности и уважения. Учащийся и преподаватель выступают партнерами, которые совместно и активно планируют изменения, контролируют успехи и оценивают качество достигнутого, открыто обсуждают конфликты и находят способы их разрешения. Поэтому сама организация учебного процесса предполагает открытость и гибкость, возможность экспериментов и альтернативных решений наряду с традиционными. Малый размер групп обеспечивает индивидуальный контакт и работает на сокращение властной дистанции. Таким образом оказывается возможным дифференцировать задачи в зависимости от уровня подготовленности, при этом как со стороны учителя, так учеников важны терпимость и понимание другого, возможно, более слабого или нетипичного.
В западных образовательных учреждениях подобные моменты привлекли к себе внимание преподавателей, начиная с 1980-х гг., особенно на факультетах женских и гендерных исследований, этнических исследований и мультикультурализма. Это способствовало тому, что академический мир становился не только более терпимым, но и более внимательным, заинтересованным в отношении многообразия и особенностей людей. Ученые стали обращать внимание на разнообразие мужчин и женщин в аспектах расы, эт-ничности, класса, религии, национальности, сексуальной ориентации, возраста и инвалидности. Мерсили Джен-кинс [10] разработала советы для вузовских преподавателей, которые желают создать атмосферу толерантнос-
ти и равноправия на своих занятиях. Университетские преподаватели могут проверить себя, воспользовавшись ее предложением, и расширить этот список, включив в него вопросы относительно инвалидов, мигрантов, этнически или культурно чужих для большинства аудитории.
Мерсили Дженкинс ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВКЛЮЧАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
ТЕКСТЫ, ЛЕКЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ
• Говорите ли Вы и используете ли Вы тексты на гендерно-нейтральном языке, применяете ли слова с отношением к обоим полам, невзирая на интенции автора текста? Если Ваши тексты содержат маскулинные формы грамматического рода [11], отмечаете ли Вы это в аудитории?
• Одинаковым ли образом относится содержание Ваших лекций к мужчинам, женщинам, людям разных рас?
• Показываете ли Вы и Ваши тексты в равной степени деятельность, достижения, проблемы и опыт женщин и мужчин, а также представителей разных рас? Если в текстах этого нет, предоставляете ли Вы дополнительный материал? Обращаете ли Вы внимание студентов на пробелы такого рода в тексте?
• Показываете ли Вы и Ваши тексты карьеру, роли, интересы, способности женщин, представителей разных рас, не стереотипизируя их? Если в Ваших текстах есть стереотипы, указываете ли Вы на них?
• Представляете ли Вы на примерах и иллюстрациях (вербальных и графических в Ваших текстах) баланс в
отношении гендера и расы? Если в текстах этого нет, отмечаете ли Вы это?
• Отражаете ли Вы и Ваши лекции ценности, свободные от предубеждений на основании пола и расы, и если нет, обсуждаете ли Вы это со студентами?
• Включают ли Ваши тексты результаты новых исследований и современные теории феминизма и расы? Если нет, рассказываете ли Вы о тех сферах, где феминизм и изучение расы и этничности модифицируют существующие представления? Даете ли Вы дополнительные библиографические указания для студентов, которые желали бы изучать эти вопросы? Рекомендуете ли Вы студентам книги, в которых освещаются эти вопросы?
• Стимулируют ли студентов Ваши экзамены и задания по самостоятельной работе к анализу характера, ролей, статуса, значимости и опыта женщин и людей другой расы?
• Становится ли ясным из Ваших текстов и материалов, что не все люди гетеросексуальны?
ИНТЕРАКЦИИ В УЧЕБНОЙ АУДИТОРИИ
• Осознаете ли Вы, что у Вас могут быть гендерные и расовые предрассудки в отношении успеваемости студентов?
• Как Вы реагируете на особенности языка/речи (акцент, диалект), которые отличаются от стандарта или от Вашего собственного произношения? Не принижаете ли Вы интеллектуальные способности и информацию говорящего?
• Сколько женщин по сравнению с мужчинами, сколько представителей разных этнических групп Вы вызываете для ответа на вопрос? Кого из студентов Вы зовете по имени? Почему?
• Какие из этих категорий студентов участвуют в занятиях наиболее часто, задавая вопросы или делая комментарии? Не является ли это диспропорциональным, и не приходится ли
Вам специально побуждать других студентов к выступлениям?
• Перебивают ли выступающего? Если да, то кто? Если одна группа студентов доминирует в интеракции, что Вы делаете по этому поводу?
• Позитивны ли Ваши вербальные реакции на студентов? Бывают ли реакции презрительные? Поощрительные? Одинаковы ли они в отношении всех студентов? Если нет, то по какой причине?
• Нет ли у Вас тенденции обращаться к одной части аудитории чаще, чем к другой? Устанавливаете ли Вы контакт глазами с одними студентами больше, чем с другими? Какие жесты, позы, выражения лица Вы используете в обращениях к мужчинам в отличие от обращений к женщинам или к людям разной расы/этничности?
В традиционной концепции образования обучение отделяется от воспитания границами учебного плана и аудиторных занятий. В современных моделях процесс обучения предполагает не только трансляцию знания, но и социально-психологическое развитие обучаемых. Наряду с обновлением технологий обучения, активизирущих самостоятельную работу студентов, важным становится формирование особой социокультурной среды школы и вуза, позволяющей осуществить гуманизацию образования, гарантировать соблюдение прав человека, удовлетворить индивидуальные потребности субъектов образовательного процесса. Скрытый учебный план в этом случае «работает» на воспитание толерантности, способствует независимому мышлению, творчеству и уважению человеческого достоинства.
Литература и примечания
1. Скрытый учебный план - калька с английского термина hidden curriculum или
hidden agenda, что можно также перевести как «скрытая повестка дня».
2. Hall R.M, Sandler B.R. The classroom climate: a chilly one for women? Washington, DC: Association of American Colleges, Project on the Status and Education of Women, 1982.
3. Stubbs M. Language, Schools and Classrooms. London: Willey, 1976.
4. Горшкова И., Беляева Г. Профессиональное самочувствие женских научно-педагогических кадров МГУ (Результаты опроса 1998 года) // Женщина. Ген-дер. Культура. - М., 1999. - С.194-207.
5. Ф.Э.Шереги, В.Г.Харчева, В.В.Сериков. Социология образования: прикладной аспект. - М., 1997.
6. Барчунова Т. Сексизм в букваре // ЭКО.
- 1995. - №3.
7. Wood J.W. Gendered Lives. Communication, Gender, and Culture. Belmont: Wadsworth Publishing Company. - 1994.
- P. 215.
8. Волынская Л. Взрослая жизнь отличниц // Семья и школа. 1997. - №5. - С.18.
9. См.критический анализ таких текстов: Ходырева Н. Как проводятся психологические исследования, или почему женщины получаются всегда такими непохожими на мужчин? // Все люди - сестры. Санкт-Петербургский центр гендерных проблем. Бюллетень №3, 1994. С.59-67; Попова Л. Психологические исследования и гендерный подход // Женщина. Гендер. Культура. М.: МЦГИ, 1999. С.119-130.
10. Jenkins M. Checklist for Inclusive Teaching. Цит. по: Sadker M. and Sadker D. Sexism in the Schoolroom of the 80's // Kesselman A., McNair L.D, Schniede-wind N. (Eds) Women Images and Realities. A Multicultural Anthology. London, Toronto: Mayfield Publishing Company. -1995. - P. 68-69.
11. Речь идет о так называемом «гипотетическом субъекте действия» в английском языке: «Человеку везде хорошо, он ко всему приспособится». В русской грамматике есть аналогичное правило: например, прилагательные в изъяснитель-
ной форме должны использоваться в мужском роде. В английском языке выбор гипотетического субъекта достаточно свободен и не предполагает корреляцию глаголов и прилагательных. Поду-
майте, можно ли на русском языке сказать или написать: «Кто-то постучала в окно»? Или: «Когда человек участвует в дискуссии, он или она может пересмотреть свою точку зрения»?
B.ВДОВЮК, доктор педагогических наук
C.РЫКОВ, кандидат педагогических наук Военный университет Министерства обороны РФ
Гендерные исследования в педагогике
(обзор литературы)
Статья сотрудников учебно-научной лаборатории гендерного образования МГУ им. М.В.Ломоносова И.Костиковой, А.Митрофановой, Н.Пули-ной и Ю.Градсковой - «Перспективы гендерного образования в России: взгляд педагога» («Высшее образование в России». - 2001. - №2.) - затрагивает важную проблему формирования нового направления в современной педагогике.
Приглашая коллег-педагогов к научной дискуссии по анализу имеющегося опыта отечественных гендерных исследований, авторы справедливо подчеркивают, что «гендерный аспект переосмысления педагогической науки и практики лежит в русле создания парадигмы «Педагогика XXI века» [1]. Ценность обозначенной проблемы для отечественной высшей школы обусловлена еще и тем обстоятельством, что в последние годы во всех областях гуманитарной науки возрос интерес к ант-ропоцентричности знания и к особенностям проявления индивидуальных особенностей личности в различных сферах общественной деятельности, в том числе - поло-ролевого социального взаимодействия.
Стремительные изменения, происходящие во всех областях социальной
жизни общества, заставили мировое научное сообщество по-иному подойти к оценке гармонии во взаимодействии полов. Усиливающаяся роль женщин в социальном управлении, в науке, медицине, воспитании, культуре и искусстве настолько очевидна, что уже не нуждается в доказательствах [2]. Женская часть населения стала важнейшим структурным компонентом трудовых ресурсов. Профессиональная деятельность женщин, как показывают последние исследования, оказывает существенное влияние на рост экономики и национального дохода ведущих стран мира [3,с.32].
Последний век ушедшего тысячелетия в этом контексте существенно изменил многие стереотипы поло-ролевой идентификации. Важнейшим феноменом этих изменений стало переосмысление места и роли женщин в различных сферах общественной деятельности. Исторический анализ рассматриваемого вопроса обнаруживает, что в различные эпохи развития человеческой цивилизации 47 женщин, будучи лидерами своих стран и наций, блестяще справлялись с обязанностями общественно-государственных правителей [4]. Современный мировой политический процесс свидетельствует, что это





 CC BY
CC BY 136
136