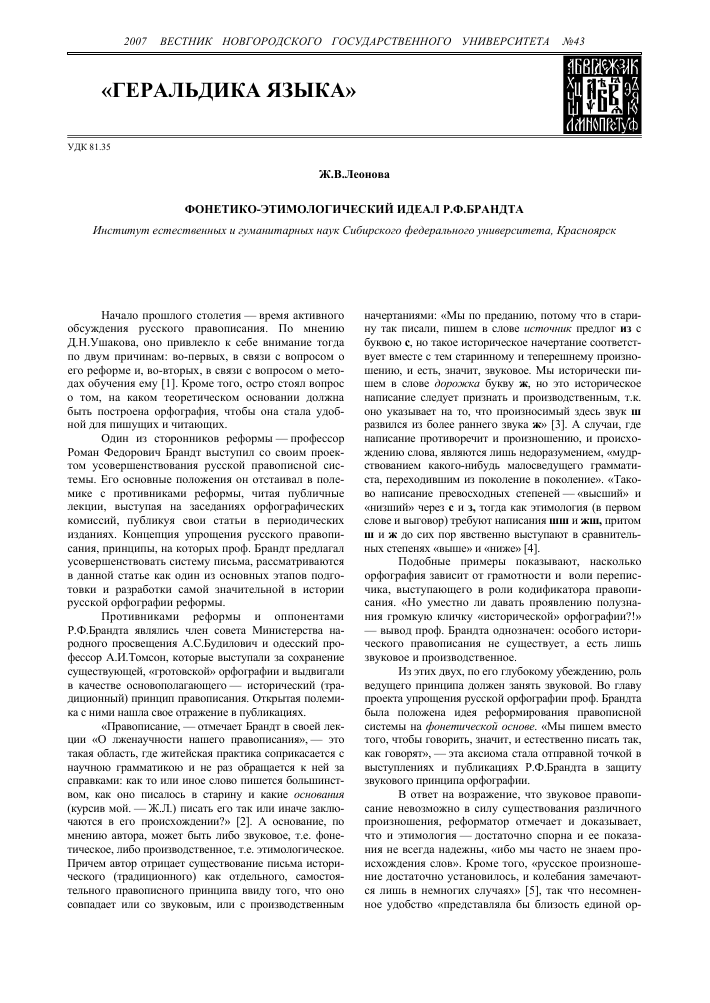«ГЕРАЛЬДИКА ЯЗЫКА»
УДК 81.35
Ж.В.Леонова
ФОНЕТИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ Р.Ф.БРАНДТА
Институт естественных и гуманитарных наук Сибирского федерального университета, Красноярск
This article is devoted to the orthographic works survey of the one of the leading linguists, lived in the beginning of the 20-th century, Professor R.F.Brandt. The purpose of the article is to analyze the principles, which he proposed for improving, simplifying the Russian orthography system.
мтмп
ХпНКЭТпА
нцІУпі я
iji иш к>
¿тім/*
Начало прошлого столетия — время активного обсуждения русского правописания. По мнению Д.Н.Ушакова, оно привлекло к себе внимание тогда по двум причинам: во-первых, в связи с вопросом о его реформе и, во-вторых, в связи с вопросом о методах обучения ему [1]. Кроме того, остро стоял вопрос о том, на каком теоретическом основании должна быть построена орфография, чтобы она стала удобной для пишущих и читающих.
Один из сторонников реформы — профессор Роман Федорович Брандт выступил со своим проектом усовершенствования русской правописной системы. Его основные положения он отстаивал в полемике с противниками реформы, читая публичные лекции, выступая на заседаниях орфографических комиссий, публикуя свои статьи в периодических изданиях. Концепция упрощения русского правописания, принципы, на которых проф. Брандт предлагал усовершенствовать систему письма, рассматриваются в данной статье как один из основных этапов подготовки и разработки самой значительной в истории русской орфографии реформы.
Противниками реформы и оппонентами Р.Ф.Брандта являлись член совета Министерства народного просвещения А.С.Будилович и одесский профессор А.И.Томсон, которые выступали за сохранение существующей, «гротовской» орфографии и выдвигали в качестве основополагающего — исторический (традиционный) принцип правописания. Открытая полемика с ними нашла свое отражение в публикациях.
«Правописание, — отмечает Брандт в своей лекции «О лженаучности нашего правописания», — это такая область, где житейская практика соприкасается с научною грамматикою и не раз обращается к ней за справками: как то или иное слово пишется большинством, как оно писалось в старину и какие основания (курсив мой. — Ж. Л.) писать его так или иначе заключаются в его происхождении?» [2]. А основание, по мнению автора, может быть либо звуковое, т.е. фонетическое, либо производственное, т.е. этимологическое. Причем автор отрицает существование письма исторического (традиционного) как отдельного, самостоятельного правописного принципа ввиду того, что оно совпадает или со звуковым, или с производственным
начертаниями: «Мы по преданию, потому что в старину так писали, пишем в слове источник предлог из с буквою с, но такое историческое начертание соответствует вместе с тем старинному и теперешнему произношению, и есть, значит, звуковое. Мы исторически пишем в слове дорожка букву ж, но это историческое написание следует признать и производственным, т.к. оно указывает на то, что произносимый здесь звук ш развился из более раннего звука ж» [3]. А случаи, где написание противоречит и произношению, и происхождению слова, являются лишь недоразумением, «мудрствованием какого-нибудь малосведущего грамматиста, переходившим из поколение в поколение». «Таково написание превосходных степеней — «высший» и «низший» через с и з, тогда как этимология (в первом слове и выговор) требуют написания шш и жш, притом ш и ж до сих пор явственно выступают в сравнительных степенях «выше» и «ниже» [4].
Подобные примеры показывают, насколько орфография зависит от грамотности и воли переписчика, выступающего в роли кодификатора правописания. «Но уместно ли давать проявлению полузнания громкую кличку «исторической» орфографии?!» — вывод проф. Брандта однозначен: особого исторического правописания не существует, а есть лишь звуковое и производственное.
Из этих двух, по его глубокому убеждению, роль ведущего принципа должен занять звуковой. Во главу проекта упрощения русской орфографии проф. Брандта была положена идея реформирования правописной системы на фонетической основе. «Мы пишем вместо того, чтобы говорить, значит, и естественно писать так, как говорят», — эта аксиома стала отправной точкой в выступлениях и публикациях Р. Ф. Брандта в защиту звукового принципа орфографии.
В ответ на возражение, что звуковое правописание невозможно в силу существования различного произношения, реформатор отмечает и доказывает, что и этимология — достаточно спорна и ее показания не всегда надежны, «ибо мы часто не знаем происхождения слов». Кроме того, «русское произношение достаточно установилось, и колебания замечаются лишь в немногих случаях» [5], так что несомненное удобство «представляла бы близость единой ор-
фографии к объединительному литературному языку, имеющему и свое произношение» [6], т. е. реформа должна осуществляться на основе литературного произношения. Защитник фонетического основания русской орфографии убежден, что «существует, при незначительных колебаниях общерусский литературный выговор, который благодаря звуковому письму установился бы еще точнее» [7]. Кроме того, преимущество фонетического принципа, по его убеждению, заключается в том, что «для провинциалов было бы даже очень полезно, если бы правописание указывало им на литературное произношение, и это повело бы к еще большему единству выговора» [8].
Звуковое письмо имеет также ряд преимуществ перед этимологическим для процесса чтения, и на опасения А.И.Томсона, что «упрощенные фонетические написания заставят читающих останавливаться на буквах, тогда как при теперешних мы прямо переходим ко смыслу», Р.Ф.Брандт отвечал, что так будет только на первых порах усвоения новой орфографии, но со временем «выговор и верный смысл будут столь же тесно примыкать к упрощенным начертаниям». А для начинающих обучаться письму и чтению при соответствии букв привычным звукам быстрее пойдет процесс перехода от букв к звукам, а от звуков — к смыслу [9]. И так как главная цель реформы — упростить русское правописание, «то для вполне грамотного человека не может быть более удобного письма, чем ходячее, в совершенстве им усвоенное» [10].
Двоякое написание, по мнению проф. Брандта, способно облегчить обучение письму. Возможно будет написание не только собака и корабль, но и саба-ка, карабль [11]. «Уверяют нас, — писал он, — будто производственное письмо полезно тем, что различает фонетически совпавшие слова — омонимы. Как хорошо, говорят, что «душка» от «душа» пишется с буквой ш, а «дужка» от «дуга» — с буквой ж! Однако слово употребляется не само по себе, а в предложении, так что смысл его вытекает из общей связи и вовсе не нуждается в поддержке правописания» [12].
Для внедрения в практику правописания звукового письма необходимо «провозгласить положение, чтобы каждому звуку языка соответствовала определенная буква — и только одна, а не несколько, каждой же букве — определенный звук. Исходя из данного положения, реформа орфографии влечет за собой изменения и в составе азбуки, подлежат исключению буквы V, 1, ъ, Ъ, 0» [13]. «Проведение фонетического принципа требует употребления буквы ё и введения обозначения звука, среднего между г и х» [14].
Таким образом, преимущества звукового письма перед «лженаучной» орфографией дореформенного периода, по мнению проф. Брандта, заключаются в следующем:
1) фонетическое письмо способно сблизить живое литературное произношение с орфографией и указывать малограмотным на правильный выговор;
2) звуковое правописание — наиболее удобное для чтения;
3) фонетический принцип, который подразумевает двоякие написания, облегчит процесс обучения письму: «Если мы отлично пониманием, что раз-,
рас-, роз- и рос- (прибавлю еще разо- и розо-) — разновидности одного и того же предлога, и осознаем связь между формами «распить, роспил, разопьем, разлить, розлил, разорвать и (чтоб те) розорвало», то неужели у нас не хватит сообразительности узнать теперь нам непривычные разновидности предлога «об»: облит, аблить, абалью, апхот? Если в живой речи, вовсе не думая о буквах, всякий легко справляется с чередованиями о-а и г-к-ж-ш: «пираги, пирок, пиражок, пирашки», то можно ли считать неудобным соответственное чередование букв?» [15].
Выступая за «установление достаточно точного и для умеющих правильно произносить чрезвычайно простого фонетического письма», проф. Брандт однако отмечает, что «в целом правописание не бывает столь последовательным, чтобы вполне представлять тот или иной тип» [16], и, по его утверждению, письмо должно быть фонетико-этимологическим, потому что «чисто звуковая орфография не закроет ломоносовского “следов происхождения и сложения речений”, если только таковые действительно сохранились в живой речи» [17]. Но в целях упрощения и облегчения обучения правописанию «естественно ограничиться теми этимологическими начертаниями, на которые указывает литературное произношение», а где нет такой очевидности — разрешить письмо по слуху [18]. И, приводя пример своего «полуэтимологического» правописания, автор замечает, что его правописание не идеально (такового не может существовать вообще), но звуковое письмо значительно проще, удобнее по сравнению с действующей беспринципной «гротографией».
Орфографическая деятельность Р.Ф.Брандта не привела к реформе системы русского правописания на фонетическом основании, но несомненная заслуга защитника звукового письма в том, что он отстаивал необходимость «принципиального», теоретически
обоснованного правописания. Его позиция находила поддержку в среде других участников орфографических дискуссий: «Следует упорядочить и упростить наше правописание общими силами так, как это окажется наиболее целесообразным и возможным, причем в основу его следует положить главным образом его рациональность, осмысленность (курсив мой. — Ж.Л.). Рациональным же правописание будет тогда, когда оно будет покоиться на одном каком-либо принципе устойчивом (курсив автора. — Ж.Л.)», — с таким предложением выступил в начале предыдущего столетия казанский профессор Е.Ф.Будде [19]. Положение это остается актуальным и в период пересмотра действующих правил орфографии, так как реформа правописания не сняла с повестки дня все противоречия, касающиеся устройства системы письма, и вопрос о теоретическом основании русской орфографии остается открытым и для современной науки о языке.
1. Ушаков Д.Н. Русское правописание. М., 1911. С.5.
2. Брандт Р.Ф. О лженаучности нашего правописания (публичная лекция) // Филологические записки. Воронеж, 1901. Вып.1-2. С.1.
3. Там же. С.2.
4. Там же. С.3.
5. Там же. С.4.
6. Брандт Р.Ф. Мнения о русском правописании И.В.Ягича, 12. Брандт Р.Ф. О лженаучности... С. 14.
Ф.Е.Корша, А.С.Будиловича и А.И.Томсона. Воронеж, 13. Там же. С.29.
1904. С.15. 14. Там же. С. 36.
7. Там же. С.25. 15. Брандт Р.Ф. Мнения... С.32-33.
8. Брандт Р.Ф. О лженаучности... С.7. 16. Брандт Р.Ф. О лженаучности ... С.2.
9. Брандт Р.Ф. Мнения... С.13. 17. Брандт Р.Ф. Мнения... С.4.
10. Там же. С.12. 18. Протокол... С.39-40.
11. Протокол первого заседания Комиссии по вопросу о русском правописании, состоявшегося 12 апреля 1904 года. СПб., 1905. С.39-40. 19. Будде Е.Ф. Предложение по вопросу о русском правописании // Труды и протоколы Пед. общества при имп. Казанском ун-те. Т.1. Вып.3. Казань, 1901. С. 127-131.





 CC BY
CC BY 58
58