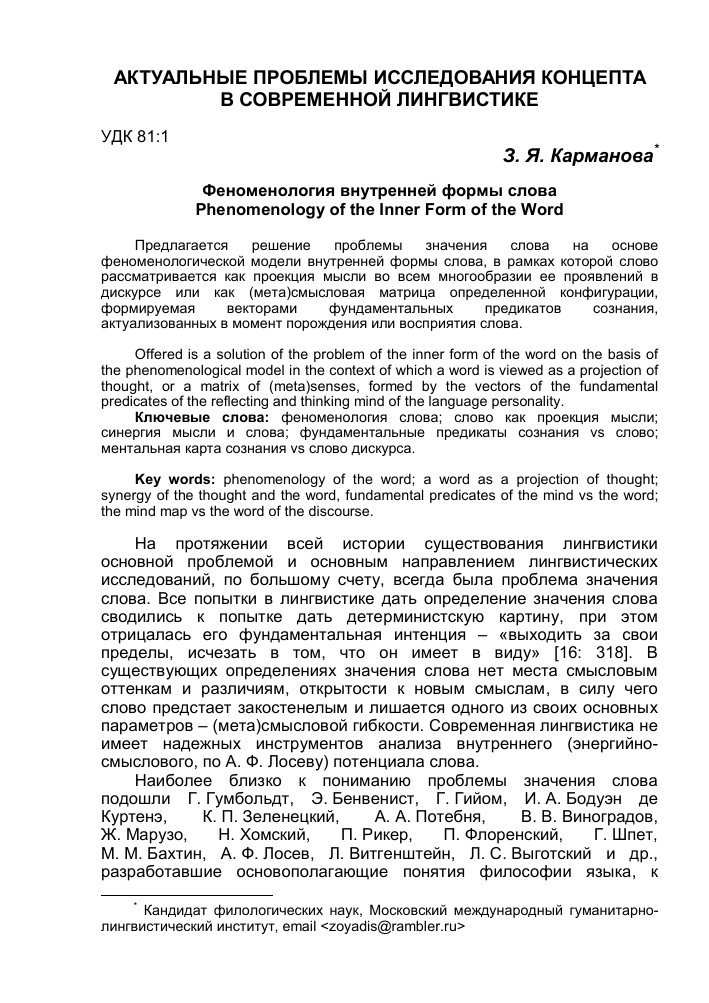АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПТА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
УДК 81:1
З. Я. Карманова*
Феноменология внутренней формы слова Phenomenology of the Inner Form of the Word
Предлагается решение проблемы значения слова на основе феноменологической модели внутренней формы слова, в рамках которой слово рассматривается как проекция мысли во всем многообразии ее проявлений в дискурсе или как (мета)смысловая матрица определенной конфигурации, формируемая векторами фундаментальных предикатов сознания, актуализованных в момент порождения или восприятия слова.
Offered is a solution of the problem of the inner form of the word on the basis of the phenomenological model in the context of which a word is viewed as a projection of thought, or a matrix of (meta)senses, formed by the vectors of the fundamental predicates of the reflecting and thinking mind of the language personality.
Ключевые слова: феноменология слова; слово как проекция мысли; синергия мысли и слова; фундаментальные предикаты сознания vs слово; ментальная карта сознания vs слово дискурса.
Key words: phenomenology of the word; a word as a projection of thought; synergy of the thought and the word, fundamental predicates of the mind vs the word; the mind map vs the word of the discourse.
На протяжении всей истории существования лингвистики основной проблемой и основным направлением лингвистических исследований, по большому счету, всегда была проблема значения слова. Все попытки в лингвистике дать определение значения слова сводились к попытке дать детерминистскую картину, при этом отрицалась его фундаментальная интенция - «выходить за свои пределы, исчезать в том, что он имеет в виду» [16: 318]. В существующих определениях значения слова нет места смысловым оттенкам и различиям, открытости к новым смыслам, в силу чего слово предстает закостенелым и лишается одного из своих основных параметров - (мета)смысловой гибкости. Современная лингвистика не имеет надежных инструментов анализа внутреннего (энергийно-смыслового, по А. Ф. Лосеву) потенциала слова.
Наиболее близко к пониманию проблемы значения слова подошли Г. Гумбольдт, Э. Бенвенист, Г. Гийом, И. А. Бодуэн де Куртенэ, К. П. Зеленецкий, А. А. Потебня, В. В. Виноградов, Ж. Марузо, Н. Хомский, П. Рикер, П. Флоренский, Г. Шпет, М. М. Бахтин, А. Ф. Лосев, Л. Витгенштейн, Л. С. Выготский и др., разработавшие основополагающие понятия философии языка, к
*
Кандидат филологических наук, Московский международный гуманитарнолингвистический институт, email <zoyadis@rambler.ru>
которым могут быть отнесены следующие: мышление и язык, мысль и слово нераздельны; значение слова не тождественно именованию, оно устанавливается феноменологически и должно получить свое феноменологическое объяснение; являясь проекцией мысли, слово заключает в себе набор представлений относительно мыслимого объекта; значение следует трактовать через совокупность представлений, которые формируются во внутренней форме слова в процессе речемыслительной деятельности. Феноменология слова заключается в его «явленности сознанию», и как феноменологическая сущность слово должно быть определено через сущности сознания языковой личности.
При феноменологическом подходе понятие «внутренняя форма» слова является необходимым расширением понятия значения слова, поскольку позволяет понять слово дискурса как феноменологическую сущность во всем разнообразии, полноте и глубине ее смысловых актуализаций. Об этом писал еще А. А. Потебня: «Значение слов в той мере, в какой оно составляет предмет языкознания, может быть названо внутреннею формою в отличие от внешней звуковой, иначе -способом представления внеязычного содержания» [13: 47].
В широком понимании внутренняя форма слова представляет собой совокупность (мета)смысловых представлений, которые возникают при порождении и восприятии слова или при становлении слова в мысли и мысли в слове. Поскольку сознание представляет собой «совокупность актов мысли, действительно совершающихся в данное мгновение», слово как проекция мысли и средство отражения и выражения мысли соотносится со всей совокупностью актов мысли, совершающихся в данный момент, в момент мысли, и его внутренний смысловой потенциал соотносится с «изменяющейся от разных обстоятельств силой апперципирующих масс» [15: 104-105]. В своей феноменологической сущности слово дискурса представляет собой «феноменологическое поле», или (мета)смысловую матрицу определенной конфигурации, формируемую векторами мысли, которые «экранируют» себя в слове, и в этом смысле слово - «текст сознания».
В процессе коммуникации языковая личность оперирует либо готовыми, наличными матрицами слов, либо конструирует их, исходя из наличной ситуации и контекста дискурса. По В. В. Виноградову, воплощенные в слове элементы мысли или мышления, «которые прикрываются общим именем «значения», сложны и многообразны, и «вне зависимости от его данного употребления слово присутствует в сознании со всеми своими значениями, со скрытыми и возможными, готовыми по первому поводу всплыть на поверхность» [3: 21].
Приступая к исследованию содержания внутренней формы слова, прежде всего необходимо ответить на вопрос, возможно ли в принципе описание актов, состояний и модусов сознания и языкового мышления в их отношении к слову. По Э. Гуссерлю, сознание
представляет собой непрерывный поток, но его структуры допускают различения, отождествления и выражение в понятиях методом «непосредственного погружения в его поток» и на основе интеллектуальной интроспекции и прямой интуиции [7]. Подтверждая возможность выявления и описания фактов сознания, структур и состояний сознания через языковые структуры и наоборот, некоторые авторы справедливо замечают, что сознание может вводиться как некоторое измерение текстов и возможно «проглядывание» сознания, поскольку можно «найти в языке куски, в которых предположительно могли бы пересекаться сознание и язык» [11: 38-40]. Возможность метаописания структур и состояний сознания, по М. К. Мамардашвили, связана с исходными представлениями человечества о сознании или определенным онтологическим предзнанием законов человеческой природы [10: 251]. Г. Гийом также писал о возможности «перехвата» и отождествления структур сознания в языковых фактах [6].
Для практического осуществления реконструкции и анализа внутренней формы слова, прежде всего, необходимо установить онтологическую парадигму сознания и языкового мышления во всем объеме их актов, состояний и модусов. Еще Р. Декарт замечал, что «нам не должно казаться недоступным или трудным определение границ нашего ума, который находится в нас самих...» [8: 109]. Затем на этой основе, через «новое измерение значения слова» -«истолкование текста сознания» [16: 319-321], можно осуществлять реконструкцию и анализ внутренней формы слова дискурса.
Поскольку обладание сознанием входит в круг определяющих предикатов человека [18: 21], то и структуры сознания могут быть также отнесены к фундаментальным предикатам сознания. Фундаментальные предикаты суть основополагающие свойства онтологического горизонта сознания человека: они конституируют образы бытия, составляют его определение и доступны опыту рефлексии [17: 6]. Кант называл такие явления «фактами разума», а М. К. Мамардашвили считал, что «мы их должны просто принять как данность, т. е. онтологически. Они есть, и мы должны вглядеться в их природу и продумать до конца вытекающие из этого последствия» [10: 223]. Языковое мышление обнаруживает себя в слове через фундаментальные предикаты нескольких уровней, каждый из которых репрезентирует специфический пласт ментальных структрур языкового сознания человека.
Поскольку языковая личность - система с рефлексией и рефлексия является сущностным, имманентным и онтологическим определением человека, ее основополагающим фундаментальным предикатом, проблема внутренней формы слова должна решаться на основе признания рефлексивности слова, т. е. в диалектике рефлексивного существования языковой личности. П. Рикер считает,
что семантическое выяснение остается «повисшим в воздухе» до тех пор, пока семантический подход не будет связываться с рефлексивным [16: 314]. Слово - это как бы сценарий некоторого ментально-рефлексивного события, развертывающегося в сознании человека, и его внутренняя форма характеризуется наличием некоторой (мета)смысловой информации об этом событии. Как носитель смысловой энергии сознания оно сопряжено со всем спектром степеней свободы рефлексии, состояний и модусов рефлектирующего сознания. Феноменологический подход позволяет понять (мета)смысловой потенциал слова с позиций эйдетика при установке на усмотрение в нем ментально-рефлексивных сущностей сознания, снимая все ограничения на линейность, статичность и закрытость слова. Заключение в скобки внутреннего ментальнорефлексивного мира языковой личности означает выхолащивание или деформирование значения слова.
Признание рефлексивности слова дискурса влечет за собой необходимость установления особого, ключевого метаязыкового конструкта, являющегося сущностной рефлексивной составляющей его внутренней формы или проекцией мысли, и разработки на его основе метаязыка, который позволит осуществлять реконструкцию, анализ и описание внутренней формы слова. Такой конструкт должен быть связан с внутренними ментально-рефлексивными механизмами развертывания речемыследеятельности, и совершенно очевидно, что такой метаязык должен быть не лингвистическим, а общенаучным, поскольку лингвистическое мышление с присущим ему понятийно-терминологическим аппаратом доказало свою неспособность раскрыть тайну внутренней формы слова. Л. С. Выготский считал, что языковые факты должны быть поняты через единицы мышления, которые могут быть найдены во внутренней стороне слова. Под единицей анализа понимается «такой продукт анализа, который, в отличие от элементов, обладает всеми основными свойствами, присущими целому, и который является далее неразложимыми живыми частями этого единства» [4: 11-13].
Исходя из того, что рефлексивная составляющая внутренней формы слова должна быть функцией риторики и интеллекта языковой личности, в качестве функциональной единицы анализа принимается «рефлексема», в названии которой заложен момент синергии мысли и слова. С введением рефлексемы семантико-семиотическая формула слова расширяется: денотат + семный набор (традиционные функциональные параметры) + рефлексемный набор (реконструируемые эгореференциальные метасмысловые параметры). Данная выкладка может служить формулой внутренней формы слова.
Поскольку рефлексия представляет собой направленную энергию сознания, ее проявления во внутренней форме слова могут
рассматриваться как векторные величины. Г. Гийом подсказал методику исследования «метафизического каркаса языка» - методику позиционной лингвистики, заключающуюся в векторном представлении языковых явлений, «где любая языковая единица рассекается поперечными сечениями по ходу своего вектора», осуществляя таким образом «перехват» мыслительных структур с помощью глубоких наблюдений и размышлений над структурами языка [6: 110-111]. При таком подходе преодолевается «безвыходная трагедия познания», о которой писал Н. А. Бердяев, когда познание совершается в какой-то внебытийственной сфере [1: 451].
Сознание и языковое мышление - полиструктурные сущности, характеризующиеся неоднородностью и сложностью связей и взаимоотношений их структур, что не может не найти отражение в слове. Соответственно, феноменолого-диалектическая модель внутренней формы слова строится на модульном принципе, где каждый модуль представляет векторы определенного пласта фундаментальных предикатов сознания, все из которых рассматриваются как организованности рефлексии.
Модуль 1 . Феноменология рефлексивного мира языковой личности уб слово: ^ретроспективный); ^проспективный);
^экстенсивный); ^интенсивный); ^трансцендентный);
^интроспективный); Щэмпатический); Щкритико-аксиологический); ^реконструктивный); К (конструктивный); ^гносеологический); ^лингвистический); К(категоризующий); К(интенциональный); К (Интенциональный, с большой буквы, по Дж.Серлю);
К(коммуникативный); ^гипотетический); ^абстрагирующий); ^аналитический); ^синтезирующий ); К (методологический).
Отдельные рефлексивные векторы, в свою очередь, представляют собой разветвленные структуры, отражающие различные ракурсы преломления мысли в слове. Например, аксиологическая рефлексия предполагает классификацию представлений «положительной направленности духа» и «отрицательной направленности духа» (по Н. А. Бердяеву), например: г (доброе - злое); г (хорошее - плохое); г (истинное - ложное); г (высокое - низкое); г (привлекательное - отталкивающее);
г (красивое - безобразное); г (моральное - аморальное); г (честное -бесчестное) и др.
Модуль 2. Операциональные эгореференциальные параметры языковой личности уб слово: г (интеллектуальные чувства); г (воображение); г (интерес); г (внимание); г (воля); г (ассоциации); г (память); г (языковая интуиция, языковой инстинкт, языковое чутье); г (интериоризация); г (экстериоризация).
Модуль 3. Феноменология понимания: полевая локализация мысли и слова (схема мыследеятельности Г. П. Щедровицкого): К (мД)
- пояс мыследействования (наличный опыт языковой личности); К (М)
- пояс чистого невербального мышления; К (М-К) - пояс мысли-коммуникации.
Модуль 4. Феноменология понимания (П): таксономия типов понимания (по Г. И. Богину): П (эпифеноменальное); П
(семантизирующее); П (когнитивное); П (распредмечивающее).
Модуль 5. Феноменология понимания: герменевтические круги (по Х.-Г. Гадамеру и М. Хайдеггеру): К (мД) + (М-К); К (М) + (М-К); К (мД) + (М-К) + (М).
Модуль 6. «Мозговая локализация» (по Р. Якобсону) языковых средств (межполушарная асимметрия головного мозга): г (левополушарная); г (правополушарная).
Модуль 7. Собственно синергетические функции сознания и языкового мышления уб слово: г (порядок); г (энтропия); г
(флуктуации); г (аттрактор); г (диссипация); г (фрактал); г (момент или режим обострения); г (хаос).
Языковая личность пользуется либо готовыми, уже сложившимися матрицами с определенным набором рефлексивных векторов, либо конструирует их в речемыслительном континууме, как например, при использовании стилистических приемов, где имеет место симультанная соорганизация рефлексивных векторов относительно мыслимого объекта. Рефлексивные векторы, «заложенные» в слово ритором, считываются риторантом при восприятии «мысленным видением» (термин Г. Гийома) либо интуитивно, либо через рефлексивную реконструкцию и интерпретацию.
Для реконструкции внутренней формы слова предлагается несколько методик.
««Риторический планшет». В. А. Лефевр предпринял попытку исследовать формальную структуру многоуровневой рефлексии, когда сознание изображается в виде табло или «планшета», рядом с которым помещается человек, что позволяет отражать картину действительности с точки зрения определенного человека. Помещаясь в планшет, он получает представление о собственной мысли и о своем представлении мысли и т. д. и отражает свои перцепции на «планшете». Лефевр отмечает, что наиболее интересные отражения рефлексивных структур можно найти в художественной литературе, и рефлексивный анализ может стать одним из средств филологического анализа [9: 78].
Поскольку «текст обретает смысл лишь во внутренних мирах» человека [9: 8], к нему также применима идея «риторического планшета», который может быть использован для реконструкции и анализа внутренней формы слова. «Риторический планшет» отражает расклад интеллектуальных усилий языковой личности относительно слова дискурса. Риторант-интерпретатор, осознающий себя в риторической стихии конкретной дискурсной ситуации, осуществляет разнообразные мыслительные трансакции в рамках каждого модуля относительно сказанного слова, фиксируя спроецированные в слове
рефлексивные векторы в «риторическом планшете». Содержательный анализ такого плана позволяет не только видеть слово дискурса перед собой, но и знать, как мы видим, чувствуем, воспринимаем, осмысливаем, запоминаем сказанное слово, почему видим слово так, а не иначе, с чем ассоциируем его и как эмоционально реагируем на него, как включаем в свой речемыслительный континуум, какие рефлексивные механизмы включаются и т. д. Например, «риторический планшет» позволяет понять семантические различия между синонимами. Слова «очи» и «глаза» имеют нетождественные внутренние формы, в слове «очи» заключена более развитая, разветвленная сеть рефлексивных векторов:
глаза ^ К (эпифеноменальный);
очи ^ (М 1.) К (экстенсивный); К (интенсивный); К (интроспективный); К (аксиологический): г (возвышенное), г (значимое), г (привлекательное), г (красивое); К (интенциональный); К (Интенциональный с большой буквы, по Дж. Серлю ); (М 2.) г (эмоциональный); г (воображение); г (ассоциативный); г (интерио-ризация); г (внимание).
Именно на ощущении или осознании разностного (мета)смыслового потенциала внутренних форм строится следующий подзаголовок статьи «Подхалимство, лизоблюдство, идолофрения» [АИФ № 22. - 2004. - С. 6].
По А. М. Пешковскому, «каждая несинтаксическая категория вносит тот или иной оттенок в вещественное значение слова. Он усматривал моменты «речевого сознания» в семантическом ряду «дуб
- дубок - дубище - дубье» [12]. При сканировании «мысленным видением» (термин Г. Гийома) каждого члена данного ряда в рамках Модуля 2 возможна реконструкция и запись «риторического планшета» для каждого из них, позволяющая видеть разностный потенциал всех членов ряда.
Субъективная детерминированность содержания «риторического планшета» как фактор уникальности рефлексивной реальности и рефлексивного подчерка риторанта-интерпретатора может являться внутренним основанием для определенных различий и асимметрий в представлении «планшетов» разными интерпретаторами. Но, как отмечает В. А. Лефевр, противопоставление объекта и исследователя оказывается справедливым лишь для объектов, «не наделенных психикой» [9: 10]. Анализ асимметрий в восприятии внутренних форм риторических структур разными риторантами также представляет интерес.
Позиционная метасмысловая матрица. Позиционная метасмысловая матрица также может использоваться для реконструкции, анализа и объяснения внутренней формы слова. Процедура заключается в реконструкции и записи актуализованных во внутренней форме рефлексивных векторов методом сканирования по всем семи модулям. Частица «-с», во времена Гоголя употребляемая
для придания речи оттенка подобострастия, вежливости или
иронического оттенка, к настоящему моменту обрела статус метатекста. В подзаголовке статьи «Крадут-с» [АИФ. - 2004. - № 22. -С. 11] она значительно расширяет смысловой горизонт статьи, вводя имплицитный иронический метасмысл «крали раньше - крадут и сейчас», как бы соотнося положение дел в XIX веке и в современном мире и утверждая, что ничего с тех пор не изменилось.
М 1. «крадут» ► Щэпифеноменальный).
«крадут-с» ► R (аксиологический); R (ретроспективный);
R (интенсиональный); R (трансцендентный); R (ретроспективный);
R (интенциональный: ирония, сарказм, сатира);
М 2. «крадут-с» ► r (внимание); r (интерес); r (эмоции); r (ассоциации с «Мертвыми душами»); r (интериоризация).
М 3. «крадут-с» ► пояс R(мД) как связь с жизненными ситуациями;
М 4. «крадут» ► П (эпифеноменальное);
«крадут-с» ► П (распредмечивающее);
М 5. «крадут-с» ► реализация большого герменевтического круга (М) + (М-К) + (мД) как момент установления связи между прошлым и современностью и переход в размышлениям о явлении воровства в России;
М 6. «крадут-с» ► r (правополушарный);
М 7. «крадут-с» ►r (диссипация смыслов); r (энтропия).
Mind map (ментальная карта). Идея ментальных карт и концепция «радиантного мышления», предложенные Т. Бьюзеном [2], применимы к исследованию внутренних форм слов. Разработанная для целей реконструкции и анализа внутренней формы слова, феноменологическая ментальная карта в своем развернутом виде представляет потенциально возможную совокупность векторов фундаментальных предикатов сознания относительно анализируемого слова. В центре ментальной карты помещается слово, которое, становясь объектом феноменологической рефлексии исследователя, подвергается «сканированию» «мысленным видением» исследователя по всему полю ментальной карты.
При «сканировании» устанавливается, какие именно «ветви» и «ответвления» ментальной карты актуализованы или имеют проекцию на слово дискурса в каждой конкретной ситуации или контексте. Из большого количества признаков выделяются лишь некоторые, которые группируются вокруг центрального смысла метасмысловой матрицы. Полученные в результате картирования «кустообразные картинки» эксплицируют совокупность представлений, заложенных ритором во внутренней форме слова, и ,таким образом, слово обретает реальные контуры смыслов и метасмыслов.
Рефлексиосфера. Интегрированно проявленная энергия совокупности (мета)смысловых векторов в слове образует его
(мета)смысловую «ауру» или «рефлексиосферу». Рефлексиосфера -это функция риторики, реализующая эффект полифонии во внутренней форме слова дискурса (по М. М. Бахтину). Совокупный (мета)смысловой потенциал внутренней формы слова может варьироваться от крайне сниженного до крайне высокого, и тогда мы имеем слова с низкой синергией и слова с высокой синергией. Развитая рефлексиосфера представляет сложнейшую и тончайшую сеть (мета)смысловых векторов во внутренней форме слова. Рефлексиосфера - понятие, связанное с духовностью и событийностью риторического слова, и именно в рефлексиосфере заключена идея силы, мощи, энергии и эффективности слова дискурса. К словам с насыщенной «рефлексивной аурой» могут быть отнесены: «Бог», «Москва», «Русь», «береза» и т. д., чем, в частности объясняется частотность их употребления в поэзии. Известные строки А. С. Пушкина, по сути, отмечают «насыщенную», мощную «ауру» в слове «Москва»: «Одно лишь слово нужно мне: Москва».
Внутренняя форма слова динамична и диалектична. В концепции слова А. А. Потебни отмечается, что во внутренних формах отражается «толкование действительности», и жизнь слова состоит в расширении, сгущении, размывании, утрате и возникновении новых представлений в его внутренней форме [14: 1б]; разрушение и рождение форм ближайшим образом зависит от «известной потребности мысли» [13: 47]. Факт падения внутренней формы, при котором «прежде добытое мыслью теряется» (А. А. Потебня), можно проследить на следующем примере. Значительные трансформации во внутренней форме произошли со словами «добродетель» и «доброжелатель», «добродетельность», в значительной мере утратившими векторы «положительной направленности духа» (по Н. А. Бердяеву) и выражающими следующие ранее не присущие им рефлексивные векторы: R (интенциональный: ирония, сарказм,
поношение, насмешка, агрессивность); R (Интенциональный, с большой буквы, по Дж.Серлю): неприязнь, раздражение,
враждебность, презрение); R (критико-аксиологический);
R (категоризующий). К рефлексемам ценностного профиля могут быть отнесены: r (нехорошее); r (злое); r (аморальное); r (безнравственное); r (нечестное); r (отталкивающее). Г. Гадамер пишет: «Так, упадок отдельных слов показывает нам изменения, происходящие в сфере нравов и ценностей. Слово «добродетель», к примеру, если еще и употребляется в нашем языковом мире, то разве лишь с ироническим оттенком» [5: 520]. Смысловые трансформации затронули корень «добро» в его отношении к агенсу, но в определенной мере сохраняют свои ценностные позиции в абстрагирующей функции -«доброжелательность», «добропорядочность», хотя в слове «добропорядочность» наблюдается стремление к редукции его структурной составляющей «добро-».
Рефлексиограмма. «Рефлексивная аура» риторических структур дискурса может быть представлена через рефлексиограмму -
методику, позволяющую диагностировать меру рефлексивной напряженности риторического поля, зоны рефлексивной активности (рефлексивные «всплески», «взрывы», сдвиги). Рефлексиограмма строится по сегментному принципу, где каждый сегмент представляет определенную рефлексивную позицию в речемыслительном континууме языковой личности относительно слова дискурса. В центре диаграммы обычно находится зона априорной рефлексивности слова, в которой заключена аксиома или «презумпция» рефлексивности каждого языковой и риторической структуры.
«Рефлексивная аура» фрагмента текста или абзаца диагностируется в координатной системе рефлексиограммы, в результате чего метасмысловые параметры, характеризующие сегмент текста по признаку рефлексивности, становятся очевидными, и появляется возможность отслеживать устойчивые событийные метасмысловые тенденции в риторическом поле дискурса, являющиеся факторами его убедительности и воздейственности.
Феноменологическая модель внутренней формы слова с ее понятийно-категориальным аппаратом, строящимся вокруг концепта рефлексии, применима к описанию внутреннего сущностного потенциала слова дискурса на всех уровнях.
Список литературы
1. Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения // Философия свободного духа. - М.: Республика, 1994.
2. Бьюзен Т. Суперинтеллект. - Минск: Попурри, 2006.
3. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). - 4-е изд. - М.: Рус. яз., 2001.
4. Выготский Л.С. Мышление и речь. Психика, сознание, бессознательное. -М.: Лабиринт, 2001.
5. Гадамер Г.- Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / пер. с нем. - М.: Прогресс, 1988.
6. Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. - М.: Прогресс, 1992.
7. Гуссерль Э. Феноменология. - М.: Наука, 1987.
8. Декарт Р. Избранные произведения / пер. с фр. и лат.. - М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1950.
9. Лефевр В.А. Конфликтующие структуры. - М.: Ин-т психологии РАН, 2000.
10. Мамардашвили М.К. Необходимость себя: лекции. Ст. Философ. заметки. - М.: Лабиринт, 1996.
11. Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. - М.: Шк. «Яз. рус. культуры», 1999.
12. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. Популярный очерк. - 4-е изд. - М.: Гос. учеб.-пед. изд-во, 1934.
13. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике.- T.I-II. - М.: Гос учеб.-пед. изд-во Мин-ва просвещ. РСФСР, 1958.
14. Потебня А.А. Слово и миф. - М.: Правда, 1989.
15. Потебня А.А. Мысль и язык. - М.: Лабиринт, 1999.





 CC BY
CC BY 148
148