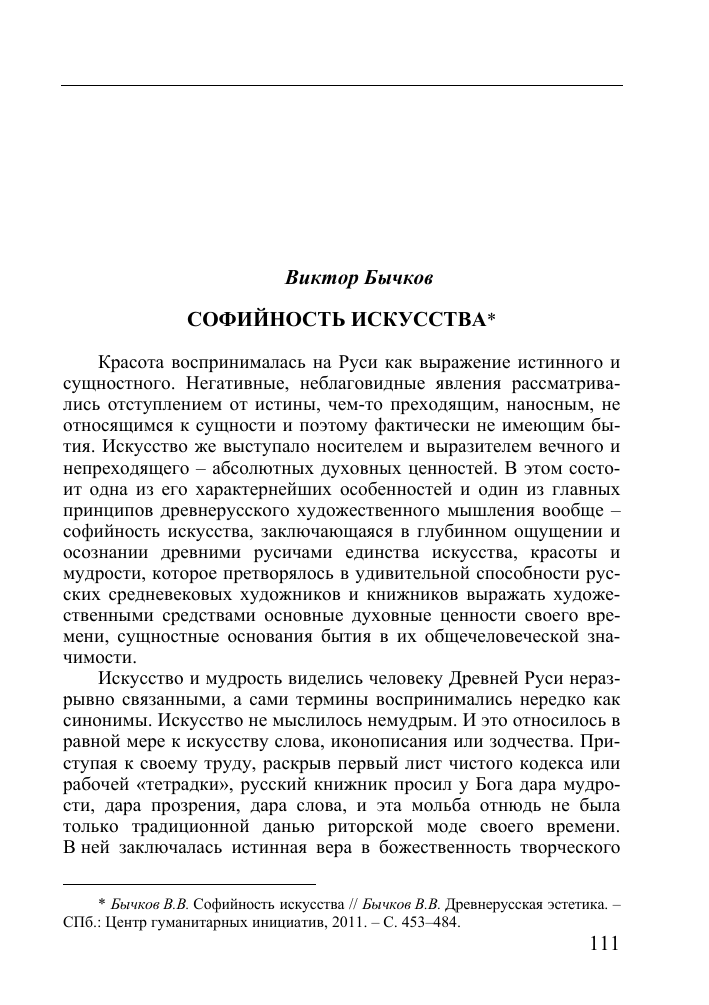Виктор Бычков СОФИЙНОСТЬ ИСКУССТВА*
Красота воспринималась на Руси как выражение истинного и сущностного. Негативные, неблаговидные явления рассматривались отступлением от истины, чем-то преходящим, наносным, не относящимся к сущности и поэтому фактически не имеющим бытия. Искусство же выступало носителем и выразителем вечного и непреходящего - абсолютных духовных ценностей. В этом состоит одна из его характернейших особенностей и один из главных принципов древнерусского художественного мышления вообще -софийность искусства, заключающаяся в глубинном ощущении и осознании древними русичами единства искусства, красоты и мудрости, которое претворялось в удивительной способности русских средневековых художников и книжников выражать художественными средствами основные духовные ценности своего времени, сущностные основания бытия в их общечеловеческой значимости.
Искусство и мудрость виделись человеку Древней Руси неразрывно связанными, а сами термины воспринимались нередко как синонимы. Искусство не мыслилось немудрым. И это относилось в равной мере к искусству слова, иконописания или зодчества. Приступая к своему труду, раскрыв первый лист чистого кодекса или рабочей «тетрадки», русский книжник просил у Бога дара мудрости, дара прозрения, дара слова, и эта мольба отнюдь не была только традиционной данью риторской моде своего времени. В ней заключалась истинная вера в божественность творческого
* Бычков В.В. Софийность искусства // Бычков В.В. Древнерусская эстетика. -СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2011. - С. 453-484.
вдохновения («обожен бывааше умомь»!), в высокое назначение искусства.
Древний книжник готовится к акту писания (творчества) как к сокровенному таинству, приступать к которому можно только с очищенным сердцем и одухотворенным разумом, наполненным мудростью. Писание для него - почти сакральное действо, осуществление которого немыслимо без помощи Святого Духа, ибо «от негоже точится всяка премудрость». Средневековый человек знал две мудрости - человеческую и божественную и обе связывал с искусством, словесным творчеством. Наиболее полно эту идею, характерную для всей древнерусской культуры, выразил Епифа-ний Премудрый. В идеале, по Епифанию, настоящий писатель должен иметь первую и быть одаренным второй. К человеческой мудрости, необходимой для книжника, Епифаний относит гуманитарные науки Античности, и прежде всего грамматику, риторику и философию.
Без знания этих наук древнерусский книжник не считал возможным браться за перо. Общим местом поэтому в русских текстах, особенно у авторов агиографий, берущихся за изображение самой святости, становится обращение к читателю с просьбой-мольбой простить их за грубость ума и невежество в слове. Идеалом для него является Стефан Пермский, который для получения большей мудрости постиг философию и самостоятельно изучил греческий язык, постоянно читал греческие книги. К человеческой мудрости относит Епифаний и подготовительный труд писателя -сбор фактического материала на основе своих личных воспоминаний и опроса очевидцев событий, о которых необходимо писать.
Так, приступая к написанию «Жития Сергия Радонежского», Епифаний собирал материал в течение 20 лет. Он записывал все то, что ему рассказывали старцы, лично знавшие Сергия в разные периоды его жизни. Охватив затем внутренним взором весь собранный материал, средневековый писатель ощущает, что одной человеческой мудрости ему не хватает для осуществления грандиозного писательского замысла, и он обращается с мольбой к Богу.
Для всей христианской эстетики аксиоматична мысль о единственном Творце в Универсуме - боге. Человеческое творчество -лишь отражение божественного и в полной мере возможно только при божественной помощи, когда дух творчества сойдет на книжника, озарит его разум, «отверзнет» уста его, вдохновит на творчество. 112
На вере в божественное вдохновение основывалась средневековая, и в частности древнерусская, философия искусства. По глубокому убеждению Епифания, Бог может творить все. Он дарует прозрение слепым, речь немым, слух глухим, исцеление увечным и творческую мудрость писателю.
Обостренное чувство слова (ибо настоящее слово - дар божественной Премудрости (Софии), которая сама часто отождествлялась с божественным Словом - Логосом), благоговение перед ним особо отличали эпоху Епифания и Андрея Рублёва.
Д. С. Лихачёв связывает это особое внимание к слову в русской литературе конца XIV - начала XV в. с проникновением на Русь исихастских идей, ориентировавших все средства выражения на достижение состояния «безмолвия», самоуглубленности, созерцательности. «"Безмолвие" исихастов, - пишет он, - было связано с обостренным чувством слова, с осознанием особой таинственной силы слова и необходимости точного выражения в слове сущности явления, с учением о творческой способности слова» (цит. по: с. 462). Во многом этим объясняется и софийность лучших образцов древнерусской словесности и древнерусского искусства в целом.
Андрей Рублёв не оставил после себя «кардиограммы» творческих исканий и переживаний, подобной епифаниевской, но высочайший артистизм, с которым выражена главная идея в его «Троице», позволяет предположить, что он боролся с самим собой за каждую линию, форму, силуэт, оттенок цвета в поисках божественной гармонии с не меньшей страстью и напряжением всех духовных сил, чем Епифаний в борьбе за слово. Сила и непреходящая значимость древнерусского искусства в его софийности -удивительной способности его творцов смотреть на жизнь sub specie aeternitatis и, прозревая в ней сущностные основы бытия, выражать их в цвете, слове, звуке.
Древнерусское искусство действительно прекрасно и возвышенно своей софийностью, которой оно привлекает к себе и человека нашего времени, но которую особо остро ощущали люди средневековой Руси.
Средневековому человеку эстетические ценности служили важным гарантом ценностей религиозных, и в массовом сознании того времени они практически были слиты воедино. Соответственно и «неописуемая» красота искусства, доставлявшая «невыразимую» радость и наслаждение средневековому зрителю, была для
древнерусского человека свидетельством духовной наполненности и высокой значимости искусства, его софийности.
Древнерусские книжники и иконописцы конца XIV - XV в. понимали свое творчество почти как священнодейство. Не случайно Епифаний в «Житии Сергия Радонежского» возводит словесное искусство почти до таинства Евхаристии. Само «Житие» как литературный жанр он осмысливает в качестве духовной трапезы, предназначенной для насыщения читателей. По Епифанию, литературное произведение - это трапеза, празднество, ликование, а значит, и отношение к литературе должно быть особым, как к чему-то свыше предложенному для спасения читателя, для его духовного насыщения.
Столь высокое понимание смысла и значения словесного искусства основывалось на глубокой философии слова, восходящей еще к античным и библейским временам и проникшей на Русь в период «второго южнославянского влияния». По ветхозаветной традиции слово тождественно сущности вещи, знание слова адекватно знанию вещи. В греческой Античности эту линию отстаивает Кратил в одноименном диалоге Платона. Были у нее свои сторонники и на протяжении всей истории византийской культуры. В Болгарии XIV в., опираясь на эту философию слова, осуществлял реформу языка и стиля Евфимий Тырновский. Современная наука судит о ней на основании сочинения ученика Евфимия сербо-болгарского ученого Константина Костенчского. Последний считал, что глубокий смысл заложен в каждом элементе языка, в каждой букве, в каждом графическом значке, надстрочном знаке и т. п. Отсюда понятна борьба за правильность языка, точное соблюдение грамматики, мучительные поиски литературных средств выражения в южнославянской и древнерусской письменности конца XIV - начала XV в., которые приводят к своеобразному лингвистическому агностицизму. В результате длительной работы с языком древний книжник замечает, что ему не хватает слов для выражения сущностных основ бытия. Даже для адекватного повествования о святости праведника, явлении, казалось бы, очевидном, Епифаний не находит нужных слов и с горечью в конце «Жития Стефана Пермского» заявляет: «...мне же мнится, яко ни едино же слово довольно есть или благопотребно и стройно, но худа суть и грубости полна» (цит. по: с. 464).
Здесь уже звучит не только традиционная самоуничижительная формула, но и выражается сомнение в безграничных выразительных возможностях человеческого слова.
Для преодоления этой ограниченности в южнославянской и древнерусской письменности пышным цветом распускается предельно эстетизированный стиль словесного выражения, называемый в литературоведении «плетением словес».
Словосочетание «плетение словес» восходит к древним книжникам. Епифаний отдает себе ясный отчет о характере своего творчества, подобного ткачеству паука или плетению мастером искусного орнамента. Духовные сущности, и в частности святость, как бы стремится сказать он, выражаются не столько словами, сколько самим хитрым порядком их организации в некое плетение, орнамент, т. е. в некие эстетизированные структуры, ибо для обозначения их он регулярно употребляет эстетическую терминологию. Закончив свой труд, Епифаний опасается, что речь его «не удобрена, и не устроена и не ухищрена», т. е. не доведена до необходимого художественного совершенства, и просит всякого, кто способен улучшить ее, сделать это.
В художественно-эстетическом совершенстве, усматриваемом в методе изощренного «плетения словес», видел Епифаний возможность словесного выражения того, что почти не поддается такому выражению.
Суть «плетения словес» хорошо показана филологами. Оно «основано, - пишет Д. С. Лихачёв, - на внимательнейшем отношении к слову - к его звуковой стороне (аллитерации, ассонансы и т.п.), к этимологии слова (сочетания однокоренных слов, этимологически одинаковые окончания и т.п.), к тонкостям его семантики (сочетания синонимические, тавтологические и пр.) - на любви к словесным новообразованиям, составным словам, калькам с греческого и пр.» (цит. по: с. 465). Для этого стиля характерны сложный синтаксис, ритмизация речи, нагнетание однородных сравнений и эпитетов, плетение словесной ткани из искусно подобранных, перетекающих одна в другую библейских цитат, количество которых может достигать 10-15 на одном листе текста. Такой способ словесного выражения, как справедливо отмечают исследователи, «затуманивает смысл», но привлекает читателя таинственной многозначностью. В словесном орнаменте исчезает, стирается внешний смысл слова, а за счет включения его в сложные, часто
неожиданные и нетривиальные семантические структуры открываются его глубинные значения, которые ощутимы только в данной художественной структуре, в акте эстетического восприятия текста. Здесь возбуждается и ассоциативное, и синестезическое, и интуитивное восприятие того, что не удается передать в обычных формально-логических конструкциях языка. Древние книжники хорошо почувствовали это удивительное свойство «изукрашенной» речи и осмыслили его как выражение вечных, непреходящих истин в чувственном, преходящем. В литературе XIV-XV вв. «плетение словес» было характерным, но далеко не единственным способом художественной реализации принципа софийности. Не меньшую роль играл в этом процессе и традиционный для древнерусской культуры художественный символизм.
Например, в «Сказании о Мамаевом побоище», посвященном прославлению русского народа и его вождя князя Дмитрия Ивановича, одержавших историческую победу над татарами, больше половины объема занимают описания подготовки к битве Великого князя, которая в основном сводится к слезным молитвам, богослужениям и подобным благочестивым деяниям.
Слезы по древней христианской традиции - дар Божий, очищающий душу человека, смывающий все его грехи, возводящий его к высотам духа. Поэтому христианский герой, начиная с раннехристианских мучеников, не стыдится слез, но, напротив, гордится ими как знаком дарованного ему очищения. И именно поэтому в контексте древнерусского эстетического сознания постоянные слезные молитвы князя и других героев не знак их слабости и трусости, но выражение их стремления с предельной полнотой подготовиться к битве, сконцентрировать все свои духовные силы, очиститься от всего внешнего, второстепенного, могущего помешать исполнению главного дела их жизни. С помощью молитв и слез древнерусский герой укрепляется духовно, а такая крепость, по представлениям средневекового человека, была значительно выше и прочнее крепости физической, и именно ею он и наделял своих героев. Нравственно-духовное очищение древнерусского героя перед битвой помогало преодолевать ему страх смерти, снимало трагизм ратного подвига, укрепляя в нем веру в вечную жизнь.
Показательно, что важнейшее в истории русского народа сражение осмысливается средневековым книжником не только в уз-
копатриотическом плане, хотя и он имеется в русской литературе, но и в более широком и универсальном контексте. Русь выступает здесь носителем и защитником некоторых абсолютных в понимании людей того времени ценностей.
Патриотическая героика сливается здесь с героикой универсальной, вселенской. Ее подоснову составляет христианский оптимизм, ибо борьба идет не просто за свою землю, но еще и за высокие духовные идеалы, за торжество не только земной, но и более высокой справедливости - веры православной, с которой древнерусский человек отождествлял почти весь комплекс жизненно значимых ценностей. Отсюда понятно, почему в сознании русских книжников вера православная (или христианская) практически всегда неразрывна с землей русской. Положить головы свои «за землю Русскую, за веру христианскую» - высокая честь для воина средневековой Руси, как свидетельствует вся древнерусская литература. Ценности отечественные, родные, освященные домашним очагом, для древнерусского человека слились с ценностями универсальными, и в первую очередь духовными.
Идеал благочестивого князя-воина, побеждающего врага не столько оружием, сколько своей нравственно-духовной силой, занимая видное место в системе древнерусского эстетического сознания, отражает одну из существенных черт этого сознания. Слезы, проливаемые русским князем перед битвой, не выражение его трусости или слабости, а символ его благочестия, контакта с миром духовных сил, а значит, и его силы, что и подтверждает исход битвы. Приведенный пример художественной символики убедительно показывает, как русские книжники умели с помощью вроде бы незначительной, обыденной детали (слезы), превращенной в символ, возвести описываемое конкретное событие на уровень почти вселенского бытия, представить его символом более высоких реальностей. Победа в исторической битве возводится до уровня победы сил добра над силами зла, истины над ложью, веры над безверием и т.п. Именно в этом и состоял тот важнейший принцип древнерусского эстетического сознания, который обозначен здесь многозначным, емким, труднодефинируемым, но интуитивно глубоко понятым в православном регионе термином «софий-ность».
Важным, хотя и косвенным показателем усилившегося в рассматриваемый период интереса русских людей к искусству и его
глубинным и сущностным основам являются многочисленные и подробные описания произведений искусства, прежде всего иноземного, в литературе того времени, особенно в «Хождениях». Выезжая за пределы своего отечества, русичи значительно пристальнее своих предшественников всматриваются в необычное для них искусство, стремятся его как-то осмыслить и как можно подробнее описать. Особый интерес русские путешественники проявляли к тем видам художественной деятельности, которые были меньше развиты на Руси или имели там иные формы. В этом проявилась не только любознательность древних русичей, но и определенная широта и открытость их эстетических интересов.
О живописи авторы «Хождений» пишут мало, ограничиваясь, как правило, общими указаниями на красоту храмовых росписей и на чудеса, творимые иконами или происходившие с ними. Стефан Новгородец сообщает, например, легенду о чудесном проявлении изображения Богородицы с младенцем Христом на доске для раскатывания теста, хранящейся в Студийском монастыре в Константинополе. Популярны рассказы о слезоточивых, мироточивых, кровоточащих и говорящих иконах.
Примеры описаний живописи очень лаконичны. Художественная сторона живописи, достигшей в ту пору одной из своих вершин и в Византии, и на Руси, и в Италии, практически не привлекала русских книжников. Их эстетическое сознание было ориентировано на иные феномены, в частности на скульптуру.
В форме византийской и особенно западноевропейской скульптуры русских авторов больше всего восхищает и удивляет «живоподобие». Почти в каждом из описаний ее встречается у них сравнение-оценка «яко жив». Внимание автора «Хождения на Флорентийский собор» привлекают, например, во Флоренции шесть тысяч восковых изображений людей, исцеленных иконой Богоматери.
В архитектуре книжников и авторов «Хождений» больше всего поражает красота. «Велми красен» - главная и традиционная оценка практически всех описываемых в это время храмов и монастырей, как на Руси, так и за ее пределами. К этой красоте они по традиции относят декоративные украшения (шитье, сосуды из драгоценных материалов, декоративную облицовку, иконы и росписи), но также и некоторые характеристики архитектуры: размеры храма, его высоту, количество окон, дверей, колонн, иногда характер сводов, другие элементы. 118
Древний русич представлял себе храм не как произведение архитектуры в современном (или новоевропейском) смысле этого понятия, а как целостное произведение строителей, живописцев, декораторов, вкладчиков драгоценных предметов и книг, а также певчих и священнослужителей. Только совместная деятельность всех этих людей приводила в конечном результате к тому, что древнерусский человек называл «красотой церковной». В ней же он видел выражение красоты более высокой - небесной, божественной и прозревал в ней путь к этой вечной красоте.
Именно в эффекте кажимости присутствия на небесах усматривали древние русские книжники великий смысл и глубокую мудрость искусств, оформлявших церковный культ, их софий-ность.
Особое внимание авторов этого времени привлекали всевозможные культовые и церемониальные действа, которые играли важнейшую роль в культуре и были предельно эстетизированы. Мудрость искусства открывалась в них древним русичам какими-то своими новыми ракурсами.
Театральные представления на религиозные темы, увиденные русскими посланниками во Флоренции, были восприняты ими как творения мудрого искусства (они происходили в храме в день соответствующего религиозного праздника) в русле средневековой церемониальной эстетики. На Руси она будет в какой-то мере осмыслена только в XVII в., но и в рассматриваемый период церемонии, как церковные, так и светские, играли большую роль в жизни русского общества, а церемониальная эстетика занимала видное место в эстетическом сознании.
Русичи конца XIV - XV в. глубоко чувствовали красоту самых разных видов искусства и художественной культуры, как отечественной, так и иноземной, хорошо понимали ее принципиальную непостигаемость разумом и неописуемость словами, часто усматривали в этом ее глубокий смысл, выводящий человека на более высокие духовные уровни. Они не сумели сформулировать эти свои ощущения и эстетические прозрения в развернутых дискурсивных конструкциях, но прекрасно выразили их в своем искусстве и отчасти в своих эмоциональных оценках самих произведений искусства.
Восхищаясь церковной красотой, древнерусские писатели не забывали указать на живопись, и прежде всего на иконы, как на
важнейший элемент этой красоты. На протяжении всего русского Средневековья иконы и росписи пользовались широкой популярностью. На Руси они, пожалуй, еще в большей мере, чем в Византии, выполняли функцию «книги для неграмотных». Наглядность и яркая красочность икон давали душе русского человека значительно больше, чем не всегда понятные библейские тексты, звучавшие в храмах.
Эстетическое сознание древнерусского человека конца XIV -начала XVI в., пишет В.В. Бычков, «было ориентировано на узре-ние и выражение вечных непреходящих истин и ценностей в чувственно воспринимаемых явлениях, действах, произведениях искусства, оно было озарено "светом невечерним" софийности и достигло высших форм своего средневекового выражения, о чем, несомненно, лучше всего свидетельствует древнерусское искусство того времени» (с. 481).
С.Г.





 CC BY
CC BY 42
42