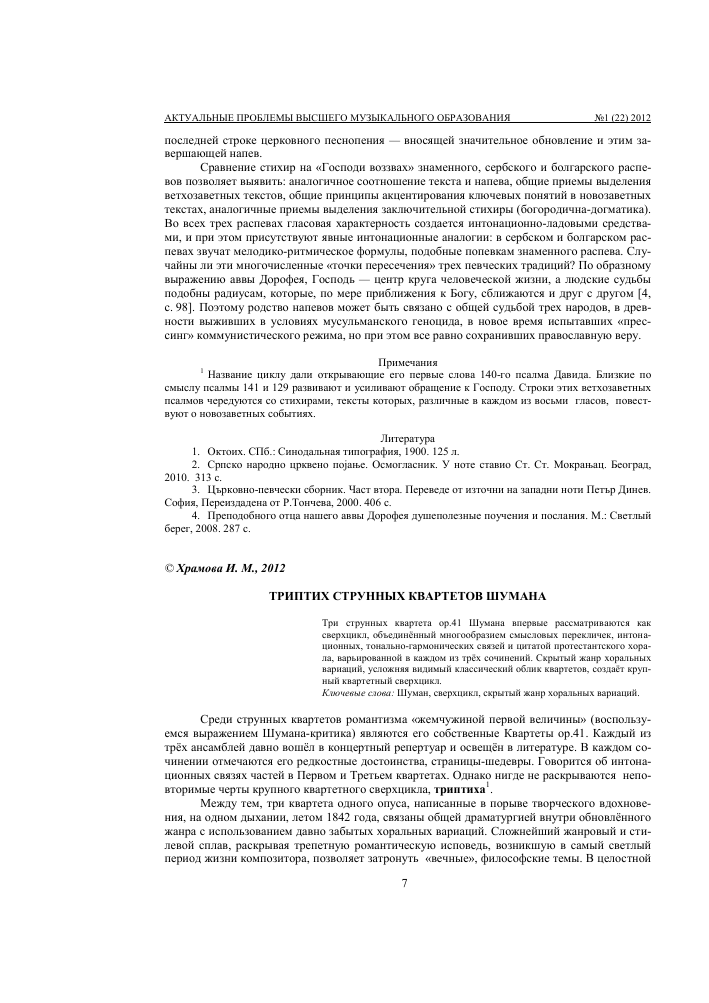последней строке церковного песнопения — вносящей значительное обновление и этим завершающей напев.
Сравнение стихир на «Господи воззвах» знаменного, сербского и болгарского распевов позволяет выявить: аналогичное соотношение текста и напева, общие приемы выделения ветхозаветных текстов, общие принципы акцентирования ключевых понятий в новозаветных текстах, аналогичные приемы выделения заключительной стихиры (богородична-догматика). Во всех трех распевах гласовая характерность создается интонационно-ладовыми средствами, и при этом присутствуют явные интонационные аналогии: в сербском и болгарском распевах звучат мелодико-ритмическое формулы, подобные попевкам знаменного распева. Случайны ли эти многочисленные «точки пересечения» трех певческих традиций? По образному выражению аввы Дорофея, Господь — центр круга человеческой жизни, а людские судьбы подобны радиусам, которые, по мере приближения к Богу, сближаются и друг с другом [4, с. 98]. Поэтому родство напевов может быть связано с общей судьбой трех народов, в древности выживших в условиях мусульманского геноцида, в новое время испытавших «прессинг» коммунистического режима, но при этом все равно сохранивших православную веру.
Примечания
1 Название циклу дали открывающие его первые слова 140-го псалма Давида. Близкие по смыслу псалмы 141 и 129 развивают и усиливают обращение к Господу. Строки этих ветхозаветных псалмов чередуются со стихирами, тексты которых, различные в каждом из восьми гласов, повествуют о новозаветных событиях.
Литература
1. Октоих. СПб.: Синодальная типография, 1900. 125 л.
2. Српско народно црквено поjаье. Осмогласник. У ноте ставио Ст. Ст. Мокраьац. Београд, 2010. 313 с.
3. Църковно-певчески сборник. Част втора. Переведе от източни на западни ноти Петър Динев. София, Переиздадена от Р.Тончева, 2000. 406 с.
4. Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения и послания. М.: Светлый берег, 2008. 287 с.
© Храмова И. М., 2012
ТРИПТИХ СТРУННЫХ КВАРТЕТОВ ШУМАНА
Три струнных квартета ор.41 Шумана впервые рассматриваются как сверхцикл, объединённый многообразием смысловых перекличек, интонационных, тонально-гармонических связей и цитатой протестантского хорала, варьированной в каждом из трёх сочинений. Скрытый жанр хоральных вариаций, усложняя видимый классический облик квартетов, создаёт крупный квартетный сверхцикл.
Ключевые слова: Шуман, сверхцикл, скрытый жанр хоральных вариаций.
Среди струнных квартетов романтизма «жемчужиной первой величины» (воспользуемся выражением Шумана-критика) являются его собственные Квартеты ор.41. Каждый из трёх ансамблей давно вошёл в концертный репертуар и освещён в литературе. В каждом сочинении отмечаются его редкостные достоинства, страницы-шедевры. Говорится об интонационных связях частей в Первом и Третьем квартетах. Однако нигде не раскрываются неповторимые черты крупного квартетного сверхцикла, триптиха1.
Между тем, три квартета одного опуса, написанные в порыве творческого вдохновения, на одном дыхании, летом 1842 года, связаны общей драматургией внутри обновлённого жанра с использованием давно забытых хоральных вариаций. Сложнейший жанровый и стилевой сплав, раскрывая трепетную романтическую исповедь, возникшую в самый светлый период жизни композитора, позволяет затронуть «вечные», философские темы. В целостной
концепции опуса постепенно раскрывается идеал жизни композитора-романтика — личной, семейной, творческой, — и его видение божественно прекрасного мира и Человека-творца в нём.
Автор, воспитанный в традициях Hausmusik, прекрасно подготовлен к работе над квартетами. Их созданию предшествуют многочисленные переложения разных сочинений для скрипки и фортепиано (детские «забавы» десятилетнего композитора) и ансамблевые вечера, организованные Шуманом-студентом в Лейпцигском университете. Рядом с сочинениями Бетховена, Шуберта, Шпора, других авторов, силами друзей-любителей музыки исполняется один из только что созданных трёх фортепианных квартетов самого Шумана [1, с. 18]. При жизни композитора квартеты не издавались; Шуман считал, что первые сочинения не следует публиковать2. Не изданы и, видимо, уничтожены упомянутые в письмах первые (три или четыре) струнные квартеты 30-х годов.
Написание квартетов ор.41 предваряет, кроме того, тщательное изучение квартетной литературы. Шуман — организатор и издатель «Новой музыкальной газеты» отмечает в статьях более сотни ансамблей современников и предшественников, десятки из них тщательно анализируются с указанием находок или просчётов. Композитор-публицист многократно пишет о радости и пользе ансамблевого музицирования. Раскрыв «Жизненные правила для музыкантов», читаем: «Никогда не упускай возможности участвовать в совместной игре в дуэтах, трио и т.п. Это придаст твоей игре свободу и живость» [6]. В многочисленных статьях разных лет критик высказывает свои пожелания начинающим композиторам, призывая не подражать, как это принято среди молодёжи, популярным тогда Шпору, Онслову, Тальбергу или Гуммелю; обратить внимание на «создателей драгоценностей первой величины» — Шуберта, Бетховена и Баха; подумать о новизне идейного замысла, не пугаясь заглянуть в «царство поэтического»; стремиться к свежей непосредственности высказывания и, одновременно, к продуманности, осмысленности целого. Освещая повседневную музыкальную жизнь — концерты, конкурсы, первые публикации, — рассматривая пути обновления жанра, его тем, идей, общего стиля, особенностей частей, автор почти целое десятилетие работы критика готовит «год ансамблей» [подробнее: 4]. Но лишь творческое погружение в жанр в начале 40-х годов дополнительно потребовало от композитора специального штудирования сочинений Гайдна, Моцарта и Бетховена. Опора на усложнённую классическую модель квартетного цикла и претворение сложившегося в фортепианном и вокальном творчестве предыдущего десятилетия собственного романтического стиля позволяют автору всего за два летних месяца создать струнные квартеты, достойные сравнения с лучшими образцами этого жанра.
Квартеты ор.41 посвящены Ф. Мендельсону — самому светлому, по мнению Шумана, композитору 30-40 годов XIX века; «он яснее всех разглядел противоречия своего времени и впервые их примирил» [7, т. 2, с. 274]. Феликс Мендельсон, Фердинанд Давид, другие исполнители квартетного опуса на домашнем вечере в шумановском доме нашли их первоклассными. По наблюдению автора, ансамбли доставили радость и исполнителям, и слушателям. Нравились сочинения самому композитору: «Я не жалел усилий, чтобы создать нечто стоящее, порой мне кажется — моё лучшее» [7, т. 1, с. 58].
Все три квартета будто освещены «сияньем тёплых майских дней». Сказалась, по выражению Д. Житомирского [2, с. 662], «весна личной жизни»: недавняя женитьба, ожидание первенца, творческий подъём, обилие замыслов. Автор, как и мечталось, семимильными шагами продвигается в «таинственный мир искусства», в «царство поэтического», к «новому и новейшему направлению музыки в области» инструментальной музыки.
Каждый из трёх квартетов самостоятелен, импульсивен, полон выдумки и — продуман до мелочей; все «линии действия в них сплетены в тугой узел», как писал автор по поводу поздних квартетов Бетховена.
В каждом квартете избирается свой путь драматургии, особый облик цикла и формы отдельных частей. Так, в центрах Первого и Третьего квартетов помещены Скерцо и Adagio, во Втором же центральные части меняются местами — вслед за Allegro vivace слышится Andante, а затем Скерцо, близкое финалу. Вступление Первого квартета называется
Introduzione, в отличие от более краткого Andante espressivo — вступления к Третьему квартету. Не случайны и другие авторские обозначения: Трио Скерцо Первого квартета, единственное из всех, автор называет Intermezzo. Жанр, используемый в отдельных частях квартетов Ф. Мендельсона, в шумановском ансамбле лишь оттеняет крайние разделы энергичного, флорестановского Скерцо тихим светом запредельного, мистического.
Своеобразны избранные формы. Скерцо Третьего квартета, например, написано в редчайшей для этого жанра форме вариаций. В Adagio Первого квартета используется куп-летно-вариационная форма с интерлюдией и постлюдией, свойственная вокальным сочинениям автора. Финал Третьего квартета — свободная форма, каждую из двух частей которой завершает Quasi Trio, более привычное для средних, скерцозных частей цикла.
Каждый из трёх квартетов интонационно связан, их многоэлементные темы будто вытекают из одного источника, ветвятся, сплетаются, образуют новые лакуны и новые источники. Тематическое развитие квартетных частей можно сравнить с ручьём или, как сказано в монографии Д. Житомирского, с деревом, ветвями и листьями. Используются вариантно-вариационные и полифонические приёмы с включением свободной или имитационной полифонии, то строгой, то мнимой — все они разработаны в фортепианных циклах композитора предшествующего десятилетия от «Вариаций на тему Abegg» до «Симфонических этюдов» и «Крейслерианы».
Интонационные связи типичны для всего сверхцикла, объединённого одним опусом и тональностью: a(A) — F — A. Общий интонационный источник заключён в Introduzione. Это элегические мотивы в объёме уменьшённой квинты, гаммообразные «побеги» и фигуры опевания. Важнейшую объединяющую роль в сверхцикле, как уже отмечено, играет «тема высшего порядка» — скрытая в триптихе цитата протестантского хорала Du Herr und Richter aller Welt («Ты Господин и Судья всего мира»). Её первая вариация приметна в Intermezzo — в трио скерцо Первого квартета, вторая — в коде первой части Второго квартета, четыре последующих — в вариантах основной темы Adagio Третьего квартета [8]3.
Объединяет три сочинения усложнённая трактовка жанра-микста (классический цикл с рядом хоральных вариаций). Но, кроме того, все ансамбли, как мечталось Шуману, — «настоящие квартеты». Каждый инструмент в них — участник общей дружеской беседы, каждый — одинаково инициативен. Первый квартет, например, открывает первая скрипка, его СП и ПП — альт, медленную часть — виолончель. Нередки дуэты или трио в гомофонной фактуре с широким расположением голосов, создающих по-моцартовски прозрачную ткань. Привычное четырёхголосие оттеняют шести-восьмиголосные темы — образцы свободной полифонии — или переклички «хора» и solo, дуэта, трио. Квартеты явно рассчитаны на превосходных исполнителей, владеющих не только быстротой реакции при переходах от arco к pizzicato или marcato, legato, dolce, tenuto — все эти обозначения типичны для шумановских квартетов, — но и умением извлекать из инструмента короткие и длинные форшлаги, тремоло, аккорды, двухголосие (двухголосна первая скрипка в четвёртой вариации Andante Второго квартета — в её нижнем голосе «царапают слух» секундовые мотивы).
Подвижность ансамблевых голосов, интонационная новизна, свобода структурных членений, смелость тонально-гармонического решения порождают в ансамблях ритм живой речи, оставляющий впечатление непосредственности, сиюминутности высказывания, романтической раскованности, доверительности тона. Беседа равных, освещая редчайший в ансамблевой литературе лирический триптих, не исключает разнообразных картин, портретов, хрупких акварелей. Отметим среди них молитвенную сценку Intermezzo — трио скерцо Первого квартета — или акварельный портрет Шумана, внезапно возникший в иронично-скерцозной детали в конце песенного Adagio этого же квартета, «разговор родственных душ» в медленной части Второго квартета или тончайшую зарисовку небесного сияния в конце Скерцо Третьего квартета. Обилие ярких картин и хрупких акварелей, свежесть фантазии, поразительное жизнелюбие и стойкость необычайно притягательны в этом единственном у композитора цикле квартетов.
Первый квартет — обширное введение в мир романтических исповедей и откровений, пылких признаний и взвешенных, продуманных высказываний. В многомерном, разветвлённом пространстве сочинения с первых тактов «фантазия предаётся очаровательной игре», как в подобных случаях писал автор: в a-moll'ном цикле Интродукция (Andante espressivo, 2/4) устремлена к F-dur'ному Allegro (6/8), будто приглашая заглянуть далеко вперёд, в тональность медленной части, мнимой репризы финала, в тональную сферу Второго квартета, другие F-dur' ные страницы триптиха. В первой части, как видим, возникает небывало смелое решение перенести сонатное Allegro на большую терцию ниже вступительного Andante, в мажор вместо заявленного минора, в зону его слабой субдоминанты. Такая смелость формообразования вряд ли возможна вне грандиозно задуманного сверхцикла с широчайшей перспективой дальнейшего развития.
Introduzione и сонатное Allegro I части, открывающие «полёт вольной фантазии», тесно связаны: вступление предваряет ведущие мотивы ГП, имитационное изложение СП и побочно-заключительной тем; точкой прерванного оборота в шестнадцатом такте предвосхищается тональность сонатной формы. Отступая от прямой линии повествования, пользуясь по-гофмановски вольной, фантазийной логикой, автор увлекает слушателя в мир исповедальной лирики и дружеских бесед, типичных для всего опуса.
Заранее подготовлена и каждая из четырёх тем сонатной экспозиции: ГП Allegm F-dur, как только что отмечено, — нежными репликами Introduzione, СП — такт 43 — завершающей фразой основной темы с характерными для неё восходящими квартами в партии I скрипки, ПП — C-dur, такт 66 — скрипичной, а затем и виолончельной репликами середины главной темы, ЗП — за 14 тактов от первой вольты — её начальными фразами. Создаётся круговерть тем и тематических элементов, а вместе с ней — ощущение живой бурлящей жизни, в центре которой оказался романтик, полный новизны эмоций и впечатлений.
Экспозиция и вся сонатная форма, по терминологии В. Бобровского, стереофоничны. Шуман в Allegro, как и в последующих квартетах, претворяет свою мечту об искусном сплетении форм. Прорастающие темы и отдельные элементы будто отражаются в волшебном фонаре: появляются в новом окружении, в новом гармоническом или фактурном убранстве, образуют звенья коротких фугато. Сонатная форма и сонатность, вариации и вариацион-ность, полифонические приёмы и формы (в первую очередь — рассредоточенный мотет — отзвук далёких, ренессансных времён) порождают новую логику драматургического процесса. Фантазия романтика, дерзкая, своевольная, придерживаясь привычной канвы, легко взмывает от нежной, исповедальной лирики к радужным мечтам, отвлечённой созерцательности или деятельной решимости. Полётными фразами краткой коды, закрепляющей F-dur, завершается Allegro.
II часть — Скерцо (Presto) с Intermezzo вместо трио сложной трёхчастной формы — возвращает слух к интонациям и тональности начала квартета — a-moll. Но элегические мотивы Introduzione, обыгрывающие натуральные ступени минора, в этой части преображаются в смело очерченные фразы нового танца, предварённого энергией барабанящих ритмов квартетного tutti, акцентирующих, будто в марше, сильные доли такта. Пульс «барабанов», обилие легко взлетающих по квартам, секстам, октавам мотивов, восходящим скачком взятые кульминации вплоть до завершающей фразы, перекликающейся с кодой первой части, наполняют Скерцо флорестановскими чертами — упорством, решимостью и волей.
C-dur'ное трио — Intermezzo — оттеняет Скерцо дымкой хроматического лада, будто вуалью окутавшей короткого дыхания синкопированные мотивы первой скрипки и записанные половинными, «белыми нотами», другие голоса. Нисходящий профиль каждого из четырёх предложений простой двухчастной формы, напоминая спад волны отзвучавшей скерцоз-ной темы, раскрывает вариационное искусство мастера. Таинственный, тихий хор Intermezzo — молитвенная сценка, инобытие волевого, энергичного танца. Мистичность его звучания, поддержанная скрытой хоральной цитатой, раскрывает подсказку автора: решимость, воля, дерзость фантазии художника зависят, как сказано в скрытом хоральном тексте, от воли Всевышнего, «Господина и Судьи всего мира».
III часть — Adagio — вновь возвращает к элегичности Introduzione и, одновременно, к тональности сонатного Allegro F-dur. Это инструментальная песня, написанная в куплетно-вариационной форме с обрамлением. Начальный трёхтакт вступительной элегии с манящей и тихой, будто издалека, перекличкой виолончели и скрипки, перебирающих звуки d-moll и B-dur, в завершающем пятитакте, заново окрашенном B и g, дополняется репликой альта, закрепляющей мажорную тонику.
Первые периоды трёх куплетов — фактурные вариации, сохраняющие раздольно льющуюся кантилену начального куплета. Однако не в них заключены основные «события» песенного «сюжета». Важными оказываются продолжающие лирическую исповедь вторые периоды песенных куплетов — отражение мечтаний, тревог и страхов, «ночных» видений, мрачных предчувствий. Уточняя тему дома, семьи, сферу бидермайера, приоткрытую в Introduzione, они так тонко детализированы, одухотворены, что каждый такт в них кажется чудом4. Изысканность структуры, тончайшая детализация, неожиданность появления иро-нично-скерцозного штриха в конце песни ставят её в ряд лучших страниц музыки Шумана.
IV, финальная часть, — Presto a-moll — A-dur, перекликаясь со второй, скерцозной частью, продолжает самые действенные страницы сочинения, обновляя их многообразием сюрпризов. Неожиданны перемены ритма, нерегулярность акцентов и вольности структурных звеньев, отмечающие детали энергичной ГП. Неожиданна полифония производных от главной темы вариантов ПП и ЗП, проведённых в прямом и обращённом движении (такты 43 и 64); именно они станут основой разработки и сокращённой, без главной партии, F-duf^d^ так называемой «ленивой» репризы, напоминающей о тональности сонатной формы первой части квартета. Закономерно и всё же неожиданно появление второй репризы, представляющей краткие варианты главной и побочной тем в основной тональности этого сочинения — a-moll. Оттеняющим контрастом внутри формы оказываются «белые ноты» аккордов, квартовых шагов, остинато, появляющиеся в СП (т. 21), в начале и середине разработки, в предыкте к инотональной репризе, в центре краткой второй репризы. Напоминая о трио Скерцо, «белые ноты» сопровождают новую песню в начале мажорной коды (Moderato): начальный её пятитакт (подхватывается завершение пятитактной коды Adagio) распевают в октаву вторая скрипка и альт, второй — две высоко звучащие скрипки. «Белыми нотами» написан и следующий за песней тихий, благодарственный хорал в конце среднего раздела коды. Он вполне мог бы быть завершением квартета. Однако, не молитву, а скерцо — дерзкие, озорные варианты побочной темы — избирает автор в последнем разделе коды, устремлённой к кульминационному утверждению A-dur'ной тоники (раздел Теmро I). Перекликаясь с окончанием Скерцо, завершающее crescendo отвечает не F-dur' ной коде первой части, а её минорному началу.
«Очаровательная игра» фантазии, соединяя в целое все части сочинения, раскрывает, как видим, лирическое состояние души, предвосхищённое начальной элегией. Единой нитью связаны нежность и решимость, импульсивность и сила мысли, полнота душевной жизни и осознание опор и ценностей реального мира, его красоты и гармонии. Многие страницы квартета будто длят две песни (6 и 7) вокального цикла «Любовь и жизнь женщины».
Второй квартет F-dur с первых тактов Allegro vivace кажется продолжением F-dur'ного Adagio предыдущего сочинения: раздольна кантилена двух скрипок, полны нежности варианты мелодических линий и их секвенции, по-моцартовски прозрачны фигурации альта, отмечающие аккордовые звуки (две скрипки и альт — «персонажи» коды предыдущего квартета — обретают здесь новую жизнь). Главную партию, устремленную к обширной зоне кульминации, отнесённой в конец периодично выстроенных предложений простой двухчастной формы, продолжает гирлянда близких тем, среди которых, будто рефрен, повторяются её начальные лирические фразы. Они лежат в основе мотетных блоков СП (т. 33), напоминаются вновь в C-dur'ной побочно-заключительной партии (т. 80). В уже привычный синтез форм, их стереофоничность вносится заметный штрих рондо.
Калейдоскоп близких тем сонатной формы, захватывающий и разработку, дважды прерывается «белыми нотами», напоминающими Intermezzo в центре Скерцо Первого квартета. Они слышны в предыкте к репризе и в коде. Отличает их динамика с непривычно дробным чередованием f и p и вновь появляющаяся цитата подлинного хорала в партии виолончели. Молитвенное песнопение коды венчает барочный символ креста, его обращение и секвенция (с такта 12 от конца Allegro). Лирическую исповедь, как видим, углубляют трагические проблемы, связанные с ранним предощущеним смерти.
II часть — Andante, quasi Variazioni As-dur, продолжая исповедальную лирику предыдущей части, переводит её в дружескую беседу, «разговор родственных душ»: с первых тактов двухчастной темы, написанной в сравнительно редком метре 12/8, ленточной полифонии песенно-декламационных фраз tutti вторит то один инструмент, то дуэт или трио. Плавный ритм покачивания «говорящих» фраз, знаки p — pp и неприметность кульминаций — вот скупые штрихи, создающие живописную картину быта, домашнего уюта, вечернего покоя, доверия. Почти в точном виде тема вновь прозвучит в шестой вариации, раскрывая внутри Andante-вариаций репризную трёхчастную форму «второго плана».
III часть — Scherzo, Presto c-moll — виденье, хоровод масок и лиц, объединённых неприхотливостью смен и сочетаний. Лёгкую волнообразную фразу скрипки с квартовым затактом к сильной доле такта сопровождают тянущиеся аккорды, акцентирующие его слабые доли, гомофония рождает полифонию, чередуются или накладываются legato и staccatto, варьируются детали двойной трёхчастной формы крайних разделов сложной трёхчастной формы.
C-dur'ное тихое трио легко представить сценкой, «будто изображающей старомодный немецкий марш в исполнении духового оркестра» [2, с. 420], или групповым портретом с характерностью походки и жестов «персонажей». В двух десятитактных предложениях слышатся хромающий, синкопированный ритм аккордов в партиях двух скрипок, декларативная с размахом кварт фраза виолончели (quasi-вариант известной песни Gross Fater) и блеск стаккатных пассажей скрипок и альта в ответ. Два последующих предложения трио, как и кода части, основанная на теме трио, варьируют «портретную» композицию.
IV часть — Allegro molto vivace F-dur — фейерверк фантазий, круговерть скерцозно-танцевальных элементов, наполняющих неуёмной энергией ГП и СП экспозиции. Побочно-заключительная партия (т. 29 от начала финала, C-dur) оттеняет начальные темы штрихами лирической декламационности. Скерцозная феерия прежних и производных тематических элементов в разработке сонатной формы неожиданно приводит к эпизоду, отмеченному ремаркой animato — ещё одной акварельной зарисовке в этом сочинении. Солирующая виолончель «произносит» ряд гневных реплик, акцентирующих всё более высокие звуки. Взволнованный монолог (Раро? Вик?) по-баховски сдерживают аккорды с остинатным ритмом в партиях других струнных; в них же начинается имитационная игра на основе виолончельных фраз, переводящая гневные реплики в скерцозные.
Второй квартет, продолжая Первый, значительно обновляет «дружескую беседу» четырёх инструментов, сопровождая её рядом новых живописных картин. Углубляется и тематика «бесед» с прикосновением к потустороннему. И всё же «разговор родственных душ», доверительный и остроумный, освещают молодой задор, неистощимый запас энергии.
Третий квартет A-dur, замыкая триптих лирических фантазий, приводит к утверждению рыцарской романтики, рыцарского служения искусству. В кратком, концентрированном изложении дружеской беседы, детализированной и ёмкой, автор находит многообразные возможности обновления. Так, заменив привычную трёхчастную форму Скерцо вариациями, переходящими в Adagio с активным в нём варьированием, автор в центре цикла создаёт «картинную галерею», будто продолжающую прежние. Центр цикла, близкий сюитам — любимому жанру композитора, открывает путь к свободной форме финала с чертами сюитной цикличности. Всё это по-новому освещает крейслериановскую свободу фантазий, раскрывая магию романтически воспринимаемой жизни.
Краткое вступление I части — Andante espressivo, — напоминая элегическую Intro-duzione Первого квартета, завораживает загадкой трёх лирических, группеттных фраз с начальной нисходящей квинтой, эхообразно повторенной в шестом и седьмом тактах5. Квинтовый мотив вступления, издалека подготовленный благодарственным хоралом финальной коды Первого квартета — сквозной в части. Он открывает ласковую ГП и её репризный вариант (Allegro molto moderato, такты 1, 5, 21, 25, 26), звучит после кульминации-вспышки в СП, содержится в секвенциях кантиленной ПП (т. 39), в замыкающих тактах ЗП. Нисходящей квинте отвечают то лирические распевы мотетных голосов в середине основной темы (такты 9-20), то скерцозные фразы главной и связующей тем, то полётная скрипичная мелодия в начале ЗП. Вся экспозиция, а затем и сонатная форма многогранны, переменчивы, богаты тончайшими, тщательно выделанными деталями. Вольно смешены в них варианты и вариации, остинато и мотеты, гомофония и полифония. Немалую роль играют разного вида субдоминантовые гармонии, прерванные обороты, терцовые сопоставления, издалека подготовленные ещё в Первом квартете.
Разработка — «обсуждение» основной темы, особенно её квинтового мотива, поддержанного пряно звучащим субдоминантовым квинтсекстаккордом, — ведёт к обширной кульминационной зоне и варианту барочной фигуры креста (стретта двух лирически распетых фраз sf, такты 31-41 от начала разработки: скрипичная и альтовая фразы охватывают объём уменьшённой септимы, другие — сокращённые — уменьшённой квинты). Перекликаясь с Adagio Первого квартета, ещё раз напоминая о тревожащих проблемах и страхах, кульминация разработки приводит к затухающему предыкту к репризе, единственный раз в квартетах отмеченному ремарками un poco più slentando и Più Adagio. В центре трепетно-лирического Allegro возникает, как представляется, миниатюрная акварель с чётко очерченным «сюжетом» смиренного преклонения перед крестом. При этом в замедленном варианте первого предложения ГП с отмеченной f скрипичной репликой-вздохом фоном становятся «белые ноты», многократно звучащие в предыдущих квартетах (виолончель — альт). Замедление темпа предыкта, основанного, как и вся разработка, на материале ГП и остановка на доминанте, акцентируя в резко сокращённой репризе роль побочной и заключительной тем, приводят к закономерному появлению основной темы в коде (20 такт от конца). Вариант главной темы в ней после восходящих секвенций квинтовых мотивов в партии первой скрипки продолжает заклинательно-настойчивое их повторение, подчёркнутое знаками sf. Кульминационное в части заклинание приходится на центр мелодической волны и, закрепляя впечатление горячей мольбы, приводит, после появления в мажоре низких II и VI ступеней, к тихому, на pp, прощальному звучанию квинтового мотива в партии виолончели. Драматургическая линия, от элегических вопросов ведущая к смирению, не наблюдалась ни в одном другом Allegro.
II часть — Assai agitato fis-moll — Скерцо-вариации, то трепетно-нежные, молящие, в духе темы, интонационно связанной с Andante Второго квартета, то решительные, энергичные, как в финале Первого квартета. В свободных романтических вариациях сменяют друг друга скерцо — инвенция — песня — танец-risoluto, а завершает кода — тончайшая акварель, более всего напоминающая небесное сияние. На фоне длинных нитей ленточной полифонии (вторая скрипка и альт), при малотерцовом сопоставлении мажорных аккордов Fis-Es звучат, будто сполохи, линии разложенных аккордовых звуков в партиях первой скрипки и виолончели. Игра красок и линий, затухая, превращается в аккордовое мерцание (используется мажоро-минорные сопоставления — типично романтический музыкально-живописный приём). В последних тактах этой части звучит краткий мотетный блок, выстроенный на восходящих квартах. Обращение квинтовых мотивов, типичное для разных тем квартетов, подчёркивает связность лирического «сюжета» и единство «героя», с настойчивостью ищущего ответ на вопросы-загадки.
III часть — Adagio molto D-dur, написанное в двойной трёхчастной форме, соединяет с предшествующим Скерцо бас, будто контрастная по темпу часть цикла непосредственно его продолжает. Приметна связь и с лирическим тематизмом других квартетов — Introduzione и
Adagio Первого, ГП Второго, но кроме того — с темами, цитирующими подлинный хорал: Intermezzo Первого квартета, варьирующего первую, нисходящую фразу хорала, и кодой Allegro Второго квартета, претворившей его вторую, восходящую фразу. Аdagio-ариозо, опираясь на вторую и первую хоральные фразы, лишено мистического начала. Детализируется трепетная лирика.
Три мажорных лирических варианта ведущей темы (D — G — D), кроме высоты, структуры и фактурных элементов, отличает множество хрупких штрихов. К неожиданностям минорных эпизодов с синкопированными терциями в партии второй скрипки (d — т. 20 и g — т. 49) относятся разработка песенных фраз ведущей темы и короткая пассакалия (три её звена, основанные на речитации и группетто, слышны в партии альта — такты 35-37 и 7476). Трагический барочный символ перекликается с риторическими фигурами креста, звучащими во Втором квартете и в первой части Третьего. Пассакалиям в двух эпизодах отвечает тихая кода, основанная на широко распетых скрипичных мотивах, складывающихся в плавно нисходящую линию, поддержанную затем второй скрипкой и виолончелью (просматривается последний вариант хоральной цитаты). Выразителен фон альтовых октав с ритмическим остинато, трепетны гармонии последних тактов, разрешённые после фригийской мелодии скрипки мажорной тоникой и будто запоздавшей пустой квинтой на слабой доле такта. Затенённость лирики, ведущая к пассакалиям, и тайна квинтового мотива, поставленного в последнем такте в новом «бурдонно-давнем» виде, бесконечно расширяют сферу беседы друзей.
IV часть, финал — Allegro molto vivace A-dur — ответ на тревоги и страхи, рождённые в лирических темах квартетов и, одновременно, итог дерзновенных, полных решимости скерцо и финалов. Обобщающий характер последней части сверхцикла уточняется свободой формообразования: каждый из двух рядов тем вариантно-строфической формы ведёт к Трио, как к центру Скерцо. Остаётся чувство ожидания дальнейшего развития, которое совершенно не снимается краткой кодой. Открытость цикла будто подтверждает перепутье, молодость «героя», стоящего на пороге нового этапа жизни и пытающегося заглянуть в будущее.
В начальном звене финала, в двойной трёхчастной форме, закрепляется чередование двух тем. Одна — воплощение идеи рыцарства, достоинства и благородства: на всём протяжении темы, исполненной tutti-f упорно сохраняются двутакты фраз с началом на слабой доле такта, единым синкопированным ритмом и окончанием на сильной доле такта, ещё раз подтверждённом акцентом (назовём её темой творчества, рыцарского служения искусству). Другая — с лёгкими soli-p, staccato, изобретательной инструментовкой — отражение круговерти, непрекращающейся суеты жизни. Казалось бы, соотношение тем раскрывает типично-романтический конфликт мечты и действительности. Однако в контексте квартетов с варьированием хоральной цитаты конфликт воспринимается как неизбежность, требующая усилий, неутомимости и упорства.
Каждое новое проведение тем варьируется: меняются фактура, структурные элементы, тональность. Последнее проведение ведущей темы прервано вторжением Quasi Trio F-dur. Авторское обозначение подтверждает скерцозную природу этого раздела финала: остроумны и занимательны в нём quasi-фугато и quasi-мотеты, созданные на основе старинного ритуального танца с обострённым ритмом и бурдонными квинтами (подхватывается и по-новому претворяется последняя, пустая квинта предыдущей части). «Выговаривая» каждый мотив, словно куражась, две скрипки начинают параллельным движением танцевальную фразу с длинным затактом и вольной переменой staccato и legato, четвертей и триолей.
Вторая строфа финала инотональна (вспоминается «ленивая» реприза финала Первого квартета) — длительное время в ней сохраняется F-dur, типичный для Quasi Trio и перекликающийся с тональностью Второго квартета, сонатной формой первой части и Adagio Первого квартета. Далеко не сразу эту важнейшую тональность всего сверхцикла сменяют столь же частые в нём С-dur и a-moll. Смелость тонального решения репризы сказывается и на появлении обновлённого варианта Quasi Тгю, окрашенного Е-dur — А-dur, и на обширной A-dur'ной коде, основанной на первой, рыцарской теме финала, вольной разработке её фраз,
мотивов и ритма. Свободная форма финала, образованная двойным рядом варьированных тем, завершается кульминационной зоной коды, отмеченной знаками sff, sf, molto crescendo. Принцип подобия код разных квартетов одного опуса дополнительно укрепляет связи этого оригинального цикла.
Триптих квартетов, тщательно продуманный и прочно спаянный, лишь в начальных страницах Первого квартета, трепетных и нежных, кажется близким «семейной» тематике бидермайера. Искусно соединяя личное и общее, импульсивное и тщательно выверенное, сиюминутное и «вечное», вплетая в повествование важнейшую для художника тему творчества, автор раскрывает «царство поэтического» в том «новейшем» направлении, которое основано на прочном взаимодействии романтического с прежними стилями. Сложное стилевое единство позволяет композитору в многочисленных контрастах тем и отдельных элементов раскрыть представления о пестроте и гармонии божественно прекрасного мира, многомерности бурлящего потока жизни, внутри которого, как любит писать Шуман, бьётся живое, горячее сердце. Тщательно воссоздаются в сверхцикле собирательный образ самого художника — ценителя «музыкальных бесед» — и его друзей, «союза сердец». Шуман — один из величайших лицедеев и живописцев в музыке — охотно, как и в других сочинениях, изображает их походку, мимику, жесты, несколькими штрихами пишет групповой портрет, раскрывает обстановку домашнего музицирования, рисует картины природы, вечерней, ночной, предрассветной. Романтическая яркость впечатлений, чувства благодарности художника, готового к рыцарскому служению искусству, друзьям, семье, миру бесконечно возвышают Квартеты ор. 41 над сотнями ансамблей современников. Квартетный триптих — великолепный памятник Шуману-романтику, высоко ценимый П. Чайковским, другими поклонниками его таланта. Написанный на «одном дыхании», искренне и смело, он обречён на долгую жизнь. И пусть найдётся коллектив, который исполнит не отдельные квартеты (как принято в концертной практике), а целостный цикл, редчайший в культуре романтизма.
Примечания
1 От греческого triptychus — сложенный втрое, объединённый единым замыслом.
2 В 1979 году без опуса издан один сохранившийся фортепианный квартет 1829 года.
3 Хорал позже использован Брамсом в Фортепианном квартете ор. 60, посвящённом памяти Шумана. Но Брамс в ансамблях обычно цитирует хорал в самых первых тактах и проводит цикл хоральных вариаций через ведущие темы всех частей [см.: 5].
4 Бидермайер в музыке — ответвление сентиментализма, возносящее домашний уют, ценности домашнего быта, любовь к мелким вокальным и инструментальным формам домашнего музицирования. Некоторые исследователи, читаем в словаре Гроува (М., 2001, с. 114), находят черты бидермайера в творчестве Гуммеля, Вебера, Шуберта и Мендельсона. Как видим, они есть и в творчестве Шумана.
5 Н. Николаева называет нисходящую квинту лейтмотивом квартета: это «нежный вздох, светлое томление» [3, с. 235].
Литература
1. Воспоминания о Роберте Шумане. М.: Композитор, 2000. 556 с.
2. Житомирский Д. Роберт Шуман. М.: Музыка, 1964. 880 с.
3. Музыка Австрии и Германии XIX века. Кн.2. М.: Музыка, 1990. 526 с.
4. Храмова И. «Разговор родственных душ». Роберт Шуман о камерных ансамблях современников / Из истории камерно-инструментального ансамбля. Н. Новгород, 2005.
5. Храмова И. Хорал как скрытая основа камерно-инструментальных сочинений Брамса // Концепты хаоса и порядка в естественных и гуманитарных науках. Н. Новгород: Деком, 2011. С. 453459.
6. Шуман Р. Избранные статьи о музыке. М., 1965.
7. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Т. 1. М., 1975.Т.2-А. М., 1978.
8. Punschell. L. E. Choral-Buch Reval. 1900. № 19.





 CC BY
CC BY 24
24