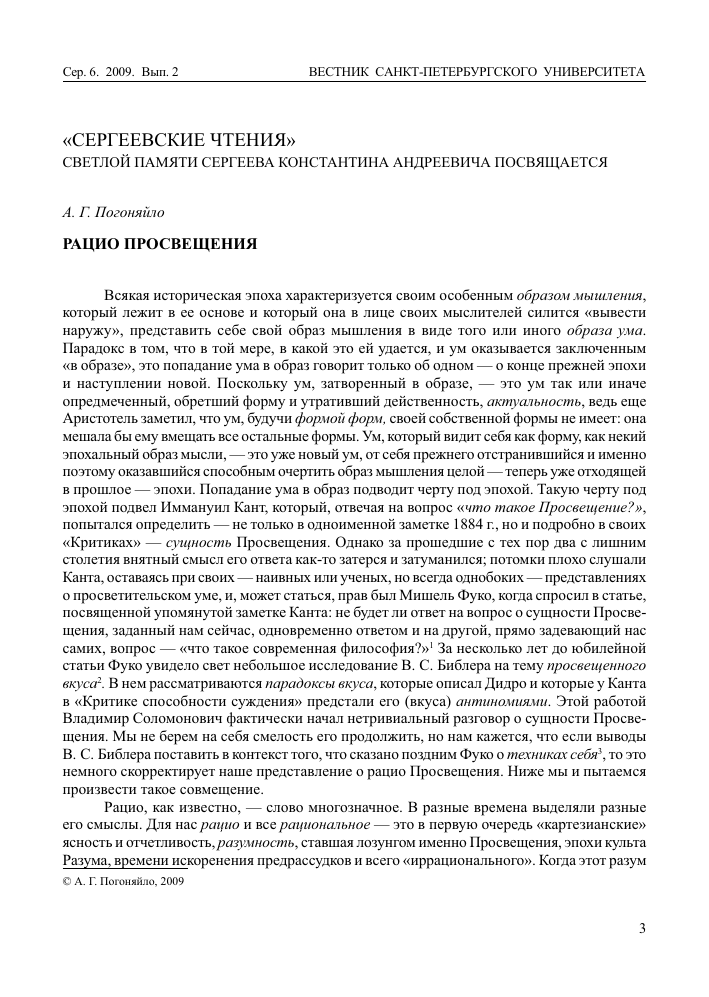Сер. 6. 2009. Вып. 2
ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
«СЕРГЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СЕРГЕЕВА КОНСТАНТИНА АНДРЕЕВИЧА ПОСВЯЩАЕТСЯ
A. Г. Погоняйло
РАЦИО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Всякая историческая эпоха характеризуется своим особенным образом мышления, который лежит в ее основе и который она в лице своих мыслителей силится «вывести наружу», представить себе свой образ мышления в виде того или иного образа ума. Парадокс в том, что в той мере, в какой это ей удается, и ум оказывается заключенным «в образе», это попадание ума в образ говорит только об одном — о конце прежней эпохи и наступлении новой. Поскольку ум, затворенный в образе, — это ум так или иначе опредмеченный, обретший форму и утративший действенность, актуальность, ведь еще Аристотель заметил, что ум, будучи формой форм, своей собственной формы не имеет: она мешала бы ему вмещать все остальные формы. Ум, который видит себя как форму, как некий эпохальный образ мысли, — это уже новый ум, от себя прежнего отстранившийся и именно поэтому оказавшийся способным очертить образ мышления целой—теперь уже отходящей в прошлое — эпохи. Попадание ума в образ подводит черту под эпохой. Такую черту под эпохой подвел Иммануил Кант, который, отвечая на вопрос «что такое Просвещение?», попытался определить — не только в одноименной заметке 1884 г., но и подробно в своих «Критиках» — сущность Просвещения. Однако за прошедшие с тех пор два с лишним столетия внятный смысл его ответа как-то затерся и затуманился; потомки плохо слушали Канта, оставаясь при своих — наивных или ученых, но всегда однобоких — представлениях о просветительском уме, и, может статься, прав был Мишель Фуко, когда спросил в статье, посвященной упомянутой заметке Канта: не будет ли ответ на вопрос о сущности Просвещения, заданный нам сейчас, одновременно ответом и на другой, прямо задевающий нас самих, вопрос — «что такое современная философия?»1 За несколько лет до юбилейной статьи Фуко увидело свет небольшое исследование В. С. Библера на тему просвещенного вкуса2. В нем рассматриваются парадоксы вкуса, которые описал Дидро и которые у Канта в «Критике способности суждения» предстали его (вкуса) антиномиями. Этой работой Владимир Соломонович фактически начал нетривиальный разговор о сущности Просвещения. Мы не берем на себя смелость его продолжить, но нам кажется, что если выводы
B. С. Библера поставить в контекст того, что сказано поздним Фуко о техниках себя3, то это немного скорректирует наше представление о рацио Просвещения. Ниже мы и пытаемся произвести такое совмещение.
Рацио, как известно, — слово многозначное. В разные времена выделяли разные его смыслы. Для нас рацио и все рациональное — это в первую очередь «картезианские» ясность и отчетливость,разумность, ставшая лозунгом именно Просвещения, эпохи культа Разума, времени искоренения предрассудков и всего «иррационального». Когда этот разум © А. Г. Погоняйло, 2009
спит, рождаются всякие чудища. Такому «геометрическому» разуму противостоит «логика сердца» (Б. Паскаль), некая «поэтическая» установка на неискоренимость предрассудка, его (предрассудка) положительная оценка романтиками и герменевтиками. В конце концов, бессонный просветительский разум плодит не меньше чудовищ, чем разум уснувший. Однако разговор о рацио Просвещения в этих вполне тривиальных координатах лишен смысла. Да, европейская история была такова, что о разуме Просвещения у нас сложилось примерно такое представление. Ну и что? Расхожие представления действительны именно как расхожие, но это не прибавляет им разумности: как представления они нуждаются в объяснении — критике и обосновании. И если девизом Просвещения стало требование опоры на собственный разум, а не на разного рода (не только религиозные) авторитеты, то нам и следует посмотреть подробнее, в чем по сути дела заключалась эта опора, и только потом что-то говорить о просветительском разуме и как-то его оценивать. Словом (это слово Хайдеггера), занимаясь историей мысли, мы должны брать на себя работу не меньше той, что проделали мыслители прошлого.
Позволим себе тезис: в Новое время рацио — это прежде всего здравомыслие. Но здравый смысл и есть, по Канту, не что иное, как способность суждения. Вкус же (суждение вкуса), полагает Кант, представляет собой «некоторый вид», родом которого будет sensus communis, т. е. здравый смысл4. И если «Критика способности суждения» подытоживает философию Канта, подводящего черту под Просвещением, то нетривиальный разговор о сущности Просвещения удобно начинать, как это и делает В. С. Библер, с вполне тривиальных здравомыслия и вкуса, а смысл такого явления, как кантова философская критика, постигать, отталкиваясь от явления критики художественной.
В. С. Библер пишет: «Человек „со вкусом" — вот величайшее художественное «произведение» века Просвещения»5. Можно сказать иначе: человек здравомыслящий — вот главное «произведение» Нового времени. Это не значит, что люди иных времен не обладали вкусом, или здравый смысл был им недоступен, но и тот и другой занимали иное место в иерархии человеческих способностей. Просвещение XVIII в. было «вторым» (после греческой софистики) «рождением европейского рационализма»6. Это некоторый кульминационный пункт новоевропейской истории. А Новое время в истории мысли начинает Декарт (или оно начинается с условной «картезианской точки»), и начинает он с того, что утверждает здравомыслие единственным признаком человечности, подразумевая, что оно одинаково присуще как французам, так и китайцам или каннибалам7. Здесь требуется небольшое отступление, потому что это декартово «здравомыслие» — вещь очень непростая.
Новоевропейский здравый смысл ведет свою родословную от латинского «общего чувства», sensus communis, и, соответственно, от аристотелевского Koivn ают^ск;. Может ли чувство быть общим? Как чувство патологическое, т. е. связанное с определенным органом чувства, оно всегда индивидуально; про «общее» же чувство еще Аристотель сказал, что у него нет своего органа. Впрочем, и патологические чувства могут испытываться сообща: мы все их разделяем8. Но общность «общего чувства» иная. Дж. Вико скажет про здравый смысл так: «суждение без рефлексии, чувствуемое сообща.. .»9. И снова вопрос: как может чувствоваться суждение, если судить — дело рассудка? Однако мы судим, основываясь на чувстве справедливости, судим о красивом, исходя из чувства красоты и т. п. Не напоминает ли ситуация с «общим чувством» наше положение относительно платоновской идеи, к примеру, идеи красоты — нашего общего «устоя», в котором мы устоялись и потому различаем красивое и некрасивое? Однако, различая то, что
мы различаем в свете идеи, самой идеи мы не различаем: чтобы узреть невидимую телесным очам идею требуется «обращение взгляда» как предварительное условие «видения умом», умозрения.
Вот это самое «обращение взгляда» и есть главное в тех «техниках себя», что предписывались античной традицией «заботы о себе», о которой говорит Фуко. Об «искусстве обращения» (texvq nepvayoynç) Платон пишет в VII книге «Государства», поясняя свой рассказ о пещере. Обращение обращает (обратная перспектива) к изначальному логосу-счету сущего, т. е. к событию его (сущего) артикуляции, предваряющей (a priori) все остальное, в том числе и обыкновенный (неизначальный) «рыночный» счет — арифметику. Этот фундаментальный счет (логос, рацио) сущего и есть, по Платону, искомая наука о бытии, наука о числе считаемом — самой артикуляции сущего, объясняемой Платоном на пальцах, и только потом наука о числе, с помощью которого считают, — обычный счет10. Но у Платона есть и более простое объяснение «обращения» в «Алкивиаде-1».
Сократ обещает Алкивиаду разом11 научить его науке правления. Этому юноше надо «познать самого себя». «Поздний», специализирующийся на «техниках себя» Фуко подробно разбирает диалог в своем курсе и отмечает двусмысленность этого «самопознания». С одной стороны, — и в этом Фуко видит отличие «Алкивиада» от прочих платоновских диалогов о душе — это самое «себя» из «заботы о себе», о котором надо печься в первую очередь, трактуется здесь чисто функционально: это никакая не сущность, не «что», а некая точка параболы, эффект самого «обращения взгляда». Лучше всего она обозначается французским притяжательным местоимением soi, которое может и субстантивироваться, становиться le soi. Невозможное по-русски себя-существительное. Это не сущность (существительные обозначают сущности), а именно «притяжательное местоимение» — пусть кавычки укажут на переход из грамматики в метафизику, — не что-то, что есть, а притягивающее к себе место и имение места (топология): до того, как Алкивиад «обратился» на себя, его как, собственно, «себя» и не было. Обращение на «себя», по сути дела, впервые образует «себя» как имение места, как притяжательное местоимение, потому что «собой» является только тот, кто уже обратился на себя и как бы смотрит на себя самого с некоторого расстояния. Вот эта самая дистанция от «себя», возникающая в результате обращения как самодистанцирования, и делает впервые «собой», т. е. позволяет «вести себя», «владеть собой», иначе говоря, научает (без теории) науке правления собой, а значит, и другими. С этой «стороны» «познай самого себя» точно учит технике себя, заботе о себе.
С другой стороны, обращаясь на себя, Алкивиад должен увидеть свою душу, распознав в ней то «самое само» (аито то аито), то средоточие мудрости, которая божественна по своему происхождению, ибо приобреталась душой, когда та паслась на небесных лугах, набирая «силу крыла». В этом случае результатом «обращения на себя» оказывается именно знание, причем знание истинное, то, о котором говорится в мифе о пещере (VII книга «Государства»), т. к. обращенный взгляд (умозрение) видит сущности, эйдосы вещей. Умозрение — это созерцание сущностей, эйдетическое видение, 0еюрш. Зрячему уму открывается мир сущностей, т. е. мир в целом как иерархия сущих. Такое «знание причин» (Аристотель), «теоретическое», т. е. созерцательное знание, безусловно, ценнее для античного мыслителя, чем знание поэтическое (производственное, ремесленное) и знание практическое (науки о действии). Ведь речь идет — различия между платониками и аристотеликами тут несущественны — о знании изначальной, вечной и неизменной формы универсума12. Но именно этот приоритет созерцания и приводит к тому, что «забота о себе» постепенно — и дальше больше — оттесняется в истории европейской мысли
на второй план «познанием» (Фуко), или тем, что в герменевтической традиции (а Фуко, хоть и читает курс «Герменевтики субъекта», — не герменевтик) называется «познавательной установкой». Золотой век «познавательной установки», установки на то, что для обретения истинного знания о вещах не требуется никакого «обращения», что субъект познания без всякой «работы над собой» (= заботы о себе), кроме обычных усидчивости, трудолюбия и т. д., может познать истину, — это как раз Новое время, начинающееся «картезианским моментом», и его вершина — Просвещение.
А теперь вернемся к здравому смыслу. Почему Декарт и другие апеллируют именно к нему? Потому что главным «авторитетом» традиционной метафизики был Порфирий с его «древом» — логической структурой определения13. Опора на «собственный разум», а не на авторитет ярче всего иллюстрируется настырным вопросом Декарта, обращенным к разным собеседникам: кто ты?. Нет, ответов «по древу» ему не надо. Метод Декарта тут совсем не «геометрический», а вполне майевтический. Он спрашивает не о том, что сомнительно и что несомненно. Речь не о сущностях, постигаемых в созерцании, не о предметах мысли. Декарт, совсем как Сократ, вводит в сомнение, ставит собеседника в положение человека, пребывающего в сомнении, заставляет опознать себя сомневающимся. Это, как полагает Фуко, именно упражнение в мышлении, це^етп, meditatio, но не иеюрш, не созерцание. Другое дело, что, проделав этот изначальный «опыт себя», «обратившись на себя», «опомнившись», хорошо «позаботившись о себе», Декарт делает решительный шаг — в колею старой метафизики, определяя «себя» как «мыслящую вещь», res cogitans, т. е. как сущность, субстанцию. После этого он может строить свою науку more geometrico. Так начинается история собственно новоевропейского субъекта. Западный человек вошел в роль субъекта-«зрителя», который «держит» собой (как точкой зрения) мир-картину, получая тем самым возможность обустраивать и переобустраивать его. В этом новом мире-картине все старые понятия метафизики — в том числе «теория» и «практика» — сдвигаются, как стеклышки в калейдоскопе, образуя совсем новый узор.
Но нас интересует здравый смысл. Разве этот расхожий sensus communis не есть некая «забота о себе» или «мысленное упражнение», позволяющие добиться того же, чего добивался Сократ от Алкивиада, — умения взглянуть на себя самого со стороны? Весь вопрос в том, с какой стороны? И платоники, и стоики, и — опосредованно — аристоте-лики, как античные, так и средневековые, глядели на себя «со стороны» божественного ума, которому и должны были уподобляться14, поднимаясь по ступеням иерархии сущих, т. е. ступеням священноначалия (метафизические места). С какой стороны смотрит на себя человек Нового времени, человек Просвещения?
Наиболее наглядно это обнаруживается в художественной критике эпохи, в суждениях вкуса. Чего хочет критик Дидро от произведения искусства? От Буше, которого поначалу сурово осуждает за безнравственность, но потом признает, что от его картин «оторваться невозможно»? От «образцового» Шардена, а если не ограничиваться «Салонами», то от актерской игры («Парадокс об актере»), от музыки («Племянник Рамо»)? Зачем вообще он придумывает этого «племянника», «парадоксалиста», пощечину общественному вкусу и нравственности? Он (племянник) нужен ему как способ отстраниться от самого себя, как «сторона» или точка, откуда можно на себя посмотреть, и для того же ему нужно произведение искусства. Произведение искусства — трамплин, возносящий меня (человека со вкусом) над самим собой (надо мной и над произведением) и тем самым позволяющий мне стать собой, человеком со вкусом. Головокружительное сальто
мортале вкуса заключает в порочный круг: чтобы судить произведение надо уже иметь вкус, но вкус «уже иметь» невозможно, поскольку он — не только вкус к чему-то определенному (это нравится, а то не нравится), не только какой-то (определенный) вкус, но вкус — это всегда само сейчас выносимое суждение вкуса, он никогда не равен себе и всегда «здесь» и «сейчас». Отсюда и парадоксы15.
За всем этим стоит одно: критику надо, чтобы искусство было удобным объектом критики, т. е. позволяло воспользоваться собой как способом дистанцирования от наличной ситуации (я и произведение) с тем, чтобы сделать объектом представления саму эту ситуацию восприятия произведения: представить себе себя, судящего произведение и таким образом опосредующего свои же чувства, возникающие в связи с ним. Эмоция, сопровождающая такое воспарение над собой и произведением, вскоре получит название эстетической, станет главным признаком красоты: красота — это то, что рождает эстетическое переживание, и основанием новоевропейской эстетики.
Вкус — способность критика (шире: знатока, ценителя искусства, «человека „со вкусом") судить о произведении искусства, которое, в свою очередь существует прежде всего как объект возможной критики, или суждения вкуса. Произведение — то, что подлежит суждению вкуса. Суждение вкуса — то, что «выдает» на общественное потребление его (суждения) субъект, человек со вкусом. И ведь надо признать, что это просветительское понимание искусства составляет основу и нашего о нем представления. Искусство прекрасно именно как искусство («изящные искусства», beaux arts, bellas artes), а не как изображающее идеал красоты согласно канону. Оставаясь прежним texvq и ars, это новоевропейское искусство отмежевывается как от ремесла, так и от науки. Оно, конечно, остается ремеслом, трудом, работой с глиной, мрамором, краской и т. д. Но этого «пота» не должно быть видно. Подражая природе, значит, изображая мужчин, женщин, труд, отдых и т. д., произведение искусства (в отличие от самого искусства как занятия) и в своей форме и в своем содержании являет собой труд, от труда освобожденный, труд сублимированный16. Искусство (прежняя texvq, ars, которая и ремесло, и наука вместе) преобразуется в «прекрасное искусство», избавляясь (как бы избавляясь) от элемента ремесленности; техника виртуоза — столь высоко технична, что она уже и не техника вовсе. Искусство — это то, что принципиально невозможно сделать «по науке», «по подлиннику» (образцу). Но, подлежа суждению вкуса (а это, повторю, — определение произведения), произведение искусства оказывается его (суждения) объектом и в качестве такового разымается на части: чтобы оценить произведение с ним надо разделаться. Сублимация «пота» в этом и заключается: как просвещенный ценитель (критик, человек со вкусом) я не принадлежу произведению, ибо «заразиться» произведением — как раз и значит утратить способность судить его с точки зрения вкуса, я не вхожу в его «мир» (а если вхожу на минутку, то тотчас выхожу из него) и потому могу работать с ним; т. е. труд все-таки нужен, но он — особый, «возвышающий» и потому называемый теперь (раньше такого не было) творческим. Он возвышает меня до подлинного ценителя красоты, до «человека „со вкусом"».
Эстетически переживаться может и безобразное, и безнравственное. Не то, чтобы безобразное и безнравственное были сами по себе эстетичны, но какой-то след их должен наличествовать в произведении, равно как и возможные промахи и неудачи художника: они — лишний повод для «сублимирующей» критической работы. Но дело не только в этом. В принципе, Дидро хвалит искусство «образцовое» — показывающее образцы красоты и нравственности. Только вот их «образцовость» уже совсем не та, что прежде.
И красота, и нравственность обитают не где-нибудь, а в самом суждении. Законодательство вкуса и здравомыслия требует от меня, чтобы я не подгонял свои оценки под общепризнанную шкалу ступеней красоты и нравственности, а решал, что хорошо и красиво, держась буквально «за воздух», т. е. именно за упомянутую способность смотреть на себя со стороны. Я смотрю на себя не «со стороны» канона, учрежденной нормы, а просто со стороны. Желательно с никакой, хотя на деле она всегда «какая-то». «Стороны», никак не определенной и в этом смысле всеобщей, совершенно пустой в своей всеобщности. Критик считает условием своей индивидуальности принципиальную бесформенность и неограниченность, т. е. неопределимость своего «я». Того «я», на место которого он становится, когда «воспаряет» над собой и над произведением. И это неопределимое «я» оказывается «стороной», откуда выносятся все оценки — эстетические, нравственные... Как пишет В. С. Библер, «выход в бесформенное эстетизирует нравственность, но — одновременно — означает преодоление собственно эстетических оценок, суждений вкуса»17. «Эстетизация нравственности» есть одновременно ее «культурное», т. е. внерелигиозное, внеритуальное обоснование. В основе такой эстетизации лежит феномен вкуса, частный случай здравого смысла.
Произведение только и имеет резон как объект критики. Это значит, что коль скоро речь уже зашла о критике и о художественном произведении как ее объекте, все традиционные понятия (природа, искусство, наука, теория, красота, истина, подражание.) уже радикально поменяли свой смысл, образовав некую конфигурацию, свойственную именно Новому времени, и уже, Просвещению. Гегель, говоря о Просвещении, говорит именно о здравом смысле и цитирует «Племянника Рамо»: «Сообщение чистого здравомыслия. можно сравнить со спокойным расширением или распространением какого-нибудь аромата, беспрепятственно заполняющего собой атмосферу. Оно есть всюду проникающая зараза, сначала не замечаемая как нечто противоположное той равнодушной стихии, в которую она проникает, и потому не может быть предотвращена. Лишь когда зараза распространилась, она существует для сознания, которое беспечно отдалось ей <.> борьба запоздала, и всякое средство лишь ухудшает болезнь, ибо она поразила самую сердцевину духовной жизни <...> Словно невидимый и незаметный дух, она пробирается вглубь, в самые благородные органы и прочно завладевает чуть ли не всеми внутренностями и членами бессознательного идола, и „в одно прекрасное утро она толкает локтем товарища, и трах-тарарах! — идол повержен!" — в одно прекрасное утро, полдень которого не кровав, если зараза проникла во все органы духовной жизни; только память тогда сохраняет еще мертвый образ прежней формы духа как некоторую неизвестно как протекавшую историю; и новая, вознесенная для поклонения змея мудрости таким образом только безболезненно сбросила с себя дряблую кожу»18.
Парадокс суждения вкуса заключается в том, что, будучи субъективным, оно претендует на общезначимость. Когда я говорю: это прекрасно, я утверждаю не то, что мне «это» представляется прекрасным, я говорю, что оно на самом деле прекрасно. Имею ли я право на это? — спрашивает Кант. И если да, то откуда это право взялось, кто мне его дал? Здесь на материале суждений вкуса обсуждается тот же вопрос, который скептик Юм,разбудивший Канта от догматического сна, поставил относительно утвердительных суждений вообще: как можем мы говорить, что этот чемодан тяжелый, что он действительно тяжел, если единственное, с чем мы имеем дело, это наше ощущение тяжести этого чемодана? Так что же делает чувство общим в смысле gemeinschaftlich? Приведем цитату: «.не в чувстве могут корениться эти понятия (чувство истины, справедливости
и т. д.) <.. .> это чувство... не может притязать на общие правила; нам никогда не могло бы придти на ум подобного рода представление об истине, приличии, красоте или справедливости, если бы мы не могли подняться над чувствами.» (курсив наш. — А. П.). Часто «общий» (communis) понимается в этом словосочетании как «вульгарный», обыденный и т. п. «Но под sensus communis надо понимать идею общего для всех (gemeinschaftlichen) чувства, т. е. способности суждения (курсив мой), которая в своей рефлексии мысленно (a priori) принимает во внимание способ представления каждого другого, дабы собственное суждение как бы считалось с совокупным человеческим разумом и тем самым избегало иллюзии, которая могла бы оказать вредное влияние на суждение ввиду субъективных частных условий, какие легко можно принять за объективные. Это происходит потому, что мы в своем суждении считаемся не столько с действительными, сколько лишь с возможными суждениями других и ставим себя на место каждого другого, отвлекаясь только от ограничений, которые случайно примешиваются к нашему собственному суждению; а это в свою очередь вызвано тем, что мы насколько возможно опускаем то, что в состоянии, [обусловленном] представлением, есть материя, т. е. ощущение, и обращаем внимание лишь на формальные особенности своего представления или состояния, [обусловленного] нашим представлением. Может быть, это действие рефлексии покажется слишком искусственным, чтобы приписать его той способности, которую мы называем общим чувством; но оно имеет такой вид лишь тогда, когда его выражают в отвлеченных формулах; на самом деле нет ничего естественнее, чем отвлечься от действующего возбуждающе и от трогательного, когда хотят найти суждение, которое должно служить всеобщим правилом»19.
Итак, здравомыслие (и его «некоторый вид» вкус) — это способность, в смысле того, что я это могу сделать, взгляда на себя воспринимающего, чувствующего, переживающего и т. д. со стороны ... с какой? — Мы уже знаем — со стороны совокупного
человеческого разума.
-???
- Вынося суждение, я заранее уже (a priori, т. е. это произошло во мне само собой)
принял во внимание точку зрения каждого другого...
-???
- Конечно, до совокупного человеческого разума я не добрался, но я посчитался с ним, принял в соображение (в этом, собственно, соображение и заключается: оно — со-образование, «культура») возможные — стало быть, такие, какими я себе их могу представить — представления всех других — тех, с кем я вообще считаюсь, считаю нужным считаться. Что же это такое я сделал? От стихии аффекта (материи чувства)
я поднялся к элементу формы.
-?
- Ну да, если материя — это «то, из чего» что-то получилось (кувшин из глины), а что именно (кувшин) получилось — это вещь, имеющая «вид» (эйдос, сущностный вид, или форму) кувшина, потому кувшином и называемая, носящая имя кувшина. В суждении из материи аффектов возникает человеческая форма, возникает в тот миг, когда охваченный эмоциями умеет «отвлечься от действующего возбуждающе», от «трогательного» и т. п., — возникает не раньше и не позже. И когда он от всей этой непосредственности отвлекается, непосредственность чувства опосредуется (возможными представлениями других), а сам «субъект» всех этих действий и переживаний воистину становится их субъектом, т. е. формой. Он знает себя в том смысле, что знает, что он может судить
и поступать соответственно своему суждению. Иными словами, приобщается к человечеству (впервые, всякий раз впервые). И нет, говорит Кант, «ничего естественнее» такого опосредования, антиномично совмещающего индивидуально переживаемое «чувство» и всеобщность «правила». При этом субъект (ставший субъектом) суждения, субъект здравомыслия и вкуса, не будучи философом Кантом, может вовсе и не задумываться о самой форме человечности, которую он обрел. А Кант задумался, и написал «Критику способности суждения», впрочем, имплицитно, а отчасти явно присутствовавшую в двух других «Критиках». В своих «Критиках» он описал форму представления как события (как сбываются представления). Канта интересуют не разнообразие и порядок (иерархия) космических форм-сущностей, он занимается самой формой представления. Став формой, эмоциональный субъект (философ или не философ) тем самым приобщается к правилам и правильности, к всеобщему законодательству рассудка и разума (об их отличии позже),
и значит, к объективности.
-?
- В согласии со «сменой аспекта» у Канта «объективное» означает «общезначимое», или «подпадающее под общую форму суждения». Это значит, что ни одно суждение человека никогда не будет полностью объективным, т. е. вполне «соответствующим» вещи (adaequatio ге1 et МеПеСш). Истинность (объективность) суждения пропорциональна степени приближения к точке зрения совокупного человеческого разума, никогда ш ас1и недостижимой. В этом смысле и надо понимать знаменитое кантовское выражение «рассудок дает законы природе». Суждение как деятельность (действительность) рассудка и разума происходит в определенных формах (в форме представления, описанной в трех «Критиках»), определяющих, какими — в принципе — нам могут предстать вещи, но отнюдь не диктующих, какими им быть.
Таким образом, чувство будет общим и «правильным», когда оно опосредованно, когда человек становится (и тут он всякий раз впервые становится человеком) сторонним наблюдателем (смотрит на себя со стороны «всех других») себя самого.
Отсюда максимы обыденного рассудка:
1) иметь собственное суждение (Selbstdenken); 2) мысленно ставить себя на место каждого другого; 3) всегда мыслить в согласии с собой. Первой максиме соответствует образ мыслей, свободный от предрассудков, второй — широкий, третьей — последовательный.
«Первая есть максима разума, который никогда не бывает пассивным. Склонность к пассивности, стало быть, к гетерономии разума, называется предрассудком; и самый большой предрассудок состоит в том, что природу представляют себе не подчиненной тем правилам, которые рассудок посредством своего собственного неотъемлемого закона полагает в основу; это — суеверие. Освобождение от суеверий называется Просвещением»20.
Напомним другое определение, данное Кантом в заметке о Просвещении: «Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине»21. Пора бы уж человеку самому думать, а он все ищет, на кого бы опереться — на книгу, на учителя, на науку, словом — на авторитет. Отсюда и девиз Просвещения: дерзай пользоваться собственным разумом. Сопоставив оба определения, мы увидим, что предрассудки, от которых избавляет Просвещение, во всяком случае так думает Кант, это не суеверия в смысле «темные верования» непросвещенных (наукой) людей, которым поэтому надо «дать образование», а, прежде всего,
нежелание думать («склонность к гетерономии разума»). И мы убедимся, что автономия разума, по Канту, — это реальная опора на самого себя никакого, т. е. именно выход — фактический — в «точку» трансцендентального единства апперцепции22, иначе, традиционная («забота о себе», «искусство обращения») процедура истины, осуществляемая и понятая по-новоевропейски, т. е. в рамках т. н. субъект-объектной парадигмы.
1 Фуко М. Что такое Просвещение? (1984) // Он же. Интеллектуалы и власть. Ч. 1. М., 2002. С. 335-336.
2 Библер В. С. Век Просвещения и Критика способности суждения. Дидро и Кант. М., 1997.
3 Фуко М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981-1982 учебном году. СПб., 2007 (Впервые 1980).
4 Кант И. Критика способности суждения // Он же. Соч.: в 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 306.
5 Библер В. С. Указ. соч. С. 19.
6Аверинцев С. С. Два рождения европейского рационализма //Он же. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. С. 329-346.
I Декарт Р. Рассуждение о методе. М., 1953. С. 10.
8 Об этом подробно: М. Шелер, в частности, об аффективном заражении и т. п.
9 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. Л., 1940. С. 16.
10 Платон. Respublica VII, 518 d 3-4.522 с 5 — 526 а // Он же. Соч.: в 4 т. М., 1994. Т. 3. С. 299, 304-309.
II Как известно, Алкивиаду надо было преподать «науку правления», да так, чтобы не сидеть за учебниками по политологии, а постичь ее «сразу».
12 По сути, онтологизированной логики определения: рациональной структуры вопроса о сущности сущего.
13 Определение — речь о сущности. Сущность — главная категория традиционной метафизики, которая конституирована вопросом о сущности — вопросом «что это (есть)?», адресованном всему, что ни есть.
14 «Божественное открывает себя в соответствии с аналогией (мерой уподобления) каждого из умов...» (Псевдо-Дионисий. О божественных именах. 1,1 // Онтология времени / пер. А. Г. Чернякова. СПб., 2001. С. 141).
15 Вкус требует от искусства естественности, которая странным образом совмещается с условностью: одно дело речь на сцене, другое дома или на улице. Верности природе, т. е. безыскусности, и верности искусству, искусственности, стало быть. Должно быть заметно, что оно сделано, и не должно быть видно «пота». Художественное произведение должно отвечать идеалу красоты, но этот идеал заключен в самом произведении. Совершенство произведения не исключает его незавершенности, поучение — приятности, простота — изысканности, правдивость — надуманности и т. д. И поскольку критерии, которым обязано соответствовать произведение, оказываются очень разными, а зачастую взаимоисключающими, то окончательным критерием как раз и провозглашается соответствие художественному вкусу. Что стоит за всем этим?
16 Дидро: «.самая совершенная модель мужчины или женщины была бы мужчиной или женщиной, наиболее способными ко всем жизненным функциям и достигшими возраста их полного развития, не исполняя ни одной из них» (Библер В. С. Указ. соч. С. 13). Напомним, что и Маркс хотел освободить труд, подняв его на высоту искусства.
11 Библер В. С. Указ. соч. С.11.
18 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. СПб., 1992. С. 293.
19 Кант И. Указ соч. С. 307.
20 Там же. С. 308.
21 Кант И. Соч.: в 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 21.
22 Трансцендентальное единство апперцепции есть единство функции, а не субстанции. Я — не вещь, а функция события представления (представления мне всяких представлений). Как утверждает Кант в 25 параграфе «Критики чистого разума», «в трансцендентальном синтезе многообразного [содержания] представлений вообще, стало быть в синтетическом первоначальном единстве апперцепции, я не сознаю себя как я являюсь себе или как я существую сам по себе, а сознаю только, что существую. Это пред-
ставление есть мышление, а не созерцание. (Diese Vorstellung ist ein Denken, nicht Anschauen). (Кант И. Соч.: в 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 208. На языке традиции мышление — это meditatio, мысленное упражнение, а созерцание — contemplatio, хотя тут надо обязательно учесть терминологические «сдвиги» новоевропейской метафизики, в частности, у Канта «усмотрение» — чувственное восприятие, без которого категориальные формы пусты.





 CC BY
CC BY 141
141