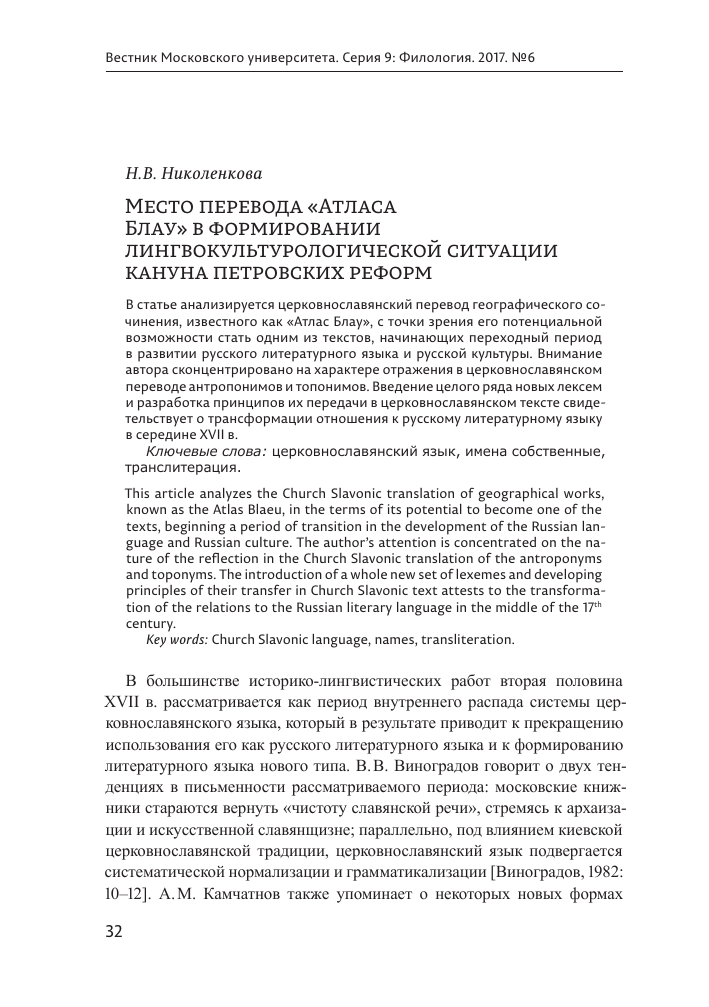Н.В. Николенкова
МЕСТО ПЕРЕВОДА «АТЛАСА БЛАУ» В ФОРМИРОВАНИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ КАНУНА ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ
В статье анализируется церковнославянский перевод географического сочинения, известного как «Атлас Блау», с точки зрения его потенциальной возможности стать одним из текстов, начинающих переходный период в развитии русского литературного языка и русской культуры. Внимание автора сконцентрировано на характере отражения в церковнославянском переводе антропонимов и топонимов. Введение целого ряда новых лексем и разработка принципов их передачи в церковнославянском тексте свидетельствует о трансформации отношения к русскому литературному языку в середине XVII в.
Ключевые слова: церковнославянский язык, имена собственные, транслитерация.
This article analyzes the Church Slavonic translation of geographical works, known as the Atlas Blaeu, in the terms of its potential to become one of the texts, beginning a period of transition in the development of the Russian language and Russian culture. The author's attention is concentrated on the nature of the reflection in the Church Slavonic translation of the antroponyms and toponyms. The introduction of a whole new set of lexemes and developing principles of their transfer in Church Slavonic text attests to the transformation of the relations to the Russian literary language in the middle of the 17th century.
Key words: Church Slavonic language, names, transliteration.
В большинстве историко-лингвистических работ вторая половина XVII в. рассматривается как период внутреннего распада системы церковнославянского языка, который в результате приводит к прекращению использования его как русского литературного языка и к формированию литературного языка нового типа. В. В. Виноградов говорит о двух тенденциях в письменности рассматриваемого периода: московские книжники стараются вернуть «чистоту славянской речи», стремясь к архаизации и искусственной славянщизне; параллельно, под влиянием киевской церковнославянской традиции, церковнославянский язык подвергается систематической нормализации и грамматикализации [Виноградов, 1982: 10-12]. А. М. Камчатнов также упоминает о некоторых новых формах
в языке второй половины XVII в., но считает эти формы лишь новым внешним оформлением традиционного знания и традиционных идей [Камчатнов, 2005: 223-230].
Напротив, историки и исследователи культуры пишут о важности второй половины XVII в. как этапа подготовки к прорыву в русской культуре начала XVIII в. В. О. Ключевский считал петровские реформы не началом, а продолжением задолго до него формирующегося движения от «старины» к «новизне», правда, писал о трудностях этого периода для Московской Руси: «русские люди XVII в. делали шаг вперед и потом останавливались, чтобы подумать, что они сделали, не слишком ли далеко шагнули». Важным следствием этого подготовительного периода он считает понимание и осознание того, как много разных культурных явлений оказывается вне сферы внимания русских людей [Ключевский, 1904]. Так же оценивает вторую половину XVII в. А. М. Сахаров, подчеркивая, что консерватизм русского общества был «слишком сильным... чтобы могло оформиться новое мировоззрение. выводившее общественную мысль на путь просветительства и рационализма» [Черная, 1991: 21]. Отмечается и то, что во второй половине XVII в. «обобщаются фундаментальные основы уходящей культуры и совершаются далеко опережающие свое время прорывы в будущее» [Черная, 1991: 8], при этом особенностью периода, который А. М. Панченко называет «кануном петровских реформ» [Панченко, 1984], будет невозможность точного определения его хронологических границ, что отмечается большинством исследователей.
Введение в оборот все большего числа неисследованных текстов позволяет скорректировать эти взгляды и обнаружить те черты, которые действительно свидетельствуют о начале формирования еще во второй половине XVII в. явлений, которые через 50 лет станут ярко характеризовать новый тип русского литературного языка. Среди них - переведенный во второй половине 1650-х гг. в Москве Атлас Блау [Николенкова, 2013], [Николенкова, 2016]. И содержание, и язык этого сочинения свидетельствуют об ориентации на новый тип культуры, в котором знание и узнавание нового превалирует над традицией и архаизацией.
В культурологическом отношении одним из признаков зарождения новых элементов культуры является ее открытость, «контактность с культурами других стран» [Черная, 1991: 41]. В периоды закрытости культивируется «старина» как принцип сохранения уже достигнутых знаний, тогда как периоды «открытости» предполагают ввод в обращение новых идей, новых текстов, новых форм. В. О. Ключевский, подчеркивая интерес рус-
ского общества XVII в. к изучению природы как элемента земного устройства, говорит об усилившемся интересе к переводам и чтению сочинений географического содержания [Ключевский, 1904], и действительно, уже с конца XV в. переводы космографий входят в сферу интереса русского книжника. А. И. Соболевский в своем перечне переводных текстов называет перевод географии Помпония Мелы, хроники и космографии Бель-ского, космографии Ботера, Меркатора и т. д. [Соболевский, 1903: 52-67]. Однако историки географии, анализируя содержание самих этих сочинений, не признают их текстами, начинающими принципиально новую культурную традицию, дающими новые знания: в основе большинства из них лежат одни и те же космологические представления, «произвольная интерпретация библейского рассказа и комментирование его». Хотя некоторые новые сведения об устройстве мироздания в этих космографи-ях содержались, однако принципиально изменяющими картину мира русских средневековых книжников их назвать нельзя [Райков, 1947: 46-65].
Перевод сочинения географического содержания с точки зрения представлений о средневековой науке входит в систему ученых знаний (астрономия наряду с арифметикой, геометрией и музыкой относится к ква-дривиуму). Для середины XVII в. в Европе этот тип знания был нормой, однако в средневековой Руси никакого научного знания еще не было, наука и язык науки лишь начинали появляться [Кузьминова, Пентковская 2016], [Николенкова, 2013]. Параллелизм в отношении к сочинениям географического содержания и, к примеру, грамматическим руководствам можно отметить в следующем: тексты не переводились целиком (в начале XVI в. из всей книги трактата Помпония Мелы «Cosmografia, sive De situ orbis» была переведена лишь первая книга [Матасова, 2013], не полностью переписаны были сначала и многие грамматические руководства - в рукописных версиях Грамматики Зизания переписывалась только орфографическая часть, морфология казалась ненужной [Кузьминова 2012: 47-52]); авторы переводов географий не стремились копировать содержащиеся в иностранных источниках карты и схемы, а переписчики грамматик неверно копировали парадигмы, не понимая их сути [Кузьминова, Пентковская, 2016: 221-222].
Но если лингвистический анализ грамматических сочинений начался еще в XIX в., то тексты географического содержания анализировались меньше. В перечне А. И. Соболевского текст, о котором пойдет речь в статье, рассматривается как отличающийся от всех остальных в языковом отношении: язык большинства космографий ученый характеризует как
«плохой церковнославянский» или русский, а перевод Атласа Блау считает написанным на «ученом церковнославянском» [Соболевский, 1903]. В. М. Живов позже определил этот регистр церковнославянского языка как «ученый» язык, основанный на грамматическом подходе, знании грамматики, который противопоставлен текстологическому подходу, основанному на знании текстов. «Новое отношение к церковнославянскому языку как к объекту ученого моделирования имеет далеко идущие последствия для истории русского литературного языка», ценность книжного языка начинает соотноситься с его обработанностью, с деятельностью редактора или переводчика [Живов, 2017: 847-887].
Мы считаем, что о новом культурно-лингвистическом явлении можно говорить, если лингвистические параметры текста совпадут с новой культурной информацией, которую произведение будет нести. Исследуя перевод Атласа Блау, мы установили целый ряд лингвистических параметров, которые могут рассматриваться как основания для определения его как представителя ученого регистра: ориентация на грамматические сочинения в грамматике и орфографии, выстраивание лексической структуры перевода, ориентация не только на классические языки - греческий и латынь, но и на современные для второй половины XVII в. европейские (в первую очередь на польский) и т. д. Ниже будет показано, что Атлас Блау отвечает и второму требованию: сведения, которые читатель мог найти в переводе, вполне соответствовали духу новизны, они предлагали современное для XVII в. знание и вводили потенциального читателя в совершенно иной научный круг, чем предшествующие космографии. Можно говорить, что этот перевод совершил рывок в будущее, стал одним из первых текстов переходного периода, кануна петровской эпохи.
История самого перевода сегодня представляется таким образом: в Москву попало издание голландских картографов Вильгельма и Иоанна Блау 1645 г. с описанием различных стран и земель, - Theatrum orbis terrarium, sive Atlas novus [Blaeu, 16451], латинский оригинал был разделен между Епифанием Славинецким, Арсением Сатановским и Исайей Чудовским. Работа над переводом велась во второй половине 1650-х гг., Славинецкий и его товарищи перевели текст в черновом варианте: эти переводы содержатся в рукописях Син. 779 (Славинецкий, первая часть), Син. 781 (Сатановский, третья часть), 780 (Исайя, вторая часть) и 41 (Иса-
1 В нашем исследовании мы пользуемся латинским текстом, хранящимся в ГИМ Москвы: № 54000/ГО-5683/1. Также издание размещено по адресу: http:// bdh-rd.bne.es/.
йя, четвертая часть). Черновые экземпляры Син. 779, 781 и 780 переписаны набело - соответственно Син. 19, Син. 112 и Син. 204. Беловой экземпляр последнего тома (Син. 41) сделан не был. Церковнославянский перевод носит название «Позорище всея вселенныя или Атлас новый въ немже начерташя и юписашя всЬх странъ издана суть»2. Этот текст не получил распространения, так как рано попал в личное собрание Никона: беловые рукописи Син. 19 и Син. 112 имеют на первых листах вкладную патриарха Никона (собственноручную) в Ново-Иерусалимский монастырь с датой 1661, на лл. 1-9 рукописи Син.204 вкладная в Ново-Иерусалимский монастырь от 1666 [Николенкова, 2013].
Нами будет рассмотрен вопрос о передаче в Атласе Блау имен собственных, причем мы обратимся с одной стороны к набору этих имен, с другой - к характеру их передачи в кириллическом источнике. В первую очередь географическое сочинение содержит большое число топонимов - как известных переводчику, так и нет. Антропонимы, которые вводит составитель латинского текста и которые передает переводчик, почти незнакомы и ему, и потенциальному читателю. Это историки, географы и писатели древности - античности, средневековой Европы, эпохи Возрождения. Характер обращения к этим именам собственным показывает желание ввести их в культурный оборот, познакомить с ними русского средневекового читателя [Николенкова, 2017]. Обратимся к некоторым именам античных и средневековых писателей, употребляющимся в Атласе.
В первую очередь необходимо отметить использование при целом ряде имен лексемы «писатель» как эквивалента латинскому <«спрЮг». Первый раз такое употребление отмечено в главе «Дания»:
Д^дюн же ю стомъ Квштш^, писатель древнш... (29об.)
Dudo аШет de S.Quintino, scriptor antiquus3... (10а)
По данным [СлРЯ Х1-ХУП, 15: 51-52] слово «писатель» отмечено в трех значениях: '1. Тот, кто записывает, описывает что-то; 2. Писец, писарь; 3. Живописец, художник'. В первом значении подчеркивается значение «писатель = *описыватель»: Аз бо, сне, писатель сим блгим, а не творецъ» (Послания Корнилия, XVI в. [СлРЯ Х1-ХУИ, 15: 51-52]). В Национальном корпусе русского языка (старорусский подкорпус) зафиксировано только второе значение: «Възрадуется кормник в тишиноу при-
2 Рукописи хранятся в ОР ГИМ. Все цитаты даются по рукописи Син. 19 в упрощенной орфографии, диакритика устраняется.
3 Об этой фразе речь еще пойдет ниже.
ставъ, а странный пришедъ въ отечьствие свое, а книжныи писатель дошед книзЪ концам» (Приписка на последнем листе лицевой Палеи XV в (1477) [НКРЯ]. Современное значение 'автор какого-либо сочинения' появляется в [СлРЯ XVIII, 19: 213] - в текстах Петровского времени, хотя и без ссылки на первое употребление.
«Писатель» непосредственно в тексте главы «Дания» противопоставляется слову «писарь», которое в [СлРЯ XI-XVII, 15: 51-52] может иметь значение '2. Писатель, сочинитель'. Однако Славинецкий противопоставляет слова «писатель/ пислрь», выбирая второе для перевода латинского «scriba»: таиники, и писари = «Secretarios & Scribas» (30). Данные НКРЯ демонстрируют, что в XVII в. «писарь» употребляется в первую очередь в значении '1. писец', причем уже с XVI в. уточняется, что это должностное лицо, выполняющее такую роль: «Преж сего по нашему наказу ты, приказщик, да подьячей писарь Ефимьев отписали на меня, царя и великого князя в Волотцком уезде в Хованском стану Третьяковскуя куплю Левонтьева деревню Черную» (Грамота ц. Ивана IV <...> о возврате Иос.-Вол. монастыря, 1554.02.27 [НКРЯ]).
Решение противопоставить две лексемы Епифаний Славинецкий принимает непосредственно при работе над переводом Атласа Блау,; в созданном им чуть ранее Лексиконе латинском «scriptor» переведен как 'писа(р), книго^чи(й)', «scriba» - тоже 'писаръ' [Шмчук, 1973: 365]. Однако структура текста потребовала уточнения значений каждого из слов. Употребление ««писатель» как «scriptor» мы отмечаем и в других главах Атласа, к примеру, при описаниях Рейна и Дуная («Ршъ», «Дунаи»):
Частое его оу ветхи" писатель воспоминание кываетъ (185). Crebra ejus apud veteres Scriptores mentio sit (67a).
Его таш> часто ест оу писатель ветхихъ воспоминание (190). Ejus tam frequens est apud Scriptures veteres mentio (69a).
Имена самих писателей помогут нам понять, какое значение вкладывает автор латинского текста в это слово, действительно ли для него это «автор, сочинитель». Вернемся к приведенному выше примеру. Речь в нем идет о Дудо Сен-Кантенском (фр. Dudon de Saint-Quentin; 965, Сен-Кантен - ранее 1043), нормандском хронисте и историке4. Хронист, скорее всего, в понимании Блау не «сочинитель», а именно «описыватель» чего-то. В этом значении оказывается употреблено и слово «писатель»
4 Хочется поблагодарить за подтверждение нашей версии коллег - специалистов по французскому языку и литературе филологического факультета МГУ -проф. О. Ю. Школьникову и доц. В. М. Амеличеву.
у Славинецкого. Обратим внимание, что в приведенном выше фрагменте переводчик неточно перевел латинское «de», которое употреблено в значении 'из', а не 'о' [Дворецкий]. Кроме того, Славинецкий не знает, что элемент «де» может входить во французском языке в состав имени собственного. Результатом оказывается не понятая переводчиком латинская фраза, «темная» и в переводе.
Много антропонимов встречается в главе «Исландия». В первых строчках упоминается великий античный поэт Вергилий: и о неи поет fiiprLviii вКниэ^ а Георпкюнъ (24об.) - & de ea canit Virgil. lib. I Georg. (7а). Далее идет длинное перечисление имен:
ГОнихже юваче ©ходить Са^юнъ à quibus tamen abeunt Saxo
Грамматжъ, Крант^ш, Мшй, 1ов[й, Grammaticus, Crantzius, Milius,
Каспаръ, Пе^керъ, вкин^^ и^емли Iovius. Caspar Peucerus libro de terrœ
ра^м^ренТи Творецъ есть (24об.). dimensione autor est... (8a)
Епифаний Славинецкий точен: он не пропускает незнакомых имен, вероятно предполагая, что по мере роста образования в московском обществе они станут понятны потенциальному читателю. При этом Славинецкий не понял, где закапчивается одно предложение и начинается другое. В латинском тексте сначала перечислены авторы исторических хроник: Саксон Грамматик (лат. Saxo Grammaticus; ок. 1140 - около 1216 года), датский летописец, в шестнадцатитомной хронике «Деяния данов» (лат. Gesta Danorum) изложивший древнейшие саги; Альберт Кранц (Crantzius Albertus, гамбургский профессор теологии, около 1517 г. написавший саксонскую историю); Паоло Джовио (итал. Paolo Giovio), он же Павел Иовий Новокомский (лат. Paulus Iovius Novocomensis) (1483, Комо - 1552, Флоренция), историк, составивший описание севера Европы и Британии. Даже сегодня найти многие имена для неспециалиста в области средневековой истории Европы будет довольно сложно, можно предположить, что и для Славинецкого опознание (и вообще знание) антропонимов было проблемой. Поэтому в передаче этих имен он следовал единственно возможному принципу транслитерации, выбор именно этого принципа мы попробуем объяснить ниже.
Точка, заканчивающая в латинском издании одну фразу и служащая знаком начала нового предложения, не замечается переводчиком -он продолжает перечисление незнакомых имен и делает в результате средневекового писателя Каспара Пейцера Raspar Peucer5) двумя разны-
5 Хочется выразить благодарность проф. МГУ Н. А. Ганиной, которая помогла опознать этого писателя Средневековья.
ми людьми. Передача фамилии как «Пеукеръ» дополнительно показывает, что Славинецкий не знает, как произносится имя, а лишь транслитерирует его в соответствии со своими навыками чтения латинского текста. Говоря об этом писателе, латинский составитель текста пользуется словом «autor», который Славинецкий переводит «творецъ». Действительно, Пейцер не является автором исторических хроник, он создает собственные оригинальные тексты. Таким образом, в переводе выстраивается противопоставление «писарь» - «писатель» как 'летописец, хроникер' -«творец» как 'сочинитель', Славинецкому важно передать в церковнославянском тексте оттенки значений латинских слов.
Многие из названных выше имен повторяются в тексте Атласа и в других главах: к примеру, в главе «Адкл р^кл», описывающей Эльбу, гово-ритсяоразныхсведениях,содержащихся«в1сторТи Салона ГрлммлтиТкл»6 (114; est in historia Saxonis Grammatici); там же упомянут Длкертъ Крлт-ЗТи (113об.). Если говорить о создателях латинского текста, то набор имен говорит, безусловно, о широкой образованности отца и сына Блау и большом наборе исторических источников, которые они привлекают к созданию Атласа. О столь же широкой образованности Славинецкого и его товарищей мы говорить не можем, но отмечаем отчетливое желание максимально точно, без купюр передавать латинский текст.
Принцип транслитерации и передача латинского «с» как кириллического «к» отражена и в передаче имени древнеримского историка и писателя Публия Корнелия Тацита (лат. Publius Cornelius Tacitus; середина 50-х - ок. 120 г.):
гла растленно Тактово читане, исправленно ГО Беата Ренана (39об). Inquiens corruptam Taciti lectionem restitutam à Beato Rhenano (16a).
Тактъ въ Герм^нд^рехъ, алв^ р^к^ славн^ пише (112об.). Tacitus in Hermunduris Albim flumen inclytum oriri scribit (14a).
Тактъ кни 1стор'['и в Рина до Галлш ширша и тихша тещи пока^етъ (185об.) 7. Tacitus lib. histor. 2, Rhenum ad Galliam latiorem ac placidiorem fluere indicat (67b).
6 встречаясь в Атласе в разных падежных формах, это имя дает возможность переводчикам построить начальную форму (Saxo, Saxonis = Са^онъ).
7 Отметим дополнительно такую особенность: в латинском тексте имя историка дано без диакритики. В нашем первом примере и в третьем ударение ставится на «и», во втором на «а», именно последнее соответствует произношению имени «Тацит» в латинском. Как произносили имя римского писателя при обучении ла-
В главе «Исландия» сказано, что упоминание об острове можно найти «оу ФранкУска Петрарха, книга: г. ПосланУе: л» (25; арМ Fr. РейнгсИат lib.3, Epist.l, 8Ь). Вероятно, имя средневекового поэта автору перевода встречалось и в других его переводах с латинского.
Выбранный принцип транслитерации, на наш взгляд, связан с характером источника и принят переводчиком сознательно. Не стоит забывать, что мы имеем дело с географическим сочинением, и главным для будущего читателя будет не историческая и художественная информация, а сведения о частях разных стран, реках, морях, городах. По строению латинский текст Атласа выглядит так: описание страны идет непосредственно после карты, большая часть географических объектов нанесена на нее и повторяется в описании. Переведены только описания, карты не введены в церковнославянский текст. Мы предполагаем, что перевод планировалось использовать как подстрочник при обращении к самой карте. А это означает, что передача названия кириллицей должна соотноситься с написанным на самой карте.
Для примера возьмем передачу названий северных стран, не только мало знакомых переводчикам, но еще и сложных в произношении. В главах «Исландия», «Норвегия», «Дания» отмечены такие топонимы:
Восточна нарич&Гъ Аихтлендшгафюрд&'нгъ, Западною, Вестфюрд&'нгъ, Пол^нощн^ю НортлендЫгафюрд&'нгъ, Пол^денн^ю СЛдлендшгафюрд&'нгъ (25). Orientalem vocant Austlendingafiordung, Occidentalem Westfiordung, Septentrionalem Nortlendingfiordung, Meridionalem Suydlendingfiordung (8b)8.
Иже предстателства под совою имать, Равитделагъ, Неденессерлеен Мандалслее, и Лктерлеенъ <.. .> бгоже повелителств^ подс^тств^ютъ предстателства С^ндгорнлее, Ноордгорнлеен, Соггне, С^нфюерде, Ноорфiоерде(27об.). Qui prafecturas sub se habet, Rabygdelag, Nedenesserleen, Mandalsleen, & Listerleen (9b). Cujus imperio subsunt prafectura Sundhornleen, Noordhornleen, Soghne, Sunfioerde, Noordfioerde (9c).
Прочiи гради с^ть, ЭДв^рггъ, Фав^рггъ, Ассенсъ, Богенс, Млдделфартъ, Кеттем^нде (30об.). Reliqus civitates sunt: Niburgh, Faburgh, Assens, Bogens, Middelfart, Kettenmynde (10c).
тыни в Киеве, мы не знаем, традиционно ударение на «и» в современном русском языке связывают с французским влиянием. Однако, как мы видим, вариативность сложилась раньше. Второе наблюдение касается передачи имени «Беата Ренана»: традиционно Славинецкий латинскую «Ь» передает грецизированным «в» [Нико-ленкова, 2014]; однако для имен германского происхождения делает исключение.
Анализируя транслитерацию германских и скандинавских топонимов Епифанием Славинецким, необходимо отметить передачу «h» как «г». Проблема передачи этой латинской буквы кириллицей обсуждалась еще для ранних переводов с латинского языка, так, Томеллери отмечает три возможности ее передачи в Геннадиевской Библии: как «к», «г» и нулем звука [Томеллери, 2001: 56-60]. Славинецкий стремится к единообразию и в подавляющем большинстве случае выбирает вариант «г» [Николенкова, 2014], несмотря на невозможность в большинстве случаев произнести получившееся название. В передаче германских топонимов почти всегда отсутствует намеренная грецизация, в том числе передача b как «в». Переводчики различают земли, относящиеся к древнему, «византийскому» миру (Bosphor = Восфоръ, Babylone = Вдв^лонъ, корень Arab- всегда встречается в варианте Арлв- (н^дро АрлвТтское); иногда такие написания сопровождают описания славянских земель: Obii amnis на листе 21 - ОвТи р^ки), и земли, не упоминаемые в древних византийских хрониках. Поскольку германские и скандинавские топонимы часто напечатаны готическим шрифтом, это дополнительно помогает трасли-терировать их с использованием букв «г» и «б»: Riobmanshaffen (10d) -Рюкмлнсглффенъ (31).
Таким образом, выбор принципа транслитерации для передачи топонимов можно считать сознательным авторским решением, продиктованным пониманием новых задач, которые ставит перед ними перевод серьезного научного труда. Славинецкий и его товарищи не планировали перевести очередную космографию, содержащую «басни» и невероятные истории, а планировали создание серьезного научного труда. Эти новые задачи отражены в работе над переводом Атласа Блау. Однако если в случае передачи топонимов задача оказалась бы выполнена при действительном попадании текста перевода вместе с картами к образованному читателю, то в случае передачи антропонимов подобное решение могло ввести и вводит в недоумение как средневекового читателя, так и современного исследователя.
Список литературы
Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-
XIX веков. М., 1982. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. http://lmguaetema.com/vocab-
ula/alph.php/.
8 Выделения курсивом есть в латинском издании 1645 г.
Живов В.М. История языка русской письменности: В 2 т. М., 2017.
Камчатнов А.М. История русского литературного языка: XI - первая половина XIX века. М., 2005.
Ключевский В. О. Курс русской истории. СПб., 1904.
Кузьминова Е. А. Развитие грамматической мысли России XVI-XVIII вв. М., 2012.
Кузьминова Е.А., Пентковская Т. В. Пути формирования русского научного дискурса в XVII в. // Мир науки, культуры, образования. 2016. № 4 (59). С. 221-229.
«Лекаконъ латинский» £. Славинецького. «Лексикон словено-латинсь-кий» £. Славинецького та А. Корецького. Сатановського / П1дгот. до вид. В.В. Шмчук. Кшв, 1973.
Матасова Т. А. Древнерусский перевод Первой книги «Географии» По-мпония Мелы: исторический контекст, перспективы издания и изучения // Русь, Россия: Средневековье и Новое время: Третьи чтения памяти академика РАН Л. В. Милова. М., 2013. С. 116-122.
Николенкова Н. В. Стратегии формирования церковнославянского языка как языка науки в XVII в. (на примере перевода Атласа Blaeu) // Славянское языкознание. XV Международный съезд славистов. Минск, 21-27 августа 2013 г.: Доклады российской делегации. М.: Индрик, 2013. С. 590-609.
Николенкова Н. В. Механизм трансформации топонимов в переводческой практике XVII века // Beitraege der Europaeischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV). 17. 2014. S. 132-139.
Николенкова Н. В. Русская географическая терминология во «Ввождении в Космографию»: Лингвистический аспект // Историческая география. Т. 3. М., 2016. С. 121-123.
Николенкова Н. В. Имена географов средневековья в церковнославянском переводе Атласа Блау XVII в. // Культура и просвещение в России XVII-XVIII вв. М, 2017 (в печати).
Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984.
Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России: Из прошлого русского естествознания. М.; Л., 1947.
Словарь русского языка XI-XVII вв. Т. 1-. М., 1975 - наст.вр.
Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1-6. Л., 1984-1991; Вып. 7-. СПб., 1992 - наст. вр. http://feb-web.ru/feb/sll8/.
Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV-XVII веков. СПб., 1903.
Томеллери В. Латинский язык в Геннадиевском кружке (о латинском произношении: предварительные данные и постановка вопроса)// Библия в духовной жизни, истории и культуре России и православного славянского мира. М., 2001. С. 52-65. Черная Л. А. Русская культура переходного периода от Средневековья
к Новому времени. М., 1999. Theatrum orbis terrarium, sive Atlas novus in quo tabulae et descriptions omnium Regionum. Editae a Guiljele et Ioanne Blaeu. Amsterdami, 1645.
Электронные ресурсы
НКРЯ. search-beta.ruscorpora.ru/. Дата обращения 26.08.2016. Biblioteca Digital Hispánica. http://bdh-rd.bne.es/.
Сведения об авторе: Николенкова Наталья Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: natanik2004@mail.ru.





 CC BY
CC BY 17
17