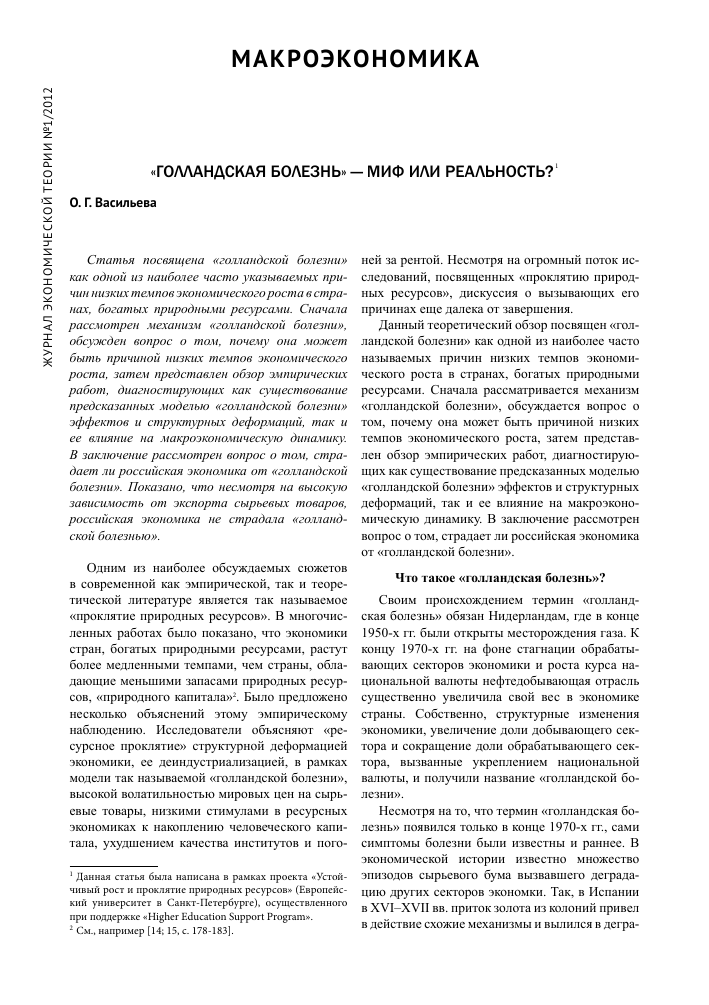МАКРОЭКОНОМИКА
гм
тН О гм
тН О!
X X
ё «голландская болезнь»
ш I—
^ О. Г. Васильева
^
и
ш !Т
2 Статья посвящена «голландской болезни» ° как одной из наиболее часто указываемых при° чин низких темпов экономического роста в стра-^ нах, богатых природными ресурсами. Сначала < рассмотрен механизм «голландской болезни», ^ обсужден вопрос о том, почему она может ^ быть причиной низких темпов экономического роста, затем представлен обзор эмпирических работ, диагностирующих как существование предсказанных моделью «голландской болезни» эффектов и структурных деформаций, так и ее влияние на макроэкономическую динамику. В заключение рассмотрен вопрос о том, страдает ли российская экономика от «голландской болезни». Показано, что несмотря на высокую зависимость от экспорта сырьевых товаров, российская экономика не страдала «голландской болезнью».
- миф или реальность? 1
ней за рентой. Несмотря на огромный поток исследований, посвященных «проклятию природных ресурсов», дискуссия о вызывающих его причинах еще далека от завершения.
Данный теоретический обзор посвящен «голландской болезни» как одной из наиболее часто называемых причин низких темпов экономического роста в странах, богатых природными ресурсами. Сначала рассматривается механизм «голландской болезни», обсуждается вопрос о том, почему она может быть причиной низких темпов экономического роста, затем представлен обзор эмпирических работ, диагностирующих как существование предсказанных моделью «голландской болезни» эффектов и структурных деформаций, так и ее влияние на макроэкономическую динамику. В заключение рассмотрен вопрос о том, страдает ли российская экономика от «голландской болезни».
Что такое «голландская болезнь»?
Своим происхождением термин «голландская болезнь» обязан Нидерландам, где в конце 1950-х гг. были открыты месторождения газа. К концу 1970-х гг. на фоне стагнации обрабатывающих секторов экономики и роста курса национальной валюты нефтедобывающая отрасль существенно увеличила свой вес в экономике страны. Собственно, структурные изменения экономики, увеличение доли добывающего сектора и сокращение доли обрабатывающего сектора, вызванные укреплением национальной валюты, и получили название «голландской болезни».
Несмотря на то, что термин «голландская болезнь» появился только в конце 1970-х гг., сами симптомы болезни были известны и раннее. В экономической истории известно множество эпизодов сырьевого бума вызвавшего деградацию других секторов экономки. Так, в Испании в ХУ1-ХУИ вв. приток золота из колоний привел в действие схожие механизмы и вылился в дегра-
Одним из наиболее обсуждаемых сюжетов в современной как эмпирической, так и теоретической литературе является так называемое «проклятие природных ресурсов». В многочисленных работах было показано, что экономики стран, богатых природными ресурсами, растут более медленными темпами, чем страны, обладающие меньшими запасами природных ресурсов, «природного капитала»2. Было предложено несколько объяснений этому эмпирическому наблюдению. Исследователи объясняют «ресурсное проклятие» структурной деформацией экономики, ее деиндустриализацией, в рамках модели так называемой «голландской болезни», высокой волатильностью мировых цен на сырьевые товары, низкими стимулами в ресурсных экономиках к накоплению человеческого капитала, ухудшением качества институтов и пого-
1 Данная статья была написана в рамках проекта «Устойчивый рост и проклятие природных ресурсов» (Европейский университет в Санкт-Петербурге), осуществленного при поддержке «Higher Education Support Program».
2 См., например [14; 15, c. 178-183].
дацию обрабатывающего сектора [5]. Открытие месторождений золота в Австралии в 50-х гг. XIX в. имело все симптомы «голландской болезни» и привело к схожим последствиям [10].
Механизм «голландской болезни»
Одна из первых формализаций модели «голландской болезни» была предложена в работах Corden и Neary [3] и Corden [2]. Для того чтобы понять механизм действия «голландской болезни», рассмотрим следующую простую модель малой открытой экономики. Допустим, что она состоит из трех секторов: испытывающего бум сырьевого сектора, который экспортирует производимые в нем товары на международные рынки; обрабатывающего сектора, который производит торгуемые промышленные товары; сектора экономики, производящего неторгуемые товары, главным образом услуги. Отметим, что сырьевой и обрабатывающий сектор продают свои товары по мировым ценам, а цены в сервисном секторе определяются полностью спросом и предложением внутри страны.
Для простоты предположим, что для производства в каждом из секторов используется два типа факторов производства. Первый фактор производства — это труд, который мобилен. Он перемещается в тот сектор, где выше предельный продукт труда, а значит выше и оплата труда. Второй фактор производства — это специфический для каждого сектора ресурс, который не может быть использован для производства в других секторах, допустим, что это капитал.
В результате роста цен на сырье или открытия нового месторождения, происходит рост доходов в сырьевом секторе. Бум в сырьевом секторе вызывает в экономике два эффекта — это эффект перемещения ресурсов и эффект расходов.
Эффект перемещения ресурсов заключается в следующем. Предположим, что курс национальной валюты неизменен, а значит, неизменна относительная цена услуг, выраженная через цены торгуемых товаров (сырья и промышленных товаров). Рост цен на сырьевые товары приводит к росту предельного продукта труда, а значит, и реальной заработной платы в этом секторе. Рост цены также приводит к росту доходности капитала или ренты на специфический, используемый только в этом секторе фактор. Более высокие доходы владельцев факторов производства
делают привлекательным этот сектор для ис- у пользования дополнительных единиц ресурсов, н а приток ресурсов (прежде всего, труда) приво- л дит к росту производства в этом секторе. к
В то же время в условиях постоянного обмен- о ного курса рост заработной платы в сырьевом ° секторе приводит к оттоку трудовых ресурсов, и как из сервисного сектора, так и из обрабатыва- е ющего сектора. Поскольку объем используемых к трудовых ресурсов в обрабатывающем секторе о падает (а значит, падает и объем производства в н этом секторе), можно говорить о том, что эффект 0 движения ресурсов сопровождается прямой де- и индустриализацией. х
Движение трудовых ресурсов из сервисного 1 сектора в добывающий сектор также приводит 2 к падению производства в сервисном секторе. 2 Предположим предельную ситуацию, когда эластичность спроса по доходу равна нулю, т. е. при росте доходов в результате роста цен на сырьевые товары спрос на услуги остается неизменным. Тогда сокращение предложения услуг при неизменном спросе обуславливает появление избыточного неудовлетворенного спроса. В случае если эластичность больше нуля, избыточный спрос будет еще больше. Для того чтобы погасить избыточный спрос на услуги, цены на услуги должны вырасти, а вместе с ними должен вырасти и обменный курс национальной валюты. Рост цен в секторе услуг приводит к росту предельного продукта труда и оплаты труда, что способствует притоку в этот сектор рабочей силы из обрабатывающего сектора, усиливая деиндустриализацию экономики.
Рассмотрим теперь эффект расходов. Для того чтобы изолировать влияние эффекта движения ресурсов, предположим, что в сырьевом секторе не создаются новые рабочие места, а значит, мы не наблюдаем спада производства в обрабатывающем и сервисном секторах, вызванных оттоком ресурсов из этих секторов в сырьевой. Рост цен на сырьевые товары расширяет границы производственных возможностей сырьевого сектора за счет более эффективного использования уже задействованных факторов производства, что приводит к росту доходов в экономике. Эти дополнительные доходы могут расходоваться либо непосредственно собственниками ресурсов, используемых для производства в этом секторе (т. е. домашними хозяйствами, получившими доход в форме заработной платы, и, скажем, предпринимателями, владельцами специфичес-
2
^ кого фактора производства, получившими доход ™ в форме ренты или прибыли на капитал), либо ^ государством, которое, собрав налоги с доходов ^ домашних хозяйств и предпринимателей, потратило их на социальные выплаты и/или инвести-ш ционные проекты. В любом случае часть дохо-^ дов используется на оплату услуг. Рост спроса ° на услуги приводит к росту цен и укреплению ¡^ национальной валюты: относительные цены на ^ внутренние товары (услуги) растут, а на торгуе-2 мые товары — падают. Рост относительных цен ^ на услуги позволяет платить более высокую зао работную плату в этом секторе, что приводит к т притоку трудовых ресурсов в сервисный сектор < и их оттоку из обрабатывающего сектора. ^ Рост цен и производства в секторе услуг в ре-^ зультате эффекта движения ресурсов и эффекта расходов, приводит к перемещению трудовых ресурсов из обрабатывающего сектора в сектор услуг, обуславливая косвенную деиндустриализацию.
В итоге выпуск в сервисном секторе может быть как выше, так и ниже начального уровня: эффект расходов способствует росту выпуска в сервисном секторе, а эффект перемещения ресурсов его снижению.
Отметим, что если сырьевой сектор использует незначительное количество факторов производства, которые могут быть использованы в других секторах экономики (например, добывающая промышленность не требует большого количества трудовых ресурсов), то влияние эффекта перемещения ресурсов на экономику невелико. В этом случае основное влияние на экономику оказывает эффект расходов.
Таким образом, рост цен на сырьевые товары приводит к росту выпуска добывающего сектора и сектора услуг и снижению производства в обрабатывающем секторе.
Почему «голландская болезнь» может быть вредна для долгосрочного экономического роста
Что плохого в сырьевой специализации, ведь с точки зрения классических теорий международной торговли специализация стран в международной торговле на товарах, для производства которых требуются те факторы производства, которыми они наиболее щедро наделены, выгодна всем участникам торговли? В этом случае специализация на сырьевых товарах для стран, богатых природными ресурсами, является ес-
тественной и выгодной, даже если жертвой такой специализации станет обрабатывающая промышленность. Почему же усиление специализации на сырьевых товарах рассматривается на сегодняшний день как процесс, наносящий вред экономическому развитию? Причин несколько. Во-первых, рост значения сырьевого сектора в экономике страны, усиление ее зависимости от высоковолатильных цен на сырьевые товары негативно влияют на накопление физического капитала. Высокая неопределенность в отношении будущих доходов, обусловленная зависимостью от мировых рынков сырьевых товаров, сокращает горизонт планирования инвесторов, вынуждая их либо отдавать предпочтение инвестиционным проектам с коротким сроком окупаемости, либо вовсе отказываться от инвестиций в эту страну или регион. Безусловно, в первую очередь в результате этого страдают проекты, связанные с развитием инфраструктуры, что также тормозит экономический рост.
Во-вторых, сокращение обрабатывающего сектора приводит к снижению темпов накопления человеческого капитала, поскольку именно этот сектор наиболее чувствителен к качеству человеческого капитала и именно в этом секторе создается наибольшее количество рабочих мест, требующих высокой квалификации. В свою очередь, высокий уровень человеческого капитала является необходимым условием как для генерации инноваций (технологических и управленческих), так и для их заимствования, а значит, и для эндогенного экономического роста. Поэтому «голландская болезнь» и вызванное ею сокращение обрабатывающего сектора наносит урон перспективам долгосрочного развития страны.
Однако говоря о вреде деиндустриализации экономики, вызванной «голландской болезнью», многие авторы подразумевают, что инновации генерируются преимущественно в обрабатывающем секторе экономики. Но так ли это? В качестве одного из основных источников роста производительности труда рассматриваются эффекты внешней экономии, в т. ч. эффекты обучения (так называемое обучение действием — leammg-by-domg) в отрасли, обусловленные масштабом и накопленным опытом функционирования отрасли (внешней экономией от масштаба) [8]. Обучение действием предполагает, что рост производительности труда в отрасли обусловлен накоплением незначительных
совершенствований и инноваций, чем больше предприятий работают в отрасли, чем длительнее ее существование, тем больше таких инноваций создается и тем быстрее растет производительность. В результате перемещения трудовых ресурсов между отраслями эти инновации (технологические и управленческие) становятся доступными и в других отраслях экономики.
Однако рост производительности труда, а вместе с ним и усиление специализации, и рост конкурентных преимуществ могут возникать как в индустриальном, так и, например, в аграрном секторе или в секторе торгуемых услуг. В этом смысле деиндустриализация сама по себе не является синонимом снижения темпов роста производительности труда и роста экономики.
Другим аргументом в пользу негативного влияния «голландской болезни» на темпы экономического роста является снижение эффективности предприятий обрабатывающих отраслей в результате сокращения объемов производства, потери как внутренней, так и внешней экономии от масштаба. Потеря внутренней экономии ведет к росту постоянных и совокупных издержек, а потеря внешней экономии от масштаба снижает темпы генерации и внедрения инноваций, а значит, и темпы роста производительности труда. Соответственно, после падения цен на сырье или исчерпания месторождения природных ресурсов сложно восстановить конкурентоспособность отраслей, пострадавших от ресурсного бума, на международном рынке. Однако снижение цен на сырье должно приводить к девальвации национальной валюты и снижению издержек, что отчасти позволяет восстановить конкурентоспособность даже при относительно низкой производительности труда и высоких совокупных издержках.
Кроме того, сокращение темпов роста производительности в индустриальном или ином секторе экономики в результате потери эффекта масштаба играет значимую роль только при высоких издержках связанных с получением и освоением технологий, придуманных в других странах. Чем быстрее и дешевле международная диффузия инноваций, распространение знаний и технологий между странами, тем меньшую роль играет то, в какой стране происходит непосредственная генерация инноваций. Прямые иностранные инвестиции, деятельность международных корпораций, размещающих обрабатывающие производства по всему миру, во многом
способствуют более быстрой и менее затратной у диффузии инноваций. н
С другой стороны, аргумент о том, что именно л сектор обрабатывающей промышленности по к умолчанию является торгуемым, справедлив о далеко не для всех стран. Высокие тарифные и/ ° или нетарифные ограничения могут быть при- и чиной того, что импорт промышленных товаров е значительно ограничен и, соответственно, этот к сектор не испытывает негативного влияния, вызванного ростом цен на сырьевые товары, а, на- _ оборот, подобно сектору услуг, должен скорее о расширяться, особенно если возможности роста и занятости в сырьевом секторе ограниченны. В х то же время если аграрный сектор менее защи- 1 щен тарифами, то именно он должен пострадать 2 от ресурсного бума, а не обрабатывающая про- 2 мышленность.
Наиболее значимым влиянием деиндустриализации и «голландской болезни» может быть вред, наносимый ими стимулам к накоплению человеческого капитала. Более низкий уровень образования населения (и в целом более низкий уровень человеческого капитала) делает более сложным не только генерацию инноваций, но даже их заимствование.
Таким образом, несмотря на свою интуитивность, гипотеза о том, что отставание темпов экономического роста стран, богатых природными ресурсами, обусловлена «голландской болезнью» и деиндустриализацией экономики, находит много теоретических возражений. Каковы результаты эмпирических исследований? Найдены ли аргументы в пользу или против этой гипотезы?
Некоторые результаты эмпирических
исследований «голландской болезни»
С момента, когда «голландская болезнь» и эффекты деиндустриализации, стали предметом обсуждения в экономической литературе в конце 1970-х гг., было предпринято много попыток найти свидетельства, подтверждающие или опровергающие эту гипотезу. Однако большая часть этих попыток представляла собой кейс-стади, где на примере той или иной страны разбирались симптомы «голландской болезнью» и их последствия.
Другим направлением в эмпирической литературе являются исследования, посвященные тестированию гипотезы о негативной связи между изобилием природных ресурсов и
es
g темпами экономического роста на межстрано-™ вых данных. Однако этот подход не позволял 2 отделить негативное влияние, обусловленное s именно «голландской болезнью», от негативен ного влияния, связанного с другими каналами о , ш «ресурсного проклятия»1.
Ранние попытки тестирования влияния не° посредственно «голландской болезни» на мак-¡^ роэкономическую динамику давали смешанные g результаты. Papyrakis и Gerlagh [12], исследуя 2 относительную значимость разных каналов «ре-^ сурсного проклятия», нашли подтверждение о тому, что рост доходов от экспорта природных m ресурсов по отношении к ВВП приводит к ук-< реплению национальной валюты и ухудшению
^ условий торговли, что, в свою очередь, оказы->
^ вает негативное влияние на темпы экономического роста. По оценкам этих авторов, ухудшение условий торговли является вторым по значимости каналом «ресурсного проклятия».
Другая попытка оценить влияние основного симптома «голландской болезни» — укрепления курса национальной валюты на темпы экономического роста, была предпринята Sala-i-Martin и Subramanian [16]. Однако, используя данные за 1970-1998 гг. для 71 страны, они нашли, что укрепление национальной валюты не оказывает статистически значимого влияния на темпы экономического роста.
Параллельно с исследованием влияния симптомов «голландской болезни» на экономическую динамику предпринимались попытки ответить на вопрос о том, действительно ли ресурсные экономики приобретают черты, структуру, предсказанные моделью «голландской болезни». Так, Spatafora и Warner [18], используя данные по 18 развивающимся странам — экспортерам нефти за 1965-1989 гг., нашли свидетельства того, что улучшение условий торговли (рост мировых цен на нефть) способствует росту конечного потребления, инвестиций (преимущественно в пользу неторгуемого сектора экономики) и не влияет на уровень сбережений в экономике. Авторы показали, что практически во всех рассматриваемых странах имело место укрепление национальной валюты. Таким образом, Spatafora и Warner нашли подтверждение существования эффекта расходов в экономиках стран — экспортеров нефти. Однако они не смогли найти доказательств в пользу деиндуст-
1 См., например, Sachs J., Warner A. Natural Resource Abundance and Economic Growth [14].
риализации экономик стран — экспортеров нефти, т. е. сокращения производства в торгуемых секторах — секторе обрабатывающей промышленности и в сельскохозяйственном секторе, что объясняется, по их мнению, эксклавный характером нефтяного сектора, спрос на факторы производства в котором не оказывал значимого влияния на другие отрасли экономики. Таким образом, авторы смогли лишь частично подтвердить наличие некоторых симптомов «голландской болезни» у стран — экспортеров нефти.
Stijns [19] пошел несколько иным путем, воспользовавшись гравитационными моделям международной торговли, суть которых заключается в том, что объем торговых потоков между странами предполагается прямо пропорциональным размеру экономик торгующих стран (их ВВП) и обратно пропорциональным расстоянию между ними. Stijns нашел, что рост мировых цен на энергоносители на 1% сокращает экспорт продукции обрабатывающей промышленности страны — нетто экспортеров энергоресурсов на 0,5%. Тем самым он косвенно подтвердил существование «голландской болезни».
Похожий результат был получен в недавней работе Harding и Venables [6]. Авторы на данных по 134 странам за 1975-2007 гг. оценили, какое влияние оказывает рост чистого экспорта природных ресурсов (углеводородов и руды) и иностранной помощи на долю несырьевого экспорта и импорта в ВВП. Их результаты свидетельствуют о том, что рост сырьевого экспорта на 1 доллар приводит к сокращению несырьевого экспорта на 0,5 доллара и росту импорта на 0,15. При этом авторы показывают, что рост сырьевого экспорта влияет только на экспорт товаров обрабатывающей промышленности и не оказывает влияния на экспорт сельскохозяйственных товаров. Таким образом, полученные Harding и Venables результаты свидетельствуют в пользу существования эффектов, предсказанных моделью «голландской болезни», а именно — деин-дустрализации экономики, вызванной притоком сырьевых доходов и укреплением национальной валюты.
Следующей вехой в исследовании «голландской болезни» стало использование микроэкономических отраслевых данных взамен высокоагрегированных макроэкономических данных. Так, Леонов и Волчкова (2008) [9] ис-
следовали динамику обрабатывающих отраслей в богатых и бедных природными ресурсами странах. Их предположение состояло в следующем. Поскольку «голландская болезнь» (через механизм повышения обменного курса) оказывает негативное влияние на объем производства в обрабатывающем секторе, то от нее должны страдать, в первую очередь, те отрасли промышленности, для которых характерна высокая экономия от масштаба, а также отрасли, которые в наибольшей степени ориентированы на внешние рынки. Для отраслей, для которых характерны высокие постоянные издержки, чем выше объем производства, тем ниже совокупные издержки на единицу продукции, и значит, выше конкурентоспособность на международном рынке. Однако именно эти отрасли (с высокими постоянными издержками) страдают в первую очередь даже при незначительном снижении объема производства. Повышение обменного курса национальной валюты приводит к росту издержек и сокращению объема производства, что вызывает рост постоянных издержек на единицу продукции, тем самым способствуя дальнейшему росту совокупных издержек и снижению конкурентоспособности на международном рынке, что, в свою очередь, ведет к очередному витку снижения объема производства.
Вторая группа наиболее чувствительных к повышению валютного курса отраслей — это наиболее «открытые» отрасли, т. е. отрасли, реализующие большую часть своей продукции на внешних рынках. Чем выше поднимается курс национальной валюты в результате «голландской болезни», тем быстрее растут издержки производства, тем менее конкурентоспособной на внешних рыках становится их продукция. Поскольку большая часть их продаж зависит от спроса именно на внешних рынках, то для «открытых» отраслей, повышение курса национальной валюты оказывается более болезненным, чем для отраслей, реализующих большую часть продукции на внутреннем рынке.
Если бы Леонову и Волчковой [9] удалось найти, что в странах богатыми природными ресурсами отрасли, наиболее чувствительные к укреплению национальной валюты, растут более медленными темпами, чем в странах, относительно бедных природными ресурсами, это служило бы аргументом в пользу эффекта деиндустриализации экономики, вызванной механиз-
мами «голландской болезни». Однако авторы не у
1 р смогли подтвердить эту гипотезу1. х
В работе Ismail [7] также были использо- л ваны микроэкономические данные, а и именно к объем выпуска и добавленная стоимость по 81 о отрасли промышленности в 90 странах, включая ° 15 стран — экспортеров нефти, за период с 1977 и по 2004 гг. Однако в отличие от работы Леонова е и Волчковой [9], Ismail нашел, что рост цен на к нефть оказывает негативное влияние на выпуск в обрабатывающей промышленности, что со- _ гласуется с предсказанной моделью «голланд- о ской болезни» деиндустриализацией экономики. U Автор показал, что 10% увеличения стоимости s нефти сопровождается снижением добавленной 1 стоимости в обрабатывающей промышленности 2 на 3,4%, или снижением ее валового выпуска на 2 3,6%.
Таким образом, эмпирические свидетельства в пользу существования «голландской болезни» и вызываемой ею деиндустриализации экономики неоднозначны. Есть работы как подтверждающие теоретические результаты, полученные в модели, так и опровергающие их полностью или частично.
Больна ли российская экономика «голландской болезнью»?
Если до сих пор не получены эмпирические доказательства, однозначно свидетельствующие в пользу существования «голландской болезни» на межстрановом уровне, то описание кейсов в целом свидетельствует скорее в пользу существования «голландской болезни» и эффектов, ей приписываемых. В этом смысле российская экономика является одним из очевидных кандидатов для проведения таких исследований. Так, по некоторым оценкам, в начале 2000-х гг. вклад нефтегазового сектора в российскую экономику достигал 25% [1]. В публицистической и деловой литературе, также как и в академических кругах, достаточно давно и крепко закрепилось уверенность о том, что экономика России больна «голландской болезнью». Но так ли это?
Попытки ответить на этот вопрос предпринимались неоднократно. Сосунов и Замулин [17] отмечают серьезное укрепление рубля в первой
1 В другой работе Волчкова и Суслова нашли, что в стра-
нах, богатых природными ресурсами, отрасли испытывающие потребности в высококвалифицированном персонале растут медленнее, чем отрасли, использующие менее квалифицированную рабочую силу [20].
es
g половине 2000-х гг. как одну из ключевых осо-™ бенностей российской экономики. Полученные ^ ими результаты свидетельствуют о том, что ук-s репление рубля было обусловлено ростом цен cl на нефть, а также ростом физических объемов ш экспорта нефти, что дает основания опасаться развития симптомов «голландской болезни» в о России.
^ Однако Roland [13], анализируя данные g 2004 г., указывает на укрепление рубля и замед-2 ление роста экспорта машин и оборудования, ^ но приходит к выводу, что говорить о «голландец ской болезни» в российской экономике преждев-m ременно. К аналогичному выводу приходит и < Волчкова [1].
^ Oomes и Kalcheva [11] также предприняли >
^ попытку ответить на вопрос о наличии у российской экономики симптомов «голландской болезни», а именно: укрепления реального обменного курса рубля, замедление роста обрабатывающего сектора, ускорение роста сервисного сектора и повышения общего уровня оплаты труда. Несмотря на то, что авторами получены результаты, свидетельствующие в пользу существования всех перечисленных выше симптомов «голландской болезни», они указывают на то, что все эти симптомы могут быть объяснены не только «голландской болезнью», но и другими факторами и механизмами.
В недавней работе Dobrynskaya и Türkisch [4], проанализировав данные о развитии российской экономики с 1999 по 2008 гг., показали, что, несмотря на укрепление национальной валюты и отток рабочей силы из обрабатывающей промышленности, темпы роста этого сектора были выше, чем в добывающем секторе и секторе услуг. В 1999-2007 гг. среднегодовые темы роста промышленности составляли 7,4%, нефтедобычи 4,9%, сектора услуг — 6,1%. При этом, несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть, нефтедобыча в России во второй половине 2000-х гг. росла чуть более 2% в год.
В целом исследователи единодушны в том, что вплоть до мирового экономического кризиса 2008 г. российская экономика не страдала
от «голландской болезни».
* * *
Несмотря на то что модель «голландской болезни» прочно вошла как в научную, так и в учебную литературу, являясь одной из наиболее часто называемых причин «проклятия природных ресурсов», эмпирические попытки ее тес-
тирования не столь однозначны. Диагностика ее симптомов, как и попытки оценить ее влияние на экономический рост, оказываются очень чувствительны к используемым прокси-методам и методам оценивания.
Российская экономика, отличающаяся высокой зависимостью от экспорта сырьевых товаров на мировые рынки, казалось бы, должна испытывать все эффекты, предсказанные моделью «голландской болезни». Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что, несмотря на мощный поток доходов от сырьевого экспорта, в российской экономике «голландская болезнь» не наблюдалась. Соответственно, причины низких темпов роста отечественной экономики на фоне высоких мировых цен на энергоресурсы после кризиса 2008 г., лежат за рамками ее сырьевой специализации в мировом разделении труда.
Список источников
1. Волчкова Н. Является ли «голландская болезнь» причиной энергозависимой структуры российской промышленности? // Торговая политика и значение вступления в ВТО для развития России и стран СНГ. — М.: Весь мир, 2006.
2. Corden W. M. Booming Sector and Dutch Disease Economics. Survey and Consolidation // Oxford Economic Papers. — 1984. — Vol. 36 (Nov.). — P. 359-380.
3. Corden W. M., Neary J. P. Booming Sector and De-industrialisation in a Small Open Economy // Economic Journal. — 1982. — Vol. 92. -No 368. -P. 825-848.
4. Dobrynskaya V., Turkisch E. Is Russia sick with the Dutch disease? // CEPII Working paper. 2009. — № 200920 (Sept.). [Electronic resource]. URL: http://www.cepii.net/ anglaisgraph/workpap/pdf/2009/wp2009-20.pdf (time of access: 10.12.2011)
5. Drelichma M. The Curse of Moctezuma American Silver and the Dutch Disease, 1501-1650 // Working paper The University of British Columbia, Department of Economics. — 2003. [Electronic resource]. URL: http://129.3.20.41/eps/eh/papers/0404/0404001.pdf (time of access: 10.12.2011).
6. Harding T., Venables A. J. Exports, Imports and Foreign Exchange Windfalls // Working paper. — 2011. — Febr. [Electronic resource]. URL : http://www.eea-esem. com/files/papers/EEA-ESEM/2011/2330/hv3.pdf (time of access: 10.12.2011).
7. Ismail K. The Structural Manifestation of the "Dutch Disease": The Case of Oil Exporting Countries // International Monetary Fund Working Paper. 2010. — No 10/103. [Electronic resource]. URL: http://relooney.info/0_ NS4053_691.pdf (time of access: 10.12.2011).
8. Krugman P. The Narrow Moving Band, the Dutch Disease, and the Competitive Consequences of Mrs. Thatcher: Notes on Trade in the Presence of Dynamic Scale Economies // Journal of Development Economics. — 1987. — Vol. 27. — № 1-2. — P. 41-55.
9. Leonov M., Volchkova N. Searching for Dutch Disease: Natural Resources and Industrial Growth // CEFIR Working Paper, 2008.
10. Maddock R., Mclean I. Supply Side Shocks: The Case of Australian Gold // Journal of Economic History. — 1984. — Vol. 44. — № 4. — Pp. 1047-1067.
11. Oomes N., Kalcheva K. Diagnosing Dutch Disease. Does Russia Have the Symptoms? // IMF Working Paper. — 2007. — No WP/07/102 (april).
12. PapyrakisE., GerlaghR. The resource curse hypothesis and its transmission channels // Journal of Comparative Economics. — 2004. — № 32. — P. 181-193.
13. Roland G. The Russian Economy in the Year 2005 // Mimeo. — Berkeley : University of California at Berkeley, 2005. [Electronic resource]. URL: http://emlab.berkeley. edu/~groland/pubs/The_Russian_Economy_in_the_ Year_2005.pdf (time of access: 20.08.2011).
14. Sachs }., Warner A. Natural Resource Abundance and Economic Growth // NBER Working Paper. — 1995. — No W5398 (dec.). [Electronicresource]. URL : http://www.nber. org/papers/w5398 (time of access: 20.08.2011).
15. Sala-i-Martin X. I Just Run Two Million Regressions // The American Economic Review. Papers and Proceedings
М. Ю. Малкина, С. Ю. Лавров 69
of the Hundred and Fourth Annual Meeting of the American ^
Economic Association. — 1997. — Vol. 87. № 2. P. 178-183 ^
16. Sala-i-Martin X., Subramanian A. Addressing the ^ Natural Resource Curse: an Illustration from Nigeria // ^ NBER Working Paper. — 2003. — № 9804 (June). [Electronic w resource]. URL: http://www.nber.org/papers/w9804 (time of o access: 20.08.2011).
17. Sosunov K., Zamulin O. Can Oil Prices Explain the Real Appreciation of the Russian Ruble in 1998-2005 // S CEFIR/NES Working Paper. 2006. — № 83. m
18. Spatafora N., Warner A. Macroeconomic Effects ^ of Terms-of-Trade Shocks. The Case of Oil-Exporting O Countries // World Bank Policy Research Working Paper. — _! 1995.— №1410. rn
19. Stijns }. P. An empirical test of the Dutch Disease -a hypothesis using a gravity model of trade // Working ^ paper University of California at Berkeley, Department of z Economics. — 2003. — May. h^
20. Volchkova N., Suslova E. Human Capital, Industrial g Growth and Resource Curse // CEFIR Working Paper, 2007. ^
О
УДК 330.15 339.5
ключевые слова: природные ресурсы, проклятие природных ресурсов, голландская болезнь





 CC BY
CC BY 79
79