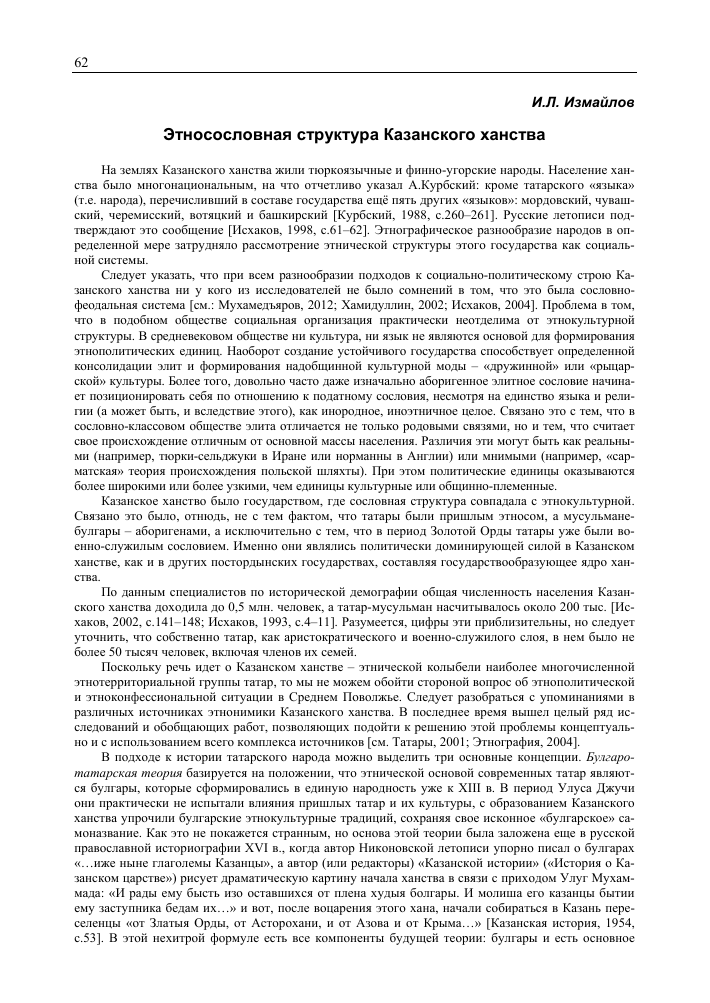И.Л. Измайлов Этносословная структура Казанского ханства
На землях Казанского ханства жили тюркоязычные и финно-угорские народы. Население ханства было многонациональным, на что отчетливо указал А.Курбский: кроме татарского «языка» (т.е. народа), перечисливший в составе государства ещё пять других «языков»: мордовский, чувашский, черемисский, вотяцкий и башкирский [Курбский, 1988, с.260-261]. Русские летописи подтверждают это сообщение [Исхаков, 1998, с.61-62]. Этнографическое разнообразие народов в определенной мере затрудняло рассмотрение этнической структуры этого государства как социальной системы.
Следует указать, что при всем разнообразии подходов к социально-политическому строю Казанского ханства ни у кого из исследователей не было сомнений в том, что это была сословно-феодальная система [см.: Мухамедъяров, 2012; Хамидуллин, 2002; Исхаков, 2004]. Проблема в том, что в подобном обществе социальная организация практически неотделима от этнокультурной структуры. В средневековом обществе ни культура, ни язык не являются основой для формирования этнополитических единиц. Наоборот создание устойчивого государства способствует определенной консолидации элит и формирования надобщинной культурной моды - «дружинной» или «рыцарской» культуры. Более того, довольно часто даже изначально аборигенное элитное сословие начинает позиционировать себя по отношению к податному сословия, несмотря на единство языка и религии (а может быть, и вследствие этого), как инородное, иноэтничное целое. Связано это с тем, что в сословно-классовом обществе элита отличается не только родовыми связями, но и тем, что считает свое происхождение отличным от основной массы населения. Различия эти могут быть как реальными (например, тюрки-сельджуки в Иране или норманны в Англии) или мнимыми (например, «сарматская» теория происхождения польской шляхты). При этом политические единицы оказываются более широкими или более узкими, чем единицы культурные или общинно-племенные.
Казанское ханство было государством, где сословная структура совпадала с этнокультурной. Связано это было, отнюдь, не с тем фактом, что татары были пришлым этносом, а мусульмане-булгары - аборигенами, а исключительно с тем, что в период Золотой Орды татары уже были военно-служилым сословием. Именно они являлись политически доминирующей силой в Казанском ханстве, как и в других постордынских государствах, составляя государствообразующее ядро ханства.
По данным специалистов по исторической демографии общая численность населения Казанского ханства доходила до 0,5 млн. человек, а татар-мусульман насчитывалось около 200 тыс. [Исхаков, 2002, с.141-148; Исхаков, 1993, с.4-11]. Разумеется, цифры эти приблизительны, но следует уточнить, что собственно татар, как аристократического и военно-служилого слоя, в нем было не более 50 тысяч человек, включая членов их семей.
Поскольку речь идет о Казанском ханстве - этнической колыбели наиболее многочисленной этнотерриториальной группы татар, то мы не можем обойти стороной вопрос об этнополитической и этноконфессиональной ситуации в Среднем Поволжье. Следует разобраться с упоминаниями в различных источниках этнонимики Казанского ханства. В последнее время вышел целый ряд исследований и обобщающих работ, позволяющих подойти к решению этой проблемы концептуально и с использованием всего комплекса источников [см. Татары, 2001; Этнография, 2004].
В подходе к истории татарского народа можно выделить три основные концепции. Булгаро-татарская теория базируется на положении, что этнической основой современных татар являются булгары, которые сформировались в единую народность уже к XIII в. В период Улуса Джучи они практически не испытали влияния пришлых татар и их культуры, с образованием Казанского ханства упрочили булгарские этнокультурные традиций, сохраняя свое исконное «булгарское» самоназвание. Как это не покажется странным, но основа этой теории была заложена еще в русской православной историографии XVI в., когда автор Никоновской летописи упорно писал о булгарах «... иже ныне глаголемы Казанцы», а автор (или редакторы) «Казанской истории» («История о Казанском царстве») рисует драматическую картину начала ханства в связи с приходом Улуг Мухам-мада: «И рады ему бысть изо оставшихся от плена худыя болгары. И молиша его казанцы бытии ему заступника бедам их.» и вот, после воцарения этого хана, начали собираться в Казань переселенцы «от Златыя Орды, от Асторохани, и от Азова и от Крыма.» [Казанская история, 1954, с.53]. В этой нехитрой формуле есть все компоненты будущей теории: булгары и есть основное
население ханства, которые едва не были завоеваны Русью, но пришли татары во главе с Улуг Му-хаммадом и создали крепкое враждебное Руси ханство и туда хлынули переселенцы из Золотой Орды и других татарских краев. Эта теория имеет вполне конкретные идеологические причины появления [Ре1еп8к1, 1974; 8еуеепко, 1967, р.541-547; Рек^Ы, 1967, р.559-576; Измайлов, 1992, с.50-62], поэтому активно внедрялась только в российской историографии. В 1920-е гг. эту теорию активно поддержал М.Г.Худяков, придав ей новый импульс, а после постановления ЦК ВКП(б) от 9 августа 1944 г. и сессии по происхождению казанских татар (25-26 апреля 1946 г.) эта теория стала официальной и основной концепцией. В той или иной мере ее поддерживали Х.Гимади, Н.Ф.Калинин, Г.В.Юсупов, А.П.Смирнов, А.Х.Халиков, М.З.Закиев, С.Х.Алишев и др.
Тюрко-монгольская теория основывается на утверждении, что в Европу еще до начала монгольских походов хлынули татарские племена, смешавшись с кыпчаками. После образования Улуса Джучи они стали основным населением этого государства. В Поволжье булгары были или истреблены, или бежали в Окско-Свияжское междуречье, а остальные - ассимилированы татарами. Эта теория разрабатывалась еще Н.И.Ашмариным, а ныне нашла сторонников в лице Р.Г.Фах-рутдинова, М.И.Ахметзянова, В.Ф.Каховского, В.Д.Димитриева, Н.А.Мажитова и ряда других историков.
Тюрко-татарская теория происхождения татарского народа подчеркивает тюрко-татарские корни современных татар и уделяет большое внимание этнополитическим традициям тюрко-татарских государств. Основным элементом в процессе этногенеза и этнической истории ее сторонники считают факторы становления и развития самосознания (выражающегося в этнониме, исторических представлениях и традициях), религии, государственности, письменной культуры и системы образования, указывая на более широкие этнокультурные корни общности татар, чем Урало-Поволжье. Период Казанского ханства в этнокультурной истории татар, по мнению сторонников этой теории, стал временем распада единой этнополитической общности татар Улуса Джучи и началом формирования локальной татарской общности - «казанских татар», однако этот процесс не был завершен, и в составе Российского государства ведущими стали иные, консолидационные, этнокультурные процессы. Эта теория в определенной степени разрабатывалась в трудах Г.Губайдуллина, А.Н.Курата, М.Г.Сафаргалиева, Э.Н.Наджипа, Ш.Ф.Мухамедьярова, Р.Г.Кузеева, М.А.Усманова, Д.И.Исхакова, Ю.Шамильоглу, А.-А.Рорлих, И.Л.Измайлова и др.
Для того, чтобы наметить пути решения проблемы, разберем основные наименования населения Казанского ханства в аутентичных источниках и исторической литературе. Всего таких наименований выделяется четыре: булгары (болгар), казанцы (казанлы, казан кешесе), мусульмане (мвслимин, мвселман, русская транскрипция бесермяне) и татары (татар) [см.: Хамидуллин, 2002, с.134-138].
Наименование булгары является традиционным для населения Поволжья и весьма удобным для историков, которые выстраивают соответствующие теории, исходя из общих этногенетических соображений. Применительно к населению Казанского ханства характерно такое его описание: «Булгары - несомненно наличие этнического, географического и политического факторов, возможно, социального и религиозного факторов. Этнический фактор сформировался с учетом того, что основное население Казанского ханства считало себя потомками того населения, которое первоначально являлось государствообразующим в причерноморской Великой Болгарии..., а затем и в Волжско-Камской Булгарии. Географический фактор сформировался с учетом того, что территория Среднего Поволжья уже не позднее X в. приобрела название «Булгария», что сохраняется вплоть до ХУШ-Х1Х вв. Качество политонима первоначальное этническое наименование «булгары» приобретает в периоды. Казанского ханства (в источниках нередко именуемого «Булгарией», «Бул-гарским государством», столица государства Казань первоначально именовалась - на монетах начала XV в. - «Булгаром») [Хамидуллин, 2002, с.135].
Итак, создается полное впечатление активного и широкого использования терминов «Булгария» и «булгары» по отношению к Казанскому ханству и его населению. Однако источники не подтверждают эту уверенность автора. Во-первых, термин «булгары» (ни как этноним, ни как по-литоним) не известен в аутентичных источниках. Попытки видеть в этих самых булгар в выражении «булгаре иже ныне глаголемы Казанцы» «Никоновской летописи» и «Казанской истории», не могут быть приняты всерьез, особенно после обстоятельных работ Я.Пеленски, раскрывшего идеологическую подоплеку подобного наименования, отсутствующего, к слову сказать, в других аутентичных летописях (например, «Летописец начала царства» и др.). В историко-географической традиции, особенно арабо-персидской, действительно очень часто территория Поволжья именуется
Булгарией, причем в иной раз даже уже тогда, когда ни Булгарии, ни даже Казанского ханства не существовало как исторической реалии. Например, в «Шараф-нама-йи шахи / Книге шахской славы» Хафиз-и Таныш Бухари, применительно к концу XVI в. пишется, что территория государства Шибанида Абу-л-Хайр-хана простиралась от некоей мифической земли «Рустам Турласа до границы Булгар» [Хафиз-и Таныш Бухари, 1983, с.78]. Ясно, что здесь Булгарская земля выступает синонимом понятия далеко на запад. Однако даже, если бы автор этого сочинения использовал его лет на пятьдесят раньше и применительно к Казанскому ханству, это абсолютно ничего не значило бы, поскольку тогда нам пришлось бы признать, что население Андалусии составляют вандалы, Саксонии - саксы, а Палестину населяют филистимляне. Однако, поскольку из других источников мы знаем, что это отнюдь не так, то и в отношении Булгарии, как исторического наименования, не стоит делать поспешных выводов.
Гораздо более интересно упоминание Казанского ханства в аутентичном сочинении «Зафар-наме вилайет-и Казан» Ш. Хаджитархани. Однако и в нем, с одной стороны, явственно видна восточная традиция наименования Поволжья (может быть влияние переписчика?1), а с другой - само название говорит, что главным здесь является наименование «Казань», недаром в тексте прямо указано, что Сафа-Гирей Бахадир-хан вторично стал правителем Казанского вилайета, а далее автор подчеркивает, что «столица Булгарского вилайета... город... Казань» [Шерефи, 1997, с.87, 89, 90]. Иными словами, автор вполне адекватно реалиям сообщает читателям, что речь идет о Казани, который является центром вилайята (здесь, несомненно, «владение», а не «провинция», «наместничество», как в позднетурецкой административной системе), исторической области Булгарии. При этом ни в том, ни в другом случае речь не идет о том, что населением этой области являются булгары. Отсюда ясно, что никакого народа булгар в аутентичных источниках нет и сторонники этой гипотезы не привели еще ни одного серьезного аргумента в свою поддержку. Можно констатировать лишь, что в ряде источников встречается термин «Булгарская земля» или «Булгарский вилайят», но он носит характер именования исторической области и не имеет никакого отношения к этнической номенклатуре эпохи Казанского ханства. Вслед за признанием этого горького для многих поколений «булгаристов» факта, в Лету должны кануть и всякие пассажи о том, как и когда булгары трансформировались в казанцев или татар. Судя по тем источникам, которыми мы обладаем на настоящий момент, к периоду Казанского ханства эта трансформация уже завершилась и булгары, как этнос, стали уже достоянием исторической памяти и историографической традиции.
Наименование казанцы также является указанием на топоним, что позволяет историкам видеть наличие политического содержания в нем. Оно, якобы, формируется еще в Булгарии, а затем развивается в периоды Золотой Орды и Казанского ханства [Хамидуллин, 2002, с.136]. Обычно, говоря о широком распространении этого термина и даже о его этническом характере, историки ссылаются на подсчеты М.Г.Худякова о том, что автор «Казанской истории» использовал его более 300 раз, гораздо чаще, чем термины «булгар» и «татар» вместе взятые. Между тем, это должно было бы насторожить историков. Казанцы в этом довольно позднем публицистическом сочинении, написанном в русле определенного идеологического заказа, явно отражали не реалии периода Казанского ханства, а служили неким терминологическим эвфемизмом, применявшемся дабы отодвинуть наименование татар, имевшее свою негативную нагрузку, заменив его более приемлемым термином и, тем самым, одновременно отдалив, даже несколько разделив их [См.: Солодкин, 2001, с.197-212]. Судя по восторженным комментариям некоторых современных историков, можно сказать, что автор и редакторы «Казанской истории» своей цели достигли. Дело не в том, что этот термин был малоупотребителен в аутентичных летописях, там он встречается довольно часто, а в характере его употребления. В «Казанской истории» он действительно заменяет все другие этнонимы и приобретает некий всеобщий характер, тогда, как в других аутентичных источниках он разбавлен иными понятиями.
Следует также иметь в виду, что в русских источниках термин «казанцы» практически всегда связан с городом или страной, поэтому в нем следует видеть не только политоним или этникон, но и урбоним. В этом смысле он ничем не выделяется среди других подобных - крымцы, азовцы, «аз-тороканцы» или «мещерские люди». Вполне очевидно, что этот термин не вытеснял понятия «бол-
1 В принципе, это не должно удивлять, поскольку автор предназначал рукопись в дар Сулейману Кану-ни и должен был следовать канонам восточной словесности и географической традиции.
гары», поскольку с ними и не конкурировал, а служил в качестве прилагательного к понятию татар. Он конкретизировал и уточнял о ком идет речь и помогал ориентироваться в ситуации.
Термин мусульмане (или по русским источникам бесермяне), несомненно, был наиболее широко распространен в среде самых широких народных масс сельских и городских жителей. Как на Руси основное население по конфессионально-сословному признаку называло себя крестьянами/христианами, так и часть населения ханства именовала себя мусульманами. В русских источниках (летописях и посольских книгах) немало фактов, указывающих на то, что основное население Казанского ханства именовалось мусульманами (бесермянами). Нет особого смысла перечислять эти многочисленные факты. Укажем только на два аутентичных свидетельства. Автор одного из них С.Герберштейн, дважды побывавший с австрийскими посольствами в Москве, писал: «татары разделены на орды» и «все исповедуют магометанскую веру; если их называют турками, они бывают недовольны, почитая это за бесчестье. Название же «бесермяне» их радует, а этим именем любят себя называть и турки» [Герберштейн, 1988, с.167]. Здесь тонко подмечено, что довольно абстрактное (по языку) родство с турками не воспринимается казанскими татарами и даже «почитается за бесчестье», тогда как религиозная принадлежность осознается и воспринимается положительно. Вряд ли можно согласиться с тем, что в этом случае историки имеют дело с «конфессио-нимом, трансформированном со временем в некий этнический определитель» [Хамидуллин, 2002, с.136]1, поскольку для населения Среднего Поволжья религиозная принадлежность долгое время служила одновременно этноконфессиональным, сословным и даже этнополитическим определителем. В период Казанского ханства подобная определенность уже размывалась, поскольку мусульманами были и сарайцы, и астраханцы, и азовцы, и крымцы, но для основного сельского населения она сохраняла свою действенность и определенность. Одновременно она обладала и сословной четкостью, так как податное население ханства не было включено в татарскую клановую систему.
Прекрасный образец дуальной этнонимической системы, как отражение сословно-классового деления общества представляет собой регион бассейна рек Вятки и Чепцы, где дихотмия татары -бесермяне или татары - чуваша и/или вотяки сохранилась практически до этнографической современности. При этом различия между ними зафиксированы в расселении (разные концы одного поселения), а также в костюме, обычаях и исторических преданиях о происхождении (причем, именно в татарской части зафиксированы генеалогии, связывающие местные кланы с татарами Поволжья и Южного Урала) [см.: Исхаков, 2013].
При этом определенная часть городской интеллигенции, относя себя к мусульманам, весьма негативно относилась к татарской знати. В поэме Мухаммедъяра «Тухваи Мардан», прямо сказано:
«Эх, несчастный и тупой татарин,
Ты похож на собаку, кусающую своего хозяина.
Ты нечестив и болезненный, негодяй и бесчеловечный.
Глаз твой черный, ты собака преисподней.
Вид твой противный, взор твой злой,
Снаружи и изнутри ты вшивый, полон всяких сплетен» [перевод Ш.Ш.Абилова].
Даже если эта злая инвектива касается какого-то определенного представителя татарской олигархии, то тогда указание на его клановую (этническую) принадлежность заставляет считать, что себя автор не относил к числу татар. Однако делать вывод, что он при этом являлся булгарином, абсолютно неверно. Поскольку это будет попыткой поэта XVI века представить не человеком средневековья, с присущими ему стереотипами и мусульманской идентификацией, а едва ли не сторонником «необулгаризма». Тогда как для правоверного образованного горожанина термин «Булгар» был традиционным для исламской науки обозначением Среднего Поволжья, возможно с подчеркнутым ореолом особой святости, а представители военно-служилого сословия - образцом варварства и дикости, но не потому, что они «татары», а из-за того, что они «плохие мусульмане». Иными словами, в этой инвективе казанского поэта при желании можно увидеть пропасть между сословиями и их культурами, нежели сомнительное свидетельство некоего булгаризма Мухаммедъяра.
1 Кроме терминологической нечеткости («конфессионим, трансформирующийся в этнический определитель») автор упускает из виду, как, впрочем, и в случаях с другими терминами, какие из них является эндо-, какие экзоэтнонимами. В результате получается некая каша их терминов, не имующих ни четкой структуры, ни определенной системы. Может быть подобная определенность не сложилась у исследователя, но это не значит, что ее не было у населения Казанского ханства.
Термин татары в Казанском ханстве был связан своим происхождением с этнополитической общностью, которая формировалась на территории Улуса Джучи. В XV-XVI вв. термин татар укореняется и активно используется, имея многозначную семантику, которую можно свести к нескольким смысловым блокам, как это было и в предшествующий период. В этой связи важно подчеркнуть, что термин татар был не просто соционимом, но определял более широкий круг представлений о единстве конкретной социальной страты [Измайлов, 1993, с.17-32; Измайлов, 2002, с.244-262].
1. Казанское ханство - как государство татар. В этом смысле его употребляют различные средневековые авторы (русские летописцы и европейские путешественники), а также татарский фольклор (эпос «Идегей») [Идегей, 1990, с.121, 124, 125]. Такое стойкое употребление названия страны в разных (в том числе и аутентичных) источниках, заставляет считать, что оно передает реалии одного из названий страны и служит определением ее и живущего здесь народа по правящему татарскому клану.
2. Татары как сословие военно-служилой аристократии. Однако, более важными следует признать данные из дастана «Идегей», непосредственно отражавшего этнополитическое сознание определенной части населения Поволжья и Приуралья XV-ХVI вв., в котором главный герой неоднократно хвалится принадлежностью к «славному татарскому роду» [Идегей, 1990, с.70, 108, 126, 135].
Начальный этап формирования этого слоя фиксируют источники XIII в., когда целые племена, попадая под власть монголов, становились их вассалами. Однако по мере укрепления и расцвета улусной системы происходит расслоение внутри прежних племен и выделяется имперская военно-служилая знать, которая, видимо, активно использует социально-престижное имя татар. Несомненно, также, что именно в этой среде вырабатывается особая сословная рыцарская культура, имевшая надэтничный характер. Она включала в себя сходные типы и виды вооружения, конского снаряжения, геральдику, образ жизни и генеалогию (одним из элементов которой являлось наличие среди легендарных предков Татара). Разумеется, конкретные элементы этой культуры требуют еще специального изучения, но уже сейчас ясно, что и в XIV-ХV вв. и позднее эта культура, как и употребление самоназвания «татар», имела надэтничный характер, несводимый к этноязыковому единству ее носителей.
Судя по всем этим данным, подобное «татарское» самосознание опиралось, в первую очередь, на принадлежность к военно-феодальному сословию (служащему «пером и мечом» Джучидам и имеющего свой определенный этос), к мусульманской цивилизации и к кочевому, как правило, образу жизни. Подобное самоопределение, скреплявшее единство золотоордынской элиты, не исчезло с распадом государства, а сохранилось именно в качестве социального термина. Такое обозначение военно-служилой знати сохранялось в Поволжье вплоть до XVII в. и было зафиксировано в русских источниках под термином «служилые татары». Анализ его показывает, что под этим термином современники понимали не этнос, а «феодальную прослойку всех нерусских (татарских, марийских и мордовских) феодалов» [Ермолаев, 1982, с.63-67] резко противопоставлявших себя тягловым слоям населения («ясачные чуваши» и «ясачные татары») [Исхаков, 1988, с.150].
3. Татары как кочевой, преимущественно тюркоязычный народ. Этот вариант употребления имени «татар» близок к предыдущему, хотя и отражает, скорее всего, не самоназвание народа, а является экзоэтнонимом. Вполне возможно, что знаменитая злая инвектива Мухаммедъяра, образованного поэта и мусульманина, против татар, как раз подразумевает не этнос, а кочевников -скотоводов, чей образ жизни явно не внушал симпатий просвещенному горожанину. Кроме того, в эпосе «Идегей» несколько раз говорится о «народе татар» как о населении степей Золотой Орды [Идегей, 1990, с.124, 125, 131]. Вообще, кочевников причерноморских и поволжских степей называли татарами практически все европейские источники XV-ХVII вв. [Барберо, 1971, с.140-157; Герберштейн, 1988, с.165-167].
Следует отметить, что подобное наименование страны и народа по названию господствующей элиты или правящего рода было весьма характерным для средневековых обществ Средней и Центральной Азии. Наиболее показателен в этом смысле термин «Чагатай», который обозначал государство - Улус Чагатая и его кочевую знать [Де Клавихо Руи Гонселес, 1990, с.93, 94, 106; Бар-тольд, 1964, с.35]. Такое название от военно-дружинной терминологии получили казахи, узбеки, и монголы. Внедрение этих имен в сознание народа имеет характер закономерности, механизм которой определяется не навязыванием чуждого этнонима и не принятием на себя прозвища, данного соседями, а функционированием социальной структуры общества, развитием его культуры. Имен-
но поэтому динамика этих процессов в Восточной Европе в XIV-V вв. зависела от усложнения эт-нополитической организации Улуса Джучи.
По мере распада единой Золотой Орды в конце XIV-XV вв. ее этносоциальный организм начинает дробиться, и в каждом улусе постепенно формируется свой этнос. Так, на фоне макроэтнонима «татар» (который, однако, сохранил свою социальную престижность) появляются новые названия народа по имени хана (узбеки, ногаи, шибаниды) или по названию местности, главного города (казанцы, крымцы, астраханцы). Часть из них, пройдя через процесс становления этносоциального организма, стала полноценными народами, другие распались и растворились среди иных этносов. Однако, почти все они, имея корни в истории Улуса Джучи, сохранили в своем составе сходное племенные (этнополитические) группировки - ширин, барын, кипчак, аргын, а также общее обозначение военной знати как татары и мангыты.
Тем самым можно подчеркнуть, что этнокультурные процессы, которые происходили в Казанском ханстве и в других татарских (позднезолотоордынских) государствах в XV-XVI вв. были не изолированными, протекавшими в рамках отдельных локальных ханств. Внутри ханств существовала этносословная стратификация и имелся суперстрат из татарских кланов, состоящий из организованного по клановому принципу сословия знати [Исхаков, 1995, с.95-107]. Во многом эта общность поддерживалась системой родственных кланов и управляющих карачи-беков. Единство всех татар в то время осознавалось достаточно отчетливо. Это хорошо выражено в грамоте ногайского бия Исмаила царю Ивану Грозному. Исмаил писал: «.Астрахани без царя и без татар бытии нельзе, и ты Кайбуллу царевича царем учинив одново отпусти. А похочешь Татар, ино Татар мы добудем. Татарове от нас буди» [ПДРВ, ч.К, с.209] .
В этой связи неверно считать, как делают некоторые историки, что татары являлись некоей «этнократией». Скорее всего, речь может идти о правящем сословии, которое имело четко выраженные представления о своей общности и сходные этнокультурные особенности.
Однако процессы этнополитического развития позднезолотоордынских государств не стояли на месте и постепенно в них начал накапливаться потенциал разрыва. В каждом ханстве создавались собственные мифологемы и историографические традиции, подчеркивающие укорененность татарских кланов в местной среде и даже выведение этой татарской государственности от местных династий. Усиливается почитание местных святых и священных мест, получающих приоритет святости над прежними общеджучидскими культами. Подобное развитие можно проследить еще не везде, но в ряде ханств оно шло чрезвычайно активно, например, в Казанском ханстве [Измайлов, 2006, с.99-128]. В этой связи чрезвычайно интересным представляется термин, которым русские и западноевропейские источники называют правящую элиту Казанского ханства - «казанские татары», «Татаровя Казанские» [Герберштейн, 1988, с.179]1.
Таким образом, можно сказать, что аристократия и городской нобилитет носили название «татар», а основное население чаще всего определяло себя по религиозному признаку как «мусульмане». Очевидно, что какие-то группы податного (подясачного) населения, в том числе и мусульман-скского (или мусульмированного и тюркизированного) именовилсь чувашами и вотяками [Исхаков, 1988; Исхаков, Измайлов, 2005, с.27-28]. При этом официальное историописание Казанского ханства считало правителей Казани преемниками «царственности» Булгара и Сарая. Наиболее распространенным разговорным и официальным языком в Казанском ханстве был тюркский (в письменной форме известный как поволжский тюрки), на основе которого осуществлялось делопроизводство, дипломатическая переписка и литературное творчество.
Для внешних наблюдателей складывание в этом государстве самостоятельной этнической общности было заметно уже в XV в. - в русских летописях постоянно упоминаются «Татаровя Казанские» или «Казанцы» (последний термин известен и в крымских материалах). А в первой половине XVI в. применительно к политически господствующему этносу Казанского ханства наименование «казанские татары» или «казанцы» использовалось весьма широко как в русских, так и в европейских источниках.
В целом можно полагать, что в рамках Казанского ханства происходило становление этнопо-литической общности казанских татар, вполне завершенное к середине XVI в. Наблюдавшаяся тогда этносословная стратифицированность этноса на «благородных» (аксеяк) и «чернь» (кара ха-
1 Подобные указания в русских летописях и посольских книгах настолько многочисленны, что не поддаются перечислению. Достаточно указать основные - «Летописец начала царства» [ПСРЛ. Т. XXIX. М., 1965].
лык) фактически не выходила за рамки присущего феодальным обществам деления на «верхи» и «низы», была связана с более ранними этническими реалиями, восходящими к этносоциальной общности «татар» Улуса Джучи.
Список источников и литературы
Pelenski, 1967- Pelenski E. Muscovite Imperial Claims to the Kazan Khanate // Slavic Review. 1967. Vol. 26.
№ 4.
Pelenski, 1974 - Pelenski E. Russia and Kazan: conquest and imperial ideology (1438-1560 g). Paris - La Hague - Mouton, 1974.
Sevcenko I. Muscovys' Conquest of Kasan // Slavic Review. 1967. Vol.26. № 4.
Барбаро, 1971 - Барбаро и Контарини о России. М.: Наука. 1971.
Бартольд, 1964 - Бартольд В.В. Улугбек и его время // Бартольд В.В. Соч. Т.П. Ч.2. М., 1964.
Герберштейн, 1988 - Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988.
Де Клавихо Руи Гонсалес, 1990 - Де Клавихо Руи Гонсалес. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406). М., 1990.
Ермолаев, 1982 - Ермолаев И.П. Среднее Поволжье во второй половине XVI - XVII вв. Управление Казанским краем. Казань, 1982.
Идегей, 1990 - Идегей. Татарский народный эпос. Казань 1990. -Идегей.
Измайлов, 1992 - Измайлов И. Л. «Казанское взятие» и имперские притязания Москвы (очерк истории становления имперской идеологии) // Мирас. 1992. №10. С. 50-62.
Измайлов, 1993 - Измайлов И.Л. Некоторые аспекты становления и развития этнополитического самосознания населения Золотой Орды в XIII-XV вв. // Из истории Золотой Орды. Казань, 1993.
Измайлов, 2002 - Измайлов И.Л. Формирование этнополитического самосознания населения Улуса Джучи: некоторые элементы и тенденции развития тюрко-татарской исторической традиции // Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани. 1223-1556 гг. Казань, 2002.
Измайлов, 2006 - Измайлов И.Л. Нашествие Аксак-Тимура на Болгар: мнимая реальность и татарская историческая традиция // Источники и исследования по истории татарского народ. Казань: Казан. ун-т, 2006.
Исхаков, 1988 - Исхаков Д.М. Об этнической ситуации в Среднем Поволжье в XVI-XVII вв. (критический разбор гипотез о «ясачных чувашах» Казанского края) // Советская этнография. 1988. №5.
Исхаков, 1993 - Исхаков Д.М. Введение в историческую демографию Волго-Уральских татар. Казань, 1993. С.4-11.
Исхаков, 1995 - Исхаков Д.М. К вопросу об этносословной структуре татарских ханств (на примере Казанского и Касимовского ханств XV - сер. XVI вв.) // Панорама-Форум. 1995. № 3.
Исхаков, 1998 - Исхаков Д.М. От средневековых татар к татарам нового времени (этнологический взгляд на историю волго-уральских татар XV-XVII вв.). Казань, 1998.
Исхаков, 2002 - Исхаков Д.М. Демографическая ситуация в татарских ханствах Поволжья // Казанское ханство: актуальные проблемы исследования. Казань, 2002.
Исхаков, 2004 - Исхаков Д.М. Тюрко-татарские государства XV-XVI вв. Казань, 2004.
Исхаков, 2010 - Исхаков Д.М. Арские князья и нукратские татары (Историко-этнографические сведения, генеалогии, клановая принадлежность, место в социально-политической структуре Казанского ханства и Русского государства). Казань, 2010.
Исхаков, Измайлов, 2005 - Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Введение в историю Казанского ханства. Очерки. Казань. 2005.
Казанская история, 1954 - Казанская история. М., Л., 1954. С.53.
Курбский, 1988 - Курбский А. История о великом князе Московском // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1988.
Мухамедьяров, 2012 - Мухамедьяров Ш.Ф. Социально-экономический и государственный строй Казанского ханства (XV - первая половина XVI вв.). Казань, 2012.
Солодкин, 2001 - Солодкин Я.Г. Татары в изображении автора «Казанской истории» // Славяне и их соседи. Вып. 10. М., 2001.
Татары, 2001 - Татары. Серия «Народы и культуры». Под ред. Р.К.Уразмановой, С.В. Чешко. М., 2001.
Хамидуллин, 2002 - Хамидуллин Б.Л. Народы Казанского ханства: этносоциологическое исследование. Казань, 2002.
Хафиз-и Таныш Бухари, 1983 - Хафиз-и Таныш Бухари. Шараф-нама-йи шахи (Книга шахской славы). Ч.1. Пер. М.А. Салахетдиновой. М., 1983.
Шерефи, 1997 - Шерефи Х. Зафер-наме Вилайет-и Казан. Пер. с турецкого яз. Ф.Х. Хакимзянова // Га-сырлар авазы-Эхо веков. 1997 № 1/2.
Этнография, 2004 - Этнография татарского народа. Под ред. Д.М.Исхакова. Казань, 2004.





 CC BY
CC BY 68
68