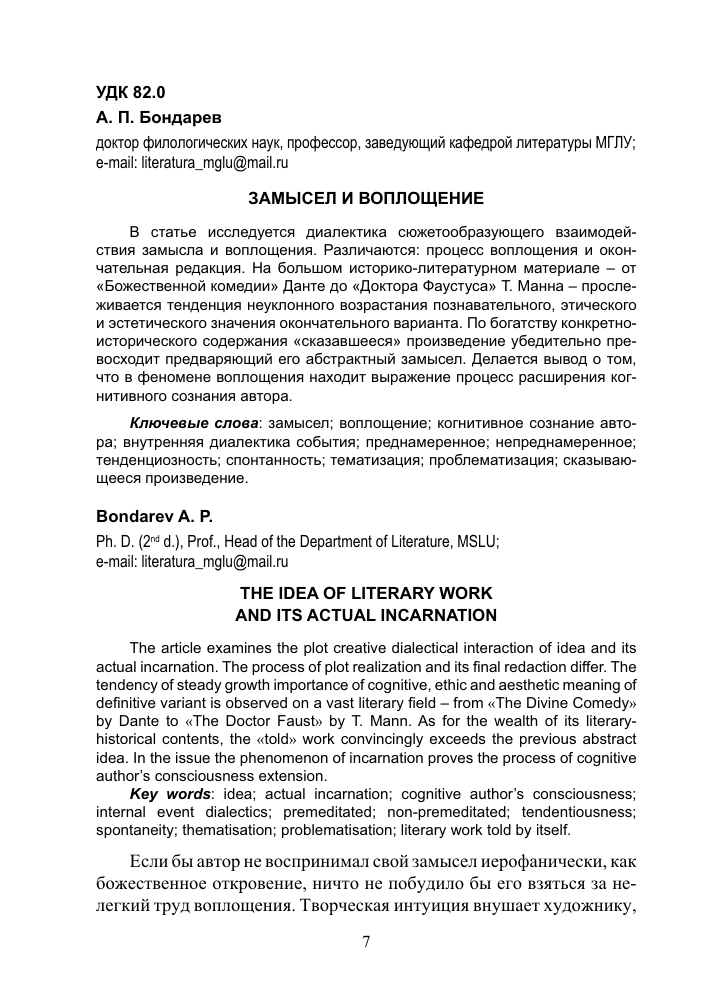УДК 82.0
А. П. Бондарев
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературы МГЛУ; e-mail: literatura_mglu@mail.ru
ЗАМЫСЕЛ И ВОПЛОЩЕНИЕ
В статье исследуется диалектика сюжетообразующего взаимодействия замысла и воплощения. Различаются: процесс воплощения и окончательная редакция. На большом историко-литературном материале - от «Божественной комедии» Данте до «Доктора Фаустуса» Т. Манна - прослеживается тенденция неуклонного возрастания познавательного, этического и эстетического значения окончательного варианта. По богатству конкретно-исторического содержания «сказавшееся» произведение убедительно превосходит предваряющий его абстрактный замысел. Делается вывод о том, что в феномене воплощения находит выражение процесс расширения когнитивного сознания автора.
Ключевые слова: замысел; воплощение; когнитивное сознание автора; внутренняя диалектика события; преднамеренное; непреднамеренное; тенденциозность; спонтанность; тематизация; проблематизация; сказывающееся произведение.
Bondarev A. P.
Ph. D. (2nd d.), Prof., Head of the Department of Literature, MSLU; e-mail: literatura_mglu@mail.ru
THE IDEA OF LITERARY WORK AND ITS ACTUAL INCARNATION
The article examines the plot creative dialectical interaction of idea and its actual incarnation. The process of plot realization and its final redaction differ. The tendency of steady growth importance of cognitive, ethic and aesthetic meaning of definitive variant is observed on a vast literary field - from «The Divine Comedy» by Dante to «The Doctor Faust» by T. Mann. As for the wealth of its literary-historical contents, the «told» work convincingly exceeds the previous abstract idea. In the issue the phenomenon of incarnation proves the process of cognitive author's consciousness extension.
Key words: idea; actual incarnation; cognitive author's consciousness; internal event dialectics; premeditated; non-premeditated; tendentiousness; spontaneity; thematisation; problematisation; literary work told by itself.
Если бы автор не воспринимал свой замысел иерофанически, как божественное откровение, ничто не побудило бы его взяться за нелегкий труд воплощения. Творческая интуиция внушает художнику,
что выпавшему на его долю уникальному жизненному опыту суждено претвориться в новое знание о мире и человеке. Однако, приступив к воплощению, вдохновенный творец замечает, что его замысел наталкивается на сопротивление, исходящее от своеволия внутренней диалектики изображаемого события. В результате продуктивного конфликта между замыслом и воплощением рождается аподиктический, наделенный статусом всеобщности и необходимости, художественный образ.
Какой степени сложности механизмы работают в смысловом поле взаимодействия замысла и воплощения? «Процесс личного творчества, - писал А. Н. Веселовский, - "покрыт завесой, которой никто и никогда не поднимал и не поднимет" (Шпильгаген); но мы можем ближе определить его границы, следя за вековой историей литературных течений и стараясь уяснить их внутреннюю законность, ограничивающую личный, хотя бы и гениальный почин» [9, с. 22]. Внутренняя законность, ограничивающая личный почин, - это спонтанное когнитивное взаимодействие замысла и воплощения, направляющее вектор литературной эволюции.
Технология воплощения замысла предполагает его темати-зацию - многоступенчатую процедуру построения высказывания [7]. Теоретическое литературоведение различает тематизирующую авторскую преднамеренность и проблематизирующее ее непреднамеренное взаимодействие элементов композиционной формы [17]. Художественное задание сталкивается с сопротивлением, исходящим от «внутренней законности» сказывающегося произведения. Флуктуация преднамеренного и непреднамеренного модифицирует когнитивное авторское сознание. Продуктивный диалог между гносеологической моделью и внутренней диалектикой фабулы рождает произведение, перерастающее границы первоначального замысла.
Преднамеренность в искусстве тенденциозна. Непреднамеренность - спонтанна. Художественный эффект непреднамеренности эстетичен в той мере, в какой способен удержать в перцепции противоречивую многозначность события. Эстетика воплощения преодолевает этику замысла.
В «Апологии Сократа» Платон поднимает вопрос об интуитивной природе художественного творчества. Представитель «мудрого незнания» Сократ захотел понять, что имел в виду дельфийский оракул (Пифия), назвавший его самым мудрым из греков. Ведь сам
он весьма скромно оценивал познавательные возможности своего «вопрошающего сознания». Поэтому мыслитель отправился к тем, кого считал мудрее себя и, среди прочих, - к поэтам. И что же? «Стыдно мне, афиняне, сказать вам правду, а сказать всё-таки следует. Одним словом, чуть ли не все там присутствовавшие лучше могли бы объяснить творчество этих поэтов, чем они сами. Таким образом, и о поэтах я узнал в короткое время, что не благодаря мудрости могут они творить то, что творят, но благодаря некоей природной способности, как бы в исступлении, подобно гадателям и прорицателям; ведь и эти тоже говорят много хорошего, но совсем не знают того, о чем говорят. Нечто подобное, как мне показалось, испытывают и поэты» [19, с. 21]
Творческое «исступление», в которое, как установил Сократ, впадают поэты, было обусловлено «эпическим состоянием мира». Как предварительное условие возникновения эпических поэм оно исключало саму возможность конфликта между автором и его произведением. «Коллективный субъективизм эпоса», «коллективная эмоциональность сказителя и слушателей поэмы» (А. Н. Веселов-ский) отождествляли замысел и воплощение - преднамеренное и непреднамеренное. Их релевантность была невозможна в архаичных культурах и в эпохи господства нормативных поэтик, жанровая система которых априорно объективировала архетипических героев в архетипических обстоятельствах. Начало распада ноуменального и феноменального приходится на эпоху Возрождения. Эволюция литературы Нового времени отражает неуклонное возрастание ценности уникального жизненного опыта.
Конфликт между тематизирующей аллегорией и проблематизирующей метафорой -драматургия «Божественной комедии» Данте Алигьери
Аллегория (греч. а1^ог1а - иносказание), по определению Шеллинга, - такой «способ изображения, в котором особенное обозначает общее или в котором общее созерцается через особенное» [24, с. 106]. В «Лекциях по эстетике» Гегель призывал не задерживаться на рассмотрении предметной стороны аллегорического образа, но погрузиться в созерцание идеи, к которой он отсылает.
Свое определение аллегории Данте дал в трактате «Пир» (1303-1306). Развивая традицию одноименного диалога Платона,
обосновывающего учение о пределе - восхождении от материального мира к идеальному, Данте приглашает читателей на пир мудрости - дифференциацию иерархической многозначности аллегории. Автор трактата усматривает в аллегории четыре смысловых уровня: «Первый называется буквальным (и это тот смысл, который не простирается дальше буквального значения вымышленных слов - таковы басни поэтов). Второй называется аллегорическим; он таится под покровом этих басен и является истиной, скрытой под прекрасной ложью». Данте выделяет также моральный смысл, а вслед за ним -анагогический, «сверхсмысл, или духовное объяснение писания. <...> Через вещи означенные, он выражает вещи наивысшие, причастные вечной славе» [12, с. 202].
Художественный образ рассматривается Данте как ступенчатое восхождение сознания от конкретного (буквального) значения фабульного события к его обобщающему анагогическому смыслу. Сошествие поэта в ад с последующим восхождением по семи кругам Чистилища к Раю вырастает в аллегорическую иллюстрацию духовного пути человечества от природной необходимости к божественной свободе.
Композиция поэмы, направляющая циклическое время «вечного возвращения» по вертикали нравственного становления, подсказана Данте наследием популярного в Византии и в Западной Европе афинского философа I в. Дионисия Ареопагита. В трактатах «О божественных именах», «О небесной иерархии», «О церковной иерархии» Ареопагит постулировал иерархическую модель мира. «Тема корпуса "Ареопагитик" - мир как "космос", как структура, как законосообразное соподчинение чувственного и сверхчувственного, как иерархия, неизменно пребывающая во вневременной вечности. <.> Без влияния "Ареопагитик" были бы невозможны философские построения Иоанна Скота Эриугены и Николая Кузанского, эстетика света и символа, выраженная у Сугера и Витело и воплощенная как в готическом искусстве, так и в поэзии Данте» [1, с. 106-107]
Согласно этой модели ад, объективирующий телесное состояние как недолжное, экзотеричен, Чистилище как движение от незнания к знанию - эпистемологично, Рай как разрешение от бремени жизни и конечная цель духовного развития - эзотеричен. Ад увековечивает безысходность загробных мук. Рай - вечного блаженства. Чистилище - исторический путь искупления, устанавливающий причинно-
следственную связь между поляризованными состояниями души. Композиционная форма «Божественной комедии» воплощает все четыре имплицированных в ней смысла.
В самом деле, познавательное путешествие поэта по Аду, Чистилищу и по Раю воспринимается буквально как преодоление экстремальных состояний. Герою-рассказчику приходится карабкаться по скалистым кряжам, спускаться в ущелья и расщелины, задыхаться от ядовитых испарений, страдать от жара, дрожать от холода. В аду Данте, аллегорический паломник за знаниями, оказывается в царстве не усмиренных благой волей разрушительных инстинктов. Притягательность ада для низких душ получила мистическое истолкование в трактате Мануэля Сведенборга «О небесах, о мире духов и об аде» (1758). Сведенборг полагает, что грешника спонтанно увлекает к аду его злая воля: «Кто хочет и любит зло на земле, тот хочет и любит то же самое зло и в той жизни и не терпит, чтоб его тогда разлучали с ним, поэтому человек, находящийся во зле, привязан к аду и духом своим действительно пребывает в аду, а после смерти своей ничего большего не желает, как быть там, где его зло» [20, с. 499].
Современный психоанализ интерпретирует визионерское сошествие в ад как мужественное вступление сознания во тьму бессознательного. Диссоциированная психика навязывает индивиду необходимость аналитического разбирательства со структурой душевного конфликта. Ужасаясь компульсивности аффектов, вживаясь в безысходность состояния грешников, Данте обретает душевную зрелость, дарующую ему право проникнуть в сферы Рая, сияющего чистым светом божественной истины.
Традиционной форме комедии, унаследованной от Аристотеля и действенной в эпоху Данте, не дано было вместить и ценностно освоить всё богатое многообразие реального драматического содержания поэмы. В письме к своему другу и покровителю, правителю Вероны Конгранде делла Скала, Данте пояснял, что назвал свое творение «комедией», потому что так нормативная поэтика определяла произведение «среднего стиля» с драматической завязкой и благополучной развязкой. Написанная на вольгаре, народной латыни, комедия Данте стала доступной для не искушенного в классической латыни простого народа. Джованни Боккаччо, первый биограф Данте и комментатор «Комедии», присоединил к жанровому определению «Комедии» эпитет «божественная», охарактеризовавший
и духовный строй, и эмоциональное напряжение ее поэтической формы. Боккаччо полагал, что, прибегнув к вольгаре, Данте неопровержимо доказал, что и на народном языке можно вести речь о самых глубокомысленных предметах.
Понятие «средний стиль» отражает стремление синтезировать в художественном единстве высокое и низкое, трагическое и комическое, лирическое и прозаическое. Воплощение беспрецедентного замысла побудило Данте отказаться от куртуазных канонов «поэзии нового сладостного стиля», которому он отдавал дань в юности. Канцона «О благородстве» засвидетельствовала:
Настало время путь избрать иной.
Оставлю стиль и сладостный и новый,
Которым о любви я говорил.
Перевод И. Голенищева-Кутузова
Шеллинг увидел в «Божественной комедии» воплощенное единство эпоса, лирики и драмы. Согласно общей эстетике философа, сочетание эпического (объективного) и лирического (субъективного) проявляется в том, что Данте отправляется в паломничество за эзотерическим знанием не только как частное лицо, но и как посланец всего христианского мира. Маршрут членится на дискретные драматические эпизоды, связываемые приемом нисходящей, а затем -восходящей градации. Повествование ведется от первого лица, события воспринимаются с субъективной точки зрения, которая в то же время выражает эсхатологическое мировосприятие, свойственное эпохе классического Средневековья.
Композиция «Божественной комедии» осмысляется Шеллингом как аллегорическое выражение трех периодов мировой культуры: древней мифологии, историзма Нового времени и некоего грядущего состояния, которое Шеллинг именует «абсолютом» - конечной целью эволюции человека. Этот новый человек, от неизменных «родовых образований» проходя через очищающий искус исторической «изменчивости и чередований», предстанет «общезначимым через высшее своеобразие» [26, с. 447]. Философская антропология Шеллинга усматривает назначение истории в возвращении индивида к всеобщности на правах ставшей личности, которая, переплавив в себе родовое начало, свободно представительствует от его имени.
Трем этапам мировой Истории соответствуют три рода искусств, каждое из которых отражает необходимые моменты духовного
развития: 1. Аллегорическое (древнее). 2. Историческое (новое). 3. Символическое - новейшее искусство, взятое как перспектива, как абсолют, требующий, чтобы «общее всецело было особенным, а особенное в свою очередь всецело было общим, а не только обозначало его» [24, с. 110]. Трихотомии «Божественной комедии» по силам объединить природу, историю и искусство. Природа (или мифология) - это ночь сознания, История - его пробуждение и устремление к Искусству - духовному венцу эволюции. В соответствии с тремя эпохами мировой культуры, ад, царство природных инстинктов, - «скульптурен». Чистилище - «живописно». Рай - «музыкален» в силу своей невыразимости. От Ада к Раю возрастает идеальность сменяющих друг друга родов искусства.
Данте был охарактеризован Ф. Энгельсом как «последний поэт Средневековья и вместе с тем первый поэт Нового времени» [13, с. 311], потому что его христианская эсхатология вступала во всё более острое противоречие со складывающейся исторической картиной мира. Средневековую аллегорию сменяла ренессансная метафора. Вертикальная концепция истории уступала место горизонтальной.
Аристотель определяет метафору (греч. - metaphora) как перенесение свойств одного предмета на другой по принципу их сходства или отличия: «Переносное слово - это несвойственное имя, перенесенное с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии» [2, с. 669]. Новое время ставило перед европейским человечеством задачу постижения направления и смысла линейной истории. Мифологической дедукции предстояло уступить место исторической индукции.
Если бы художественное сознание Данте оставалось последовательно аллегорическим, устойчивая вертикаль «Комедии» не подрывалась бы изнутри автономной логикой межличностных отношений, в которые автор-паломник вступал с персонажами дискретных эпизодов «Комедии».
В каждом из девяти кругов ада грешник казнится сообразно тяжести совершенного им преступления: адское наказание выступает инобытием греха. Степень личной ответственности отступника возрастает пропорционально его эмансипации от родового начала. Чем осознаннее грех, тем суровее наказание в недрах подземной воронки. Такая инфернальная топография «означает сознательное
запечатление и выявление былой земной сущности человека и того особого места, которое отведено ему в божественном замысле миропорядка», - уточняет Эрих Ауэрбах [3, с. 201].
Во втором круге Ада избывают грех сладострастники, те, кто в земной жизни потворствовал плотским вожделениям. Среди них Данте узнает Ахилла, Елену, Париса, Тристана и других, провинившихся перед аскетизмом «человеческой, слишком человеческой» (Ф. Ницше) любовью к жизни. То адский ветер, отдыха не зная, Мчит сонмы душ среди окрестной мглы И мучит их, крутя и истязая1.
Форма наказания нуждается в поясняющем образном истолковании: желая вызвать у читателя представление о состоянии гонимых адским ветром душ, Данте обращается за аналогией к реалиям земной жизни, прибегает к сравнению как к развернутой метафоре:
Как журавлиный клин летит на юг С унылой песнью в высоте надгорной, Так предо мной, стеная, несся круг Теней, гонимых вьюгой необорной.
Конфликт преднамеренного и непреднамеренного наглядно проявляется в эпизоде встречи Данте с Паоло и Франческой да Римини. Франческа была выдана замуж за хромого и уродливого Джанчотто Малатеста - старшего брата Паоло. Когда Джанчотто застал жену и младшего брата в любовных объятиях, он, в приступе бешеной ревности, заколол их мечом.
Каково отношение Данте к этому событию? Как «последний поэт Средневековья», он выступает тенденциозным проводником аллегорического замысла. Однако «как первый поэт Нового времени» он не может не сострадать несчастным влюбленным:
Дух говорил, томимый страшным гнетом, Другой рыдал, и мука их сердец Мое чело покрыла смертным потом;
И я упал, как падает мертвец.
Конфликт между морализирующим теологом и сочувствующим человеком проявляется в логическом сбое, свидетельствующем об
1 Здесь и далее перевод М. Л. Лозинского.
эпистемологическом разрыве между этическим автором и эмпирическим событием.
В восьмом круге Данте помещает «лукавых советчиков», среди которых казнится гомеровской Улисс. Обвиненный на основании буквы закона в гибели своих спутников, путешественник избывает муку в огненном пламени, символизирующем горение устремленного к познанию духа.
«О, братья, - так сказал я, - на закат
Пришедшие дорогой многотрудной!
Тот малый срок, ока еще не спят
Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны,
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный!
Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и к знанью рождены».
И море поглотило смельчаков.
Исполненные благородства и величия слова, которые Данте вкладывает в уста Улисса, свидетельствуют о власти непреднамеренного над тенденциозным замыслом. Непреклонная суровость поэта не в силах погасить латентное восхищение осужденным. С чувством, для выражения которого Средневековье еще не выработало адекватных понятий, он прозревает в деянии Одиссея героические подвиги будущих мореплавателей, тех, кому Новое время отведет почетное место пионеров Великих географических открытий: Америго Веспуччи, Христофора Колумба, Васко да Гама, Педру Алвариша Кабрала.
Данте-систематик осуждает социально-природные аффекты с позиции христианской этики. Однако спонтанное торжество воплощения над замыслом свидетельствует о латентном противоречии между моделью сознания и смысловой структурой эмпирического события, предопределившим неизбежность смены Средневековья Возрождением. Борьба средневековой аллегории с ренессансной метафорой отражает гротескный переход от преднамеренной небесной вертикали к непреднамеренной исторической горизонтали. «Отсюда исключительная напряженность всего Дантова мира, -отмечает Бахтин. - Ее создает борьба живого исторического времени
с вневременной потусторонней реальностью. Вертикаль как бы сжимает в себе мощно рвущуюся вперед горизонталь. Между формообразующим принципом целого и исторически-временной формой отдельных образов - противоречие, противоборство» [4, с. 308].
Эпистемологическая поэтика романа Сервантеса «Дон Кихот»
Роман Мигеля де Сервантеса Сааведры «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (первая часть - 1605; вторая - 1615) был задуман как бурлескная пародия на рыцарские романы, однако предпочитал своевольно сказываться в продуктивном сюжето-образующем конфликте между замыслом и воплощением. Реализуя бурлескную пародию на отжившие рыцарские саги, Сервантес столкнулся с отвергающим легкомысленную насмешку наивным благородством «Рыцаря Печального Образа».
«Первый выезд» идальго, обедневшего провинциального дворянина, непосредственно тематизирует авторскую преднамеренность. Прибегая к резкой, переходящей в сатиру, пародии, автор высмеивает интроверсию «завороженного идеей» рыцаря. Для испанского уха имена собственные, которыми Сервантес наделяет своих персонажей, травестируют высоких куртуазных героев. Кихот (кихада) - челюсть; Росин - кляча, анте - прежде. Росинанте - «бывшая кляча», одр; Пан-со - брюхо; Санчо - нарицательное имя придурковатого персонажа испанской поговорки: «Вон Санчо едет на своем осле». Дульсинея Тобосская - пародия на Диану, Филису, Галатею, Филиду и других идеализированных пасторальных героинь: Дульсе - сладостная; Тобо-со - провинциальный городок, славившийся производством глиняных горшков. Дульсинея Тобосская - «сладостная горшечница». «Да я ее прекрасно знаю, - отозвался Санчо после данных Дон Кихотом разъяснений. - Девка ой-ой-ой, с ней не шути, и швея, и жница, и в дуду игрица, и за себя постоять мастерица, и любой странствующий или только еще собирающийся странствовать рыцарь, коли она согласится стать его возлюбленной, будет за ней, как за каменной стеной».
Интровертная «ассоциация идей», во власти которой находится новоявленный рыцарь, превращает постоялый двор в замок, двух девиц «из числа тех, что, как говорится, ходят по рукам» - в двух принцесс, хозяина постоялого двора - в «доблестного рыцаря». Курьез с «бдением над оружием» и безжалостная расправа с незадачливым
погонщиком мулов, вознамерившимся под утро снять с водопойного корыта доспехи неофита, жестокость Хуана Адульдо, нарушившего обещание не подвергать побоям мальчика Андреса - плачевные следствия интровертивной психики Дон Кихота.
Пародийную функцию выполняет и эпизод с купцами, от которых странствующий рыцарь потребовал заочно признать, что «госпожа его сердца», Дульсинея Тобосская, - прелестнейшая из смертных. Прагматически мыслящие купцы не пожелали на слово поверить преградившему им путь воинственному сумасшедшему. Их непростительное, с точки зрения Дон Кихота, незнакомство с «Биографий трубадуров», прославлявших куртуазную «любовь издалека» к «прекрасной даме» (princesse lointaine), вывело странствующего рыцаря из себя. Он пришпорил Росинанта, но на всем скаку постыдным образом вывалился из седла, понеся предусмотренное пародийным замыслом наказание за неспособность соизмерять поступок с его последствиями.
Очевидная неадекватность книжных ассоциаций героя, некритически экстраполируемых им на современность, призвана была проиллюстрировать пагубность беспочвенных фантазий. Однако эпизод ревизии библиотеки засвидетельствовал о начале коррекции замысла. В ходе инвентаризации выяснилось, что не всякая «поэзия» ниже «правды», равно как и не всякая «правда» выше нравственного идеала. Избегли аутодафе творения Боярдо, Ариосто, роман «Амадис Галльский», наряду с «Дианой» Монтемайора, «Арауканой» Алонсо Эрсильи, «Австриадой» Хуана Руфо, «Монсерратом» Кристоваля де Вируэса, названными «вершиной испанской поэзии». Если бы домашние цензоры продолжали действовать в духе пародийного замысла, они уничтожили бы всю библиотеку хитроумного идальго.
И вот «второй выезд» выдержан уже в более снисходительных тонах, свидетельствующих о постепенном осознании автором амбивалентной природы своего протагониста. Томас Манн, проницательный читатель Сервантеса, отметил, что в «Дон Кихоте» уважение автора к герою «непрерывно возрастает в течение всего повествования, и, быть может, процесс этого роста - самое захватывающее во всём романе, едва ли даже не самодовлеющий роман; притом, он тождествен росту уважения автора к своему произведению, задуманному непритязательно, как некая грубоватая сатирическая шутка, без представления о том, какой символической вершины человечности герою суждено будет достичь» [15, с. 197].
Продуктивное взаимодействие замысла и воплощения формирует эпистемологическую поэтику романа, проявляющуюся в том, что в лице Санчо Пансы Дон Кихот постепенно обретает не столько бурлескного «оруженосца», сколько здравомыслящего собеседника, пытающегося переориентировать книжное сознание своего господина на анализ объективного смысла набегающих на него событий. В восьмой главе первого тома, после поражения, нанесенного рыцарю ветряными мельницами, Санчо, более прочно стоящий на почве реальности, растолковывает Дон Кихоту: «Не говорил ли я вашей милости, чтобы вы были осторожнее и что это всего-навсего ветряные мельницы? Их никто бы не спутал, разве тот, у кого ветряные мельницы кружатся в голове».
Подкрепленные пословицами и поговорками призывы Санчо сообразовываться с действительностью звучат отрезвляющим контрапунктом априоризму Дон Кихота. Однако компульсивность книжника надежно оберегает его сознание от вторжения разрушительных эмпирических содержаний: Алонсо Кихано прибегает к «отрицанию реальности» и к «смещению» - распространенным механизмам психологической защиты: «Помолчи, друг Санчо. Должно заметить, что нет ничего изменчивее военных обстоятельств. К тому же я полагаю, и не без основания, что мудрый Фрестон, тот самый, который похитил у меня книги вместе с помещением, превратил великанов в ветряные мельницы, дабы лишить меня плодов победы, - так он меня ненавидит. Но рано или поздно злые его чары не устоят перед силою моего меча».
«Мудрый Фрестон» - это, конечно же, фольклорный «вредитель», завидующий Дон Кихоту, - фольклорному «дарителю», и стремящийся обесценить его подвиги травестирующей магией. Это он превращает принцесс в продажных девиц, рыцарские замки в постоялые дворы, золотой шлем Мамбрина в бритвенный таз, рыцарское войско в стадо баранов, Дульсинею в грубую скотницу, а ее фрейлин в неопрятных поселянок.
Экзистенциальный психоанализ диагностировал бы казус Дон Кихота как «перенос ответственности»: «Параноидальные пациенты очевидным образом делегируют ответственность другим индивидам и силам. Они отрекаются от собственных чувств и желаний, неизменно объясняя свою дисфорию и свои неудачи внешними влияниями. Главная и часто неосуществимая терапевтическая
задача в работе с параноидальными пациентами состоит в том, чтобы помочь им принять собственное авторство спроецированных ими чувств» [29, с. 255].
Эта диагностика подтверждает актуальность отрезвляющего замысла романа, направленного на критику интровертной завороженности Дон Кихота. Вместе с тем альтруистическая ориентация героя Сервантеса принципиально отличает его от замкнувшихся на собственных эгоцентрических целях компульсивных пациентов И. Ялома. По мере того как Сервантес сводил свихнувшегося идальго с пастухами, кабатчиками, проститутками, погонщиками мулов, ремесленниками, арестантами, бродягами, шарлатанами, скотницами, авантюристами, разлученными влюбленными и другими посланцами действительности, он всё отчетливее осознавал преимущества ушедшего в прошлое «золотого века» рыцарства, бескорыстный альтруизм которого выгодно отличался от корыстного эгоцентризма пасынков жизненной необходимости.
Воплощая замысел, Сервантес мало-помалу становился читателем собственного произведения - творцом «самодовлеющего романа», наблюдающего за тем, как его персонаж превращается из трикстера в героя воспитательного романа, сталкивающегося с необходимостью выработки критериев адекватной формы поведения. Такая задача трансформирует волшебника Фрестона из завистливого «вредителя» в дальновидного «дарителя», не позволяющего консервативному разуму довольствоваться предрассудками априорных аналитических суждений. Воспитательная педагогика Фрестона -обращенный к человеку Нового времени призыв занимать активную познавательную позицию по отношению к обоюдоострой диалектике исторического события.
«Враждебность» Фрестона побуждает героя не навязывать действительности свои представления, но и не приспосабливаться к ее унизительным требованиям. Обе эти крайности препятствуют задаче самоидентификации. Слепое самодовольство так же безрезультатно, как и безнадежное уныние. Восстановление законосообразности сознания и бытия предполагает познавательный труд, включающий теоретическую обработку опытных данных и их экспериментальную верификацию - эволюцию познавательного процесса от конкретного созерцания к абстрактному мышлению и от абстрактного мышления к практике как критерию истины.
Анализ содержания «вставных новелл» подводит к выводу, что донкихотство - распространенное человеческое свойство. Вставные новеллы на многочисленных примерах, значительно расширяющих романный диапазон, иллюстрируют феномен драматического несовпадения гносеологической модели с диалектикой события.
Первая новелла о Хризостоме и красавице Марселе, рассказанная в XII главе молодым пастухом, повествует о губительной тенденциозности восприятия, неспособного вникнуть в суть явления.
Напоминает Дон Кихота и герой другой вставной новеллы -Карденьо.
Если сознание склонно переусердствовать в экстраполяции своих представлений на действительность, то действительность отвечает интроверту тем же, подрубая под корень само основание его жизни. Таков глубокий смысл «Повести о Безрассудно-любопытном», засвидетельствовавшей, что феномен донкихотства отнюдь не комическое исключение из правила.
Надежды, возлагавшиеся гуманистическим Возрождением на мудро управляющие жизнью законы природы, отвергались барочной реальностью. На глазах европейских гуманистов - Ф. Рабле, Э. Роттердамского, В. Шекспира - культеранистская непостижимость происходящего разрушала классические формы платоновско-пифагорейской гармонии. Этиология Мифа неумолимо трансформировалась в эпистемологию Истории.
Сложный механизм коррекции замысла поднимал писательский труд на экспериментальный уровень. «Дон Кихот» - классический образец романа Нового времени, воспринявший и претворивший в детективный сюжет откровения своевольно творящей Истории.
Поучительные жизни доктора Фауста
И. В. Гёте задумал трагедию «Фауст» как полемику с мифологической картиной мира, противопоставляя ей формирующуюся в его сознании идею необратимого процесса исторического становления. Между тем проблематизирующее противодействие непреднамеренности растянуло работу над второй частью трагедии на всю оставшуюся жизнь Гёте. Итог судьбы Фауста, эволюционирующего «чернокнижника», ретардировался непрерывно накапливаемыми данными эмпирических наук, нуждающимися в столь же непрерывном их осмыслении. Позитивные знания требовали теоретического
освоения в духе эмпиризма Фрэнсиса Бекона, который, отклонив метод рационалистической дедукции, обосновал индуктивный принцип систематизации результатов эмпирического опыта: «И оставалось только одно, - провозглашается в предисловии к "Новому Органону", - заново обратиться к вещам с лучшими средствами и произвести восстановление наук и искусств и всего человеческого знания вообще, утвержденное на должном основании» [8, с. 57-58].
Между тем, требование жанрового завершения не могло быть осуществлено, поскольку вступало в противоречие с объектом изображения - принципиальной незавершимостью исторического процесса.
Фауст не верит в возможность «преодоления истории», ибо провидит благое, наполненное трудом познания будущее. Он заключает с Мефистофелем договор в твердой уверенности, что магическим заклинанием никогда не остановит поступательный процесс расширения своих познавательных возможностей:
Ведь если в росте я остановлюсь, Чей жертвою я стану, все равно мне1.
Фауст претерпевает предначертанные испытания не аллегорически, как Данте в сопровождении Вергилия и Беатриче, а метафорически, осваивая пространственные ценности горизонта, на линии которого, в исторической перспективе, должны сойтись небо и земля - идеальное и материальное.
В споре с Богом, оживляющем сюжет библейской «Книги Иова», Мефистофель формулирует проблему человека эпохи романтизма: воодушевляющий романтика идеал абсолютной полноты бытия обесценивает любое земное состояние как конечное: И требует у неба звезд в награду, И лучших наслаждений у земли, И век ему с душой не будет сладу, К чему бы поиски не привели.
Эти строки поэтически перелагают главную идею статьи Гёте «Шекспир и несть ему конца»: «В древних произведениях преобладает конфликт между долженствованием и свершением, в новейших -между волением и свершением». <...> «Воление, превосходящее силы индивидуума, - порождение Нового времени» [10, с. 414, 417].
1 Зд. и далее перевод Б. Пастернака.
21
Проблема романтического человека осмысляется Гёте как противоречие между стремлением к бесконечному и унижающими это стремление конкретно-историческими условиями его существования.
Спор между Богом и Мефистофелем разворачивается вокруг вопроса об исторической судьбе человечества. Чувство физического бессмертия даровано животному в компенсацию за его бессознательное присутствие в вечном настоящем. Наблюдение за пасущимся стадом навело Ф. Ницше на мысль, что каждое переживаемое животным мгновение тождественно вечности: «Зрелище это для человека очень тягостно, так как он гордится перед животным тем, что он человек, и в то же время ревнивым оком смотрит на его счастье -ибо он, подобно животному, желает только одного: жить, не зная ни пресыщения, ни боли, но стремится к этому безуспешно, ибо желает он этого не так, как животное» [18, с. 161].
Человек мечтает не о бессознательно животном, а о сознательно человеческом присутствии в вечности. Стремление присвоить себе божественные атрибуты всеведения и бессмертия подвигло Фауста на занятия алхимией и чародейством. Его чернокнижие - реакция на христианство, с возникновением которого миропонимание осложнилось эсхатологическим переживанием смерти. Христианство, согласно Д. С. Мережковскому, стало первой религией, «почувствовавшей неотразимость мысли о конце, о смерти не только для человека в отдельности, но и для всего человечества» [16, с. 117].
Идея жизненной цели, наделяющей природное существование смыслом, рождается как защитная реакция на травмирующее осознание неизбежного конца. В этой защитной реакции и следует искать генезис исторического мироощущения, выводящего сознание за пределы природной мифологии. Метафизика познания, возвышая познающего субъекта над самим собой как физическим объектом, обесценивает опороченную смертью жизнь. А поскольку итог «познания разумом самого себя» [25, с. 156] отодвинут Богом в неопределенное будущее и потому практически недостижим, ибо Творец не положил границ становлению мира и становящемуся в процессе его познания человеку, Мефистофель обречен на поражение в споре. Интерпретация Гёте, иллюстрирующая фихтеанскую концепцию творческой эволюции, существенно проблематизирует наивную мораль Народной книги о Фаусте: «В понятии человека заложено, - утверждает Фихте, - что его последняя цель должна быть
недостижимой, а его путь к ней - бесконечным. <...> Усовершенствование до бесконечности есть его назначение» [22, с. 487-488].
Бог задумал человека как духовную субстанцию, призванную неустанно искать выход из конфликтного состояния «нет». Историческому мифу о вечном становлении суждено было принципиально проблематизировать природный «миф о вечном возвращении»: «Мир как история, постигнутый, рассмотренный, оформленный исходя из его противоположности миру как природы, - вот новый аспект человеческого бытия на этой планете» [27, с. 16].
Грехопадение Адама породило перманентный конфликт между «волением и свершением»: оно вынудило человека эволюционировать в направлении самоидентификации. Идеалу и действительности предстояло встретиться на почве реальности. Труд «свершения» призван конкретизировать абстрактно-романтическое «воление», направив его на созидательные цели. Мефистофель востребован Богом как «дух сомненья», поддерживающий сознание в бодрствующем напряжении поиска способов ассоциации идеала и действительности.
Религиозный экзистенциализм усматривает в Мефистофеле персонификацию тревоги, пробужденной предшествующей Творению свободой. Тревожащая свобода характеризуется Н. А. Бердяевым «как темный исток жизни, как первичный опыт, как бездна, лежащая глубже самого бытия и из которой бытие определяется. Эту бездонную иррациональную свободу человек чувствует в себе, в первооснове своего существа» [6, с. 92].
Овладевший Фаустом гностический порыв, увлекающий его от ортодоксально-католической к экзистенциально-просветительской нравственности со всеми подстерегающими на этом пути испытаниями, служит амбивалентным, разрушительно-созидательным проявлением этой свободы: «В гнозисе, - констатирует К. Г. Юнг, -проявляется бессознательная психология в богатом разнообразии и даже в извращенной чрезмерности, т. е. именно тот элемент, который особенно сильно противится "правилу веры" (regula fidei), то прометеевское и творческое начало, которое подчиняется только собственной душе, но никогда не покоряется коллективному руководству» [28, с. 297].
Замысел Гёте прозревал в неясности будущего благую цель Христианства в образе Нового Иерусалима, объединяющего Град Земной
с Градом Небесным. Однако творческое воплощение, побуждавшее его к обобщению открытий естественных наук, непрерывно усложняло исходные представления. Под напором истории диалектическое снятие противоположностей порождало новые конфигурации, в которые вступали снятые противоположности. «Окончательное» разрешение непрерывно откладывалось на будущее, растворяющее искомый синтез в незавершимом процессе становления: ведь синтез усыпляет «геометрическое», евклидово по своей природе человеческое сознание.
В жанровом отношении творение Гёте являет собою синтез драмы и эпоса. Архитектоническая форма «Фауста» трагедийна, так как смерть обрывает жизненный путь героя. Но его событийная форма эпична, поскольку предметом изображения эпоса является автономный исторический процесс. Фауст, представитель человечества, бессмертен в направляющем эволюционный вектор вечном труде становления.
Его исполненный трагизма ночной монолог в готическом кабинете свидетельствует о том, что отвоеванные у Ничто богословские, философские, юридические и медицинские знания не заполнили, а углубили разверзшуюся вследствие грехопадения бездну между жизнью и рефлексией о ней.
Подвижнический труд «чернокнижника» - форма психологической защиты от навязчивых «базовых потребностей». Разочарование в книжном знании свидетельствует о несбывшихся надеждах на преодоление не только социальной, но и духовной безосновности. Этот негативный опыт обращает Фауста к магии как возможности обретения сущностного знания. Он всматривается в страницу трактата Мишеля Нострадамуса, изображающую знак макрокосма, мандалу, символ целостности, составленный из двух равносторонних треугольников. Созерцание мандалы рождает в его душе воспоминание об утраченном детски-наивном тождестве телесного и духовного.
Отчаявшийся Фауст взывает к духу земли. Он согласен пожертвовать своим отлученным от жизни сознанием во имя восстановления онтологической целостности. Призыв к земному духу свидетельствует о том, что еще до появления Мефистофеля Фауст был готов отказаться от своей трансцендентальной единичности во имя бытийной всеобщности. Однако порабощенному рефлексией сознанию не дано возвратиться в младенческое состояние. Перед разорванным
сознанием открывается только один путь - вперед, к познающему противоположности революционному сознанию. Поэтому низший дух земли констатирует факт разрыва своего природного родства с Фаустом и отказывает ему в поддержке.
Зреющее в душе Фауста предчувствие принципиально иной жизни рождает в нем отвращение ко всем иллюзиям, приковывающим к земному узилищу:
Я проклинаю ложь без меры И изворотливость без дна, С какою в тело, как в пещеру, У нас душа заключена.
Фауст отвергает рабскую психологию обывателя, отрекающегося от мук свободного становления ради гарантированной сытости и безопасности, и на свой страх и риск вступает на путь, сулящий принципиально иное качество жизни.
Мефистофель, который, несмотря на свою дьявольскую проницательность, недооценил способность Фауста выходить за собственные пределы, вознамерился унизить его уже в первом круге своего «земного рая» - в винном погребе Ауэрбаха в Лейпциге. Бессмысленное ликование пьяниц - следствие пробужденного опьянением дорефлексивного состояния психики. Однако Фауст уже избрал для себя не дионисийское прошлое, а аполлоническое будущее. Мефистофель не сразу распознал направление вектора экзистенциальной устремленности своего подопечного. Эволюция восприятия Фауста Мефистофелем напоминает эволюцию отношения Сервантеса к Дон Кихоту: изучая «чернокнижника», искуситель мало-помалу постигает намерение Фауста опытным путем расширять свое сознание.
Поначалу он воспринимал Фауста в традициях средневековой теологии, которая относилась к тварному человеку как к вожделеющему прах тлену. Что и утверждал, заключая пари с Богом:
Вы торжество мое поймете, Когда он, ползая в помете, Жрать будет прах от башмака...
Мефистофель делал ставку на поразившую Фауста душевную усталость, под грузом которой пребывает человек культуры. Согласно наблюдению Ф. Шиллера, сделанному им в «Письмах об
эстетическом воспитании человека» (1794), освобождение от высоких требований духа оборачивается для цивилизованного индивида срывом в варварство.
Крепнущее диалектическое сознание Фауста возвышает его над схоластическим спором об универсалиях и возлагает на деятельную историю положительное разрешение конфликта между духом и телом. Предвидя, благодаря своему всеведению, эти этапы духовной эволюции, Бог предрекает Фаусту победу, а Мефистофелю - поражение в споре:
Ты проиграл наверняка.
Чутьем, по собственной охоте
Он вырвется из тупика.
Во второй части, находясь на службе у Императора, Фауст осознает и сформулирует диалектику претворения «зла» безосновности в добро познающего противоположности сознания:
Но я в твоем «ничто» надеюсь, кстати,
Достать и все посредством тех же чар.
Мефистофель, растущий вместе с Фаустом, отдает должное его проницательности:
Хвалю тебя, пока нам не пришлось
Расстаться: черта знаешь ты насквозь.
Если в первой части Фауст избывает архетип интровертного, завороженного идеей Эдипа, во второй ему предопределена судьба экстравертного, осваивающего исторический опыт Ореста. В начале первой части Фауст оказался жертвой разлада между схоластикой и диалектикой.
Во второй ему предстоит преодолеть разрыв между объективным историческим опытом и его умопостигаемым смыслом. На этом пути Фауст переживает четыре символические смерти и следующие за ними перерождения.
В первый раз он встретился со смертью как кабинетный ученый, окончательно разочаровавшийся в схоластической премудрости. Вторично он морально казнил себя как преступник, погубивший Гретхен в угоду потребностям своей попранной аскетизмом чувственности. В третий раз он умер в Средневековье для нового рождения в Ренессансе, историческое назначение которого состояло
в том, чтобы сплавить Средневековье с Античностью - насытить христианской духовностью благородную чувственность древнегреческой пластики.
Очередную символическую смерть Фауст претерпевает как художник во имя творческого перерождения: он снимает в любви к Елене конфликт между Античностью и Средневековьем.
Труд по отвоеванию суши у моря призван отождествить рефлектирующую единичность с созидательной всеобщностью. Фаусту мнится, что своей целенаправленной деятельностью он противопоставляет архитектонику рукотворных форм хаосу стихийного разрушения. Однако диалектика намерения и результата проявляется в том, что цивилизующие преобразования Фауста провоцируют разрушительное противодействие природных сил. И кому как не Мефистофелю, проводнику этой диалектики, знать об этом:
В союзе с нами против вас стихии,
И ты узнаешь силы роковые,
И в разрушенье сам, как все, придешь.
Ослепленный Заботой, Фауст приносит себя в жертву коварству Мефистофеля, который приказал Лемурам вырыть ему могилу.
Исчерпав познавательный потенциал отведенных ему судьбой жизней, символизирующих этапы эволюции европейского человечества, Фауст убеждается, что лишь тождеству его природной, социальной, культурной и духовной ипостасей дано воссоздать в нем подлинного человека. И он адресует миру слова, на которые так долго и с такой терпеливой настойчивостью провоцировал его Мефистофель. Фауст дорос до ответственного соучастия в исторической борьбе человечества:
Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
Жизнь и свободу заслужил.
Но и эти слова, подводящие итог сознательной судьбе Фауста, не выражают истину в последней инстанции: они в свою очередь обрамляются общей, сказывающейся, идеей трагедии. Перенасыщенная мифологическими и историко-культурными реминисценциями художественная реальность исторического эпоса Гёте наделяет функцией эстетического завершения открытое время и пространство жизни. Его эзотерическая истина звучит в финальных аккордах Chorus mysticus, возвращающих каждое событие к материнскому
истоку бытия, из которого рождается и в котором тонет неутолимая тоска по всеведению:
Здесь - заповеданность
Истины всей.
Вечная женственность
Тянет нас к ней.
«Адольф» Б. Констана: от семейной идиллии к любовной драме
В эпоху романтизма конфликт между идеалом и действительностью наполняет сюжетообразующим содержанием дихотомию замысла и воплощения. Трудности воплощения, с которыми столкнулся Бенжамен Констан в работе над романом «Адольф», отразили механизм преодоления преднамеренности сентиментализма в процессе осознания драматической природы любовных отношений между мужчиной и женщиной.
Констан задумал написать исповедальный роман, призванный воссоздать историю его идиллической любви к Шарлотте де Хар-денберг. Он подпал под обаяние ее наивной доверчивости и искренней нежности и уже вынашивал серьезные матримониальные планы. Однако 19 сентября 1794 г. его намерения подверглись жестокому испытанию: он повстречался с Жерменой де Сталь, которой суждено было стать его земной Афродитой. Пылкая, умная, образованная, талантливая писательница до такой степени заворожила его, что на длительное время обесценила образ дневной музы - кроткой Шарлотты. Периоды бурных размолвок с Жерменой чередовались минутами отрезвления: Констан казнил себя за предательство, терзался угрызениями совести, клялся преодолеть охватившее его наваждение и, женившись на Шарлотте, искупить свою вину. Однажды, в момент очередного конфликта с мадам де Сталь, он получил от Шарлотты письмо и бросился к ней в Париж для объяснений и оправданий. Терпеливая нежность и страдательная мягкость Шарлотты явили собою прямую противоположность требовательной настойчивости его властной возлюбленной.
К этому событию восходит замысел романа о Шарлотте. Возвратившись 30 октября 1806 г. в Руан, Констан записал в дневнике, что приступил к работе над романом, в котором поведает историю своих отношений с Шарлоттой. Писатель намеревался рассказать
о пережитых им нравственных страданиях, о преодоленных препятствиях, увенчанных семейным счастьем. Увлеченный замыслом, он вдохновенно работает над его воплощением и делится с дневником удачами и поражениями.
Однако 7 ноября на глаза мадам де Сталь попалось адресованное Шарлотте письмо Констана. Разразилась сцена ревности, «ураган, свирепствовал весь день и всю ночь». От решимости порвать с мадам де Сталь и соединиться с Шарлоттой не осталось и следа. Инцидент побудил писателя скорректировать выношенный замысел. Вместо того чтобы описать этапы обретения семейного счастья с Шарлоттой, он начал описывать страдания мужчины, мечущегося между двумя женщинами. Рядом с дневниковым упоминанием о новом «эпизоде» появилось имя Элленоры. К декабрю 1806 г. эпизод с Элленорой разросся до самостоятельной фабулы, чтобы вскоре претвориться в роман, который Констан прочитал своим близким друзьям. «Эпизоду» суждено было вылиться в окончательную редакцию, опровергнувшую первоначальный замысел. Адольф предстал в романе одновременно страдающим и причиняющим страдание героем - жертвой и палачом несчастной Элленоры.
Поэма Гоголя: может ли возродиться умершая душа?
Гоголь задумал свою поэму по аналогии с «Божественной комедией» Данте. Ей также предстояло сложиться из трех томов: Ада, Чистилища и Рая. В первом томе Гоголь намеревался описать ад бездуховной жизни современной ему помещичьей России. В чистилище второго тома - изобразить нравственный кризис Чичикова. Раю третьего тома предстояло воспеть его духовное перерождение. На титульном листе Гоголь нарисовал коляску, символизирующую движение России по пути исторического становления. По обочинам дороги рассыпаны черепа - инфернальные останки тех, кто духовно почил задолго до своей физической смерти. В многочисленных отступлениях Гоголь настойчиво призывал читателей оберегать и взращивать самоуважение и достоинство.
Полное название, которое Гоголь дал поэме, звучит так: «Похождения Чичикова, или Мертвые души». Оно отсылает к традиции плутовского и авантюрно-бытового романа «большой дороги», в котором каждая встреча героя с помещиками образует самостоятельный эпизод.
Протагонист поэмы, коллежский советник Павел Иванович Чичиков, решил разбогатеть, скупив у помещиков за бесценок мертвых крестьян, которые по старым ревизским справкам продолжали числиться живыми. Чтобы заинтересовать продавцов этой сделкой, Чичиков обещал вносить за умерших крестьян ежегодные подати. Словом, намеревался злыми намерениями вымостить дорогу в «рай» благополучия: заложить документы на мертвых крестьян в казну, а на вырученные деньги «купить деревеньку», жениться и зажить праведной жизнью доброго христианина.
Если в сборнике ранних рассказов Гоголя - в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», в повести «Нос» и в других возрождающая сила природы торжествует над мертвой формой социального мира, в поэме «Мертвые души» социальные законы угрюмо уничтожают живого внутреннего человека. Таков удел всех помещиков, и прежде всего Плюшкина, человеческая природа которого деформирована новой социально-исторической реальностью - деньгами.
Во втором томе Гоголь намеревался описать нравственное перерождение Чичикова. Об этом намерении свидетельствует и предсмертная записка писателя: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом...» [11]. Однако, если Гоголь смог пародийно изобразить быт помещичьей России, органично вывести из фамильярной среды сатирического романа идеальный мир агиографии было объективно невозможно. Драматический конфликт между этикой и эстетикой отразил неразрешимое противоречие между нравоучительным замыслом Гоголя и его художественным воплощением. Преднамеренные требования христианской эсхатологии оказались бессильны подчинить себе спонтанную непреднамеренность жизненной правды и соотносимую с ней логику жанра. Морализирующая агиография не могла органично выйти за пределы сатирической поэтики жанра плутовского романа, превозмочь ее и переплавить в тигле создаваемой эпопеи. Чичикову и окружавшим его помещикам, неспособным осознать неправедность собственной жизни, не дано было пережить и духовно-нравственное перерождение.
«Перейти из ада с теми же людьми и в том же произведении в чистилище и рай ему не могло удаться, - свидетельствует М. М. Бахтин. - Непрерывного перехода быть не могло. Трагедия Гоголя есть в известной мере трагедия жанра» [5, с. 471].
«Война и мир» и «Анна Каренина» - исторический эпос о счастье и семейно-психологический роман о страдании
Творческая история работы Льва Толстого над романом «Война и мир» отразила поэтапную коррекцию первоначального замысла, выводившую автора на просторы всё более широких исторических обобщений. Необъятная панорама событий расширяла и жизненное пространство романных героев, превращала их если и не в «граждан мира» (О. Голдсмит) по их общественному призванию, то в «вольных жителей мира» (А. С. Пушкин) по их непосредственному мироощущению. Расширяющееся историческое пространство раздвигало и границы жанра, интегрировало задуманный социально-психологический роман в самостоятельно сказывавшийся «эпос Нового времени». Толстому приходилось «лишь» поспевать за описанием возникавших в его щедром воображении сцен частной и общественной жизни.
Познавательный труд воплощения побуждал Толстого многократно прерывать задуманную историю о возвращении в 1856 г. из сибирской ссылки «седого как лунь» декабриста и обращаться к ее предыстории, отодвигавшейся во всё более отдаленное историческое прошлое. Набросок предисловия к «Войне и миру» свидетельствует: «В 1856 г. я начал повесть с известным направлением, героем которой должен был стать декабрист, возвращающийся с семейством в Россию. Невольно от настоящего я перешел к 1825 г., эпохе заблуждений и несчастий моего героя, и оставил начатое. Но и в 1825 г. мой герой был уже возмужалым, семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его молодости, и молодость его совпадала со славной для России эпохой 1812 г. Я другой раз бросил начатое и стал писать со времени 1812 г., которого еще запах и звук слышны и милы нам, но которое теперь уже настолько отдалено от нас, что мы можем думать о нем спокойно. Но и третий раз я оставил начатое, но уж не потому, чтобы мне нужно было описывать первую молодость моего героя, напротив: между теми полуисторическими, полуобщественными, полувымышленными великими характерами и лицами великой эпохи личность моего героя отступила на задний план, а на первый план стали, с равным интересом для меня, и молодые и старые, и мужчины и женщины того времени. В третий раз я вернулся назад по чувству, которое, может быть, покажется странным большинству читателей, но которое, надеюсь, поймут именно
те, мнением которых я дорожу: я сделал это по чувству, похожему на застенчивость, и которое я не могу определить одним словом. Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с бонапар-товской Францией, не описав наших неудач и нашего срама... Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений.
Итак, от 1856 г. возвратившись к 1805 г., я с этого времени намерен провести уже не одного, а многих моих героинь и героев через исторические события 1805, 1807, 1812, 1825 и 1856 года» [21].
Непредвиденное расширение задуманного воплотилось в романный эпос, которому суждено было стать уникальным явлением русской и мировой культуры. Главное достижение художественного гения Толстого состояло в том, что он изобразил текучесть душевных процессов как исторических, а исторических - как душевных. Н. Г. Чернышевский назвал эту текучесть «диалектикой души» [23, с. 334]. Толстой воссоздал в истории человеческой души народную душу истории. Толстовская текучесть обнажила скрытую от поверхностного взгляда, но благословленную мировой гармонией взаимосвязь небесных светил и растений, животных и людей, природных и социальных явлений.
Глубоко прочувствованная Толстым взаимообусловленность части и целого позволила ему свести в событии Отечественной войны 1812 г. множество людских судеб. Предшественники и современники Толстого: М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. И. Гончаров и другие ограничивались в своих произведениях изображением одного фабульного конфликта. Толстовская «жизнь без начала и конца» (А. Блок) охватывает в единстве огромного панорамного события наполеоновских войн самые разные явления. И самостоятельное значение каждого отдельного феномена проясняется благодаря его множественным связям с другими, образующими то необозримое и невыразимое в понятиях целое, которое Толстой называл жизнью. Врожденное ощущение единства мира позволяет Толстому непринужденно выявлять органичную взаимообусловленность внутреннего и внешнего. Описывать события, происходящие в столичных салонах и дворянских усадьбах, во дворцах и в крестьянских избах, на охоте и на полях сражений, на балах и на проселочных дорогах, в Москве и в Петербурге, в России и в Австрии.
Толстой любуется теми, кому от рождения дано ощущать себя органичной частью божьего мира. Таковы Наташа Ростова и ее младший брат Петя, капитан Тушин, солдат Платон Каратаев, партизан Тихон Щербатый, генерал от инфантерии Дмитрий Сергеевич Дохтуров, старый, мудрый и всё понимающий главнокомандующий русской армией, Михаил Илларионович Кутузов. Симпатизирует тем, кто способен к духовному росту, кто внутренне готов к очищающему опыту нравственного перерождения. К героям этого типа относятся Андрей Болконский и Пьер Безухов.
Литература XX в. благодарно восприняла и развила эпохальные открытия Толстого. Писатели усвоили толстовское представление об открытом историческом времени, о принципиальной смысловой незавершенности как любого исторического события, так и каждой отдельной человеческой жизни. Толстовский эпос научил писателей изображать историю как тканый ковер, смысловой узор которого вырисовывается из переплетающихся нитей человеческих судеб.
Если эволюция замысла «Войны и мира» побуждала Толстого непрерывно расширять жизненное пространство своих героев по мере того как, волею истории, они вовлекались в события мирового масштаба, эволюция замысла социально-психологического романа «Анна Каренина» направляла его художественный интерес от эпохальной эстетики к семейной этике. Авторская избирательность Толстого становится более интимной: откликаясь на углубляющиеся проблемы пореформенного времени, он сосредоточивался на анализе усложняющегося внутреннего мира частного человека. Причину обострявшегося неблагополучия жизни Толстой находил в экзистенциальном конфликте между личностью и обществом. Нормативные запреты, посягая на фундаментальную потребность человека в счастье, диссоциировали его психику, которая, в отместку, бросала вызов ненормальным социальным условиям, порождавшим эту душевную дисгармонию.
В «Анне Карениной» Толстой, отходя от эпического «всеведения», дает волю моральной критике «плотских» отношений между мужчиной и женщиной, противопоставляя им освященную церковными узами и угодную Богу взаимную привязанность законных супругов. Прибегая к приемам композиции и к прямому авторскому слову, он осуждает внебрачную связь молодой, самой природой созданной для любви Анны Карениной с блестящим гвардейским офицером, графом Алексеем Вронским.
С помощью параллелизма Толстой значимо соотносит этапы трагического ухудшения отношений между Анной и Вронским с этапами радостного обретения взаимопонимания между молодыми супругами: Константином Левиным и Кити Щербацкой. Тема-тизирующая интенция моралиста благоволит Левину и Кити, но огромный талант художника позволяет Толстому понять и трагическую правду жизненного выбора Анны. Когда Анна протанцевала на балу с Вронским роковой для себя танец, ей открылось, что она никогда не любила своего мужа, государственного чиновника Алексея Александровича Каренина, что она создана для Вронского - мужественного, обаятельного, властно притягательного мужчины. Их внебрачная связь перерастает границы снисходительно одобряемого высшим светом флирта и превращается в серьезную, сосредоточенную, угрюмую, всепоглощающую страсть.
Охваченную «витальным» порывом Анну не могут остановить ни чувство долга, ни пресловутые «доводы рассудка». Нравственные обязательства перед мужем обесцениваются отвращением к нему. Одно лишь воспоминание о супруге, этой «бездушной «машине», рождает в ней физическую и моральную брезгливость. Не в ее власти совладать и с омраченной неизбывным чувством вины страстной материнской привязанностью к восьмилетнему сыну Сереже. Все эти чувства наступают на нее, теснят, разрывают ее истерзанную душу.
Анна ждет от сложившихся обстоятельств невозможного: она желала бы заменить собою Вронскому ту его жизнь успешного офицера, политика и государственного деятеля, от которой он отказался ради нее. И сама она, изгнанная и заклейменная высшим светом, хочет видеть в нем воплощение всей утраченной ею полноты бытия. Но мгновения ясности сознания дают ей понять, что ее желания неосуществимы и она разражается упреками в адрес того, кто, как ей кажется, является причиной постигшего ее несчастья. И при этом холодеет от ужаса при мысли, что Вронский, единственный бесконечно дорогой ей человек, разлюбит или уже разлюбил ее.
Душа Анны становится ареной противоборствующих, неспособных ужиться друг с другом порывов. То вся она - безмерная любовь к Вронскому. То она во власти пронзительной нежности к сыну и называет себя подлой, преступной матерью. Ее охватывает жажда нравственной чистоты, и она чувствует себя готовой к всепрощению и самопожертвованию. Всё чаще ей представляется, что выхода
из лабиринта нет, и она впадает в отчаяние. Слезы жалости к себе и ненависти к обманувшей ее жизни, приступы смирения и гнева превращают в ад жизнь этой самолюбивой, гордой, прекрасной и несчастной женщины.
Так, навязываемая жизнью проблематизация замысла нового «Семейного счастья» позволила воплотиться роману об Анне Карениной, роману о неизбывном трагизме земной человеческой любви.
Т. Манн: от «Феликса Круля» к «Доктору Фаустусу» -одиночество авантюриста и проблема художника
Замысел совершенствуется, претерпевая изменения под магическим воздействием исходящей от жизни правды: автор проникается более глубоким, по сравнению с первоначальной презумпцией, смыслом изображаемого события. Бывает, что, блистательно заявив о себе, замысел не находит завершения, как это случилось с неоконченным романом Т. Манна «Признания авантюриста Феликса Кру-ля». Смысл изменившихся со временем исторических обстоятельств перерос бывший некогда актуальным замысел: « "К" (это моя жена) говорит о продолжении "Круля", коего не раз требовали друзья. Не то, чтобы я был совсем далек от такой мысли, но мне казалось, что замысел, возникший во времена, когда проблема "художник и бюргер" доминировала, ныне уже устарел и перевыполнен "Иосифом"» [14, с. 212].
Однако скрыто живущая в «Круле» тема одиночества не осталась в прошлом и не иссякла, но, разрастаясь в душе автора, получила продолжение в романе «Доктор Фаустус», который возвысил тему одиночества до символического обобщения судьбы художника: «И всё-таки в один из тех дней мне довелось разобрать папки с материалами к «Авантюристу». Результат был поразительный. То было «осознание внутреннего родства между фаустовской темой и этой (родства, основанного на мотиве одиночества, там трагично-мистическом, здесь юмористически-плутовском)» [14, с. 214]. Тема одиночества, развиваясь как ответ на нарастающий трагизм событий Второй мировой войны, получила более глубокое воплощение в романе о докторе Фаусте. Образ Адриана Леверкюна, тангейзе-ра XX в., возвысил тему авантюриста одиночки до символической судьбы художника, жестоко расплатившегося за уклонение от ответственности перед судьбой своего народа и своей эпохи.
В сюжетообразующем диалоге между замыслом и воплощением - когнитивной авторской интенцией и эзотерическим смыслом события - кроется разгадка таинственного очарования художественной литературы. В открытом навстречу будущему произведении вершится чудо самопознания жизни.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аверинцев С. С. Порядок космоса и порядок истории // Поэтика ранне-византийской литературы. - М. : Coda, 1997. - С. 266-285.
2. Аристотель. Поэтика // Соч.: в 4 т. - Т. 4. - М. : Мысль, 1984. - С. 645680.
3. Ауэрбах Э. Изображение действительности в западноевропейской литературе. - М. : Прогресс, 1976. - 560 с.
4. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. - М. : Художественная литература, 1975. - С. 234-407.
5. Бахтин М. М. Эпос и роман (О методологии исследования романа) // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. - М. : Художественная литература», 1975. - С. 447-483.
6. Бердяев Н. А. Философия свободного духа. Проблематика и апологетика христианства // Философия свободного духа. - М. : Республика, 1994. -С. 14-228.
7. Бондарев А. П. Высказывание: диалог языка и речи // Экология родного языка и культуры. - М. : Флинта; Наука, 2014. - С. 42-51.
8. Бэкон Ф. Великое восстановление наук // Собр. соч.: в 2 т. - Т. 1. - М. : Мысль, 1977. - С. 54-522.
9. Веселовский А. Н. История или теория романа? // Избранные статьи. -Л. : Художественная литература, 1939. - С. 3-22.
10. Гёте И. В. Шекспир и несть ему конца // Об искусстве. - М. : Искусство, 1975. - С. 409-423.
11. Гоголь Н. В. Предсмертная записка: «Друзьям моим» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/put/biblio/gogol/ gogol27.htm
12. Данте Алигьери. О четырех смыслах. Из трактата «Пир» // Зарубежная литература Средних веков. - М. : Просвещение, 1975. - С. 200-202.
13. К. Маркс и Ф. Энгельс. Об искусстве: в 2 т. - Т. 1. - М. : Искусство, 1976. -С. 311-313.
14. Манн Т. История «Доктора Фауста». Роман одного романа // Собр. соч.: в 10 т. - Т. 9. - М. : Художественная литература, 1960. - С. 199-364.
15. Манн Т. Путешествие по морю с Дон Кихотом // Собр. соч.: в 10 т. -Т. 10. - М. : Художественная литература, 1961. - С. 174-228.
16. Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский: вечные спутники. - М. : Республика, 1995. - 586 с.
17. Мукаржовский Ян. Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве // Структурализм: «за» и «против». - М. : Прогресс, 1975. - С. 164-191.
18. Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Соч. : в 2 т. - Т. 1. - М. : Мысль, 1990. - С. 159-230.
19. Платон. Апология Сократа // Полное собр. соч. в одном томе. -М. : АЛЬФА-КНИГА, 2013. - С. 18-34.
20. Сведенборг Э. О небесах, о мире духов и об аде. - СПб. : Амфора, 1999. -556 с. (Личная библиотека Борхеса).
21. Толстой Л. Из наброска предисловия к «Войне и миру» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l35/t35-285-. htm
22. Фихте И. Г. О назначении человека в себе // Соч.: Работы 1792-1801 гг. -М. : Ладомир, 1995. - С. 483-488.
23. Чернышевский Н. Г. Детство и отрочество. Военные рассказы // Собр. соч.: в 5 т. - Т. 3. - М. : Правда, 1974. - С. 332-346.
24. Шеллинг Ф. В. Философия искусства. - М. : Мысль, 1966. - С. 47-444.
25. Шеллинг Ф. В. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах // Соч.: в 2 т. - Т. 2. - М. : Мысль, 1989. - С. 86-158.
26. Шеллинг Ф. В. О Данте в философском отношении // Философия искусства. - М. : Мысль, 1966. - С. 445-456.
27. Шпенглер О. Закат западного мира // Полное издание в одном томе. -М. : АЛЬФА-КНИГА, 2010. -1086 с.
28. Юнг К.Г. Психологические типы. - СПб. : Ювента ; М. : Прогресс-Универс, 1995. - С. 23-710.
29. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. - М. : Класс, 2014. - 576 с.





 CC BY
CC BY 72
72