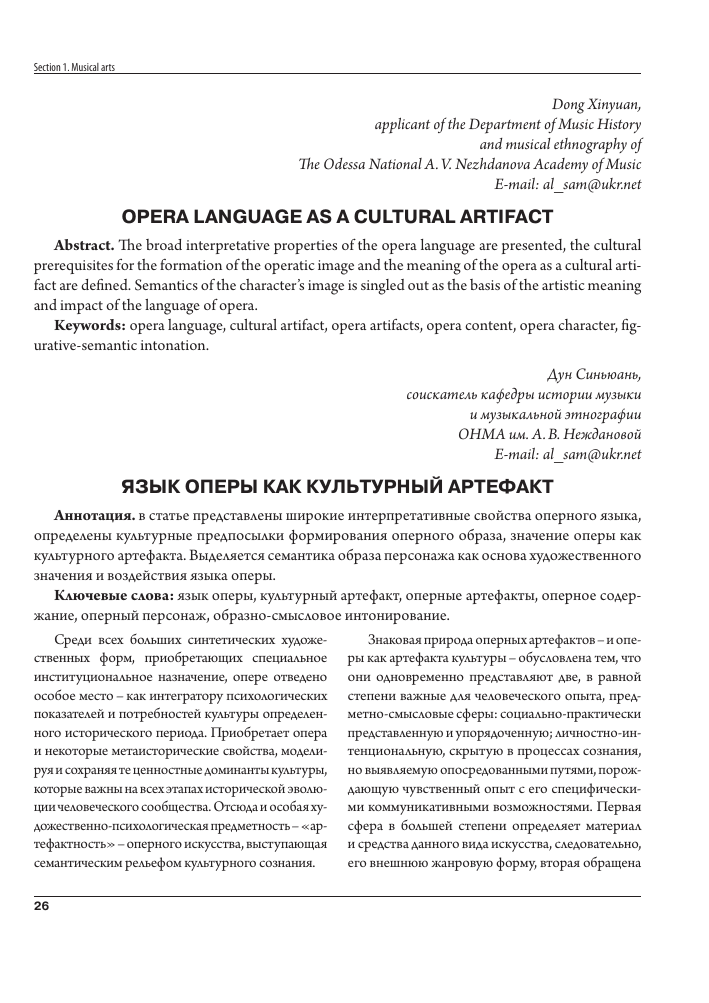Dong Xinyuan,
applicant of the Department of Music History and musical ethnography of The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music
E-mail: al_sam@ukr.net
OPERA LANGUAGE AS A CULTURAL ARTIFACT
Abstract. The broad interpretative properties of the opera language are presented, the cultural prerequisites for the formation of the operatic image and the meaning of the opera as a cultural artifact are defined. Semantics of the character's image is singled out as the basis of the artistic meaning and impact of the language of opera.
Keywords: opera language, cultural artifact, opera artifacts, opera content, opera character, figurative-semantic intonation.
Дун Синьюань, соискатель кафедры истории музыки и музыкальной этнографии ОНМА им. А. В. Неждановой E-mail: al_sam@ukr.net
ЯЗЫК ОПЕРЫ КАК КУЛЬТУРНЫЙ АРТЕФАКТ
Аннотация. в статье представлены широкие интерпретативные свойства оперного языка, определены культурные предпосылки формирования оперного образа, значение оперы как культурного артефакта. Выделяется семантика образа персонажа как основа художественного значения и воздействия языка оперы.
Ключевые слова: язык оперы, культурный артефакт, оперные артефакты, оперное содержание, оперный персонаж, образно-смысловое интонирование.
Среди всех больших синтетических художе- Знаковая природа оперных артефактов - и опе-
ственных форм, приобретающих специальное ры как артефакта культуры - обусловлена тем, что
институциональное назначение, опере отведено они одновременно представляют две, в равной
особое место - как интегратору психологических степени важные для человеческого опыта, пред-
показателей и потребностей культуры определен- метно-смысловые сферы: социально-практически
ного исторического периода. Приобретает опера представленную и упорядоченную; личностно-ин-
и некоторые метаисторические свойства, модели- тенциональную, скрытую в процессах сознания,
руя и сохраняя те ценностные доминанты культуры, но выявляемую опосредованными путями, порож-
которые важны на всех этапах исторической эволю- дающую чувственный опыт с его специфически-
ции человеческого сообщества. Отсюда и особая ху- ми коммуникативными возможностями. Первая
дожественно-психологическая предметность - «ар- сфера в большей степени определяет материал
тефактность» - оперного искусства, выступающая и средства данного вида искусства, следовательно,
семантическим рельефом культурного сознания. его внешнюю жанровую форму, вторая обращена
к принципам образования художественного приема, в конечном счете стремясь к передаче единства, целостности уже не только обособленно-индивидуального, но и культурно-исторически сообщенного сознания, которое способно становиться, по утверждению Л. Выготского [7], самостоятельной областью человеческого бытия.
С данной второй стороны, которую правильнее всего определять как стилевую, различные способы построения оперы - событийно-действенный визуально-зрелищный, словесно-литературный, музыкальный, а также их разновидности, предстают путями культурной коммуникации.
Изучение диссертационных концепций О. Бо-зиной [6], В. Богатырева [4; 5], Е. Иготти [8], И. Пивоваровой [9], И. Силантьевой [11], А. Че-пиноги [13] позволяет убеждаться в том, что все они в равной степени, хотя и с различных исследовательских позиций характеризуют процесс художественного воздействия оперного произведения, таким образую признают существование особой формы оперной коммуникации. В качестве центральной семантической предпосылки выделяется проблема взаимодействия словесного и музыкального материала, реализуемого в феномене интонирования; обособляется понятие «действенного интонирования» (А. Чепинога), позволяющее обсуждать «драматургичность интонации», ее способность включаться в оперное действие в полном объеме его художественно-выразительных слагаемых.
Таким образом, понятие оперного интонирования приобретает новую художественную широту, предусматривающую и новые качества его музыкальной стороны: музыкальная интонация становится усиленным «семиотическим знаком» (Е. Иготти) - становится знаком «персонажного переживания»-перевоплощения (И. Силантьева), выражает ролевую предназначенность оперного пения (В. Богатырев), достигает нового семантического объема.
Семантическая репрезентация оперного содержания, позволяющая судить о широких куль-туротворческих функциях оперного воздействия, позволяет включать в артефактное поле оперы сценическую постановочную интерпретацию, репрезентирующую режиссерскую концепцию оперы. На данном системном уровне оперной художественной конструкции возникает перевод словесно-музыкальных значений в новую систему измерения, предполагающую визуальный причинно-следственный порядок - сценическую хронотопию, частью которой будет выступать словесно-музыкальный материал; этой, наиболее видимой, части оперной концепции будет подчиняться и ее «тайный» музыкально-символически запрограммированный смысл.
Так, А. Чепинога, развивая понятие о «действенной интонации» в связи с оперной режиссурой и мастерством актера-певца, считает ее главным содержательным направлением нахождение необходимого и «верного» музыкального компонента, поскольку с его помощью выражается «какой-то высший смысл в чувствах». Она акцентирует трагические эстетические предпочтения оперы, выражаемые в образах и характерах главных персонажей, поскольку «в большинстве своем оперный персонаж выводится на сцену в предельных для себя жизненных обстоятельствах, на грани решения вопросов жизни и смерти, что придает оперной интонации особый «патетический» оттенок [13].
Драматическая природа оперы является своеобразным синтезом реальных жизненных проявлений; обстоятельства, в которые попадает герой оперы, заставляют его продуцировать эмоции необычайно высокого уровня. Природа этих эмоций, как правило, имеет героическую основу и потому не может осознаваться зрителем/ слушателем как обыкновенно-обыденная. А такая «высокая эмоциональность оперного характера» обусловлена «выражением трагических противоречий души, состоянием «внутреннего
бунта», сражениями, происходящими на полях внутренней жизни» [13, 8].
В оперном представлении сходятся планы «внешней» и «внутренней» жизни, а их взаимодействие - именно как действие - обусловлено развитием двух типов движения, сценического и психологического, двух форм его выражения, актерской и певческой, причем обнаруживается особый «профессиональный инструмент», позволяющий сближать оба типа и обе формы -интонирование, как главный коммуникативный канал воздействия на зрительско/слушательскую аудиторию.
Действенное, то есть синтетическое по своему основному профессиональному заданию, интонирование является средством преодоления противоречия между статуарностью классических оперных форм и динамическим неравновесием среды современных реципиентов. Оно адресовано, более всего, временной стороне спектакля, потому выступает «ритмоинтонаци-ей», в определении А. Чепиноги; его можно также назвать темпорально-ритмическим, поскольку оно «представляется возможным инструментом сохранения «специфики» оперного произведения и в то же время - вскрытия его «созвучного времени» содержания.
Подчеркнем, что понятие «действенной интонации» имеет режиссерское происхождение; его автором является Б. Покровский, «чей опыт, чье «нововведение», чьи теоретические изыскания в области «действенной интонации» фактически произвели «творческую революцию» в современном оперном театре». Поэтому одной из главных задач изучения оперного произведения, особенно в процессе его исполнительской интерпретации, является определение комплексной природы «действенной ритмоинтонации», ведь она заключает в себе принцип, позволяющий понять и «природу оперы (интонационность, театральность, целостность)», и специфику восприятия оперного материала зрителем/слушателем
как «активно-деятельное и эмоционально-ценностное постижение оперы» (см.: [10; 13, 12]).
Не случайно А. Чепинога заключает, что «именно эмоционально-энергетическое воздействие музыкального слова, то есть «интонирование» в опере и является индивидуальным выразительным средством создания художественного образа. Именно органичным интонационным сплавом музыки и слова артист действует на зрителя и ретранслирует внутреннюю жизнь своего персонажа и - шире - внутреннее видение, оценку реальности, композиторское и свое личное отношение к действительности» [13, 137].
Основой внутренней логический структуры, определяющей содержательно-смысловую действенность оперного интонирования, оказывается единство словесного и музыкального материала. В силу этого можно выделить проблему взаимодействия музыки и слова как центральную в оперной драматургии, обосновывая в связи с этим понятие «драматургичности» оперной интонации. Так, А. Чепинога замечает, что «действенное интонирование» - не только прием подачи слова при помощи определенной нюансировки, а «целый пласт, который в результате рождает понятие дра-матургичности интонации. Она включает в себя не только тональное, стилистическое, тембровое, темповое и другое качественное и количественное развитие музыкальной драматургии, но и выделяет из себя драматургию паузы, молчания, остановки. «Действенная интонация» помогает артисту так проанализировать партитуру, чтобы выявить драматургические интонационные акценты, благодаря которым зритель самостоятельно, на чувственном уровне воспринимая оперное произведение, адаптирует к своему восприятию оперную условность» [13, 138].
Действенное интонирование, которое организует целостное воздействие оперного материала, подразумевает целостный образ исполнителя на оперной сцене, является сценически обусловленным и оправданным, что и позволяет
находить в нем отражение определенной визуально-пластической задачи, связи со зрелищной стороной оперной постановки, поскольку таковы и «правда жизни» и «правда смысла»: обе рождаются в единстве всех каналов и средств сознания и коммуникации, зрительного, слухового, и событийно-действенного.
Способность оперного исполнителя находить все данные аспекты художественно-интонационного воздействия И. Силантьева определяет как способность перевоплощения, то есть создания - представления условно виртуальной личности оперного персонажа и соответствующего ей «персонажного содержания», требующую «новейших знаний» в области человековедения «с тем, чтобы досконально понять своего героя во всей его неповторимой сложности и выразить средствами искусства наиболее полно и ярко его духовную жизнь, живой характер» [11, 5].
В своем докторском исследовании музыковед предлагает изучать влияние музыкального фактора на процесс перевоплощения певца-актера; экзистенциальную природу искусства перевоплощения; психологические механизмы понимания и присвоения исполнителем текста-сознания персонажа; процессуальность переживания как совместной деятельности оперного исполнителя и персонажа; музыкально-сценические образы и формы внутреннего и внешнего действования персонажа; факторы модальности вокальной интонации, включая предполагаемые обстоятельства роли. Следовательно, значительно углубляется и подход к слову в контексте проблемы театральности оперного исполнения; раскрывается переход от скрытого в слове динамического образа к образности фонем, а от них -и к вопросам вокальной дикции, то есть обнаруживается тесная образная взаимобусловленность всех параметров сценически-художественного перевоплощения оперного исполнителя.
На широкой теоретико-методологической основе И. Силантьева вводит понятие образно-смыслового интонирования, которое выступает
инструментом «персонажного переживания»-перевоплощения. В связи с этим становится почти что неминуемым обращение к творчеству Ф. Шаляпина и развиваемому им методу перевоплощения, полностью сохраняющему актуальность для современных исполнителей. Можно даже утверждать, что в современных художественно-коммуникативных условиях и в контексте новых теорий переживания, в том числе, эмо-ционологии, а также в связи с усилением интереса к оперному искусству именно как к определенной сфере художественного воздействия, чувственно-эстетической культуры, феномен Шаляпина и связанные с ним методические принципы «психологического театра» приобретают новое углубленно-смысловое значение, становятся показателями семантической полноты, осущест-вленности оперно-театрального творчества.
Во всяком случае, И. Силантьева отмечает, что поскольку опера имеет литературно-драматургическое основание, пользуется средствами сценографии, а музыкальный материал сочетается с действенным словом и знаком, допустимо подойти к ней с точки зрения «семиологических законов», а в связи с этим привлечь «семантическую эстетику»: при широко-синтезирующем или, наоборот, глубоко аналитическом, раскрывающем первичный жанровый синкретизм, подходе к оперному жанру как к специализированной сфере музыкально-театрального искусства, обнаруживается «язык особого рода», «царство символов, составляющих сознание индивида», следовательно в новом актуальном значении предстают и вопросы понимания - интерпретации [11].
Создаваемый оперным певцом «персонажный образ» попадает на почву герменевтической теории в ее современном положении и развитии, которое предусматривает психологическую направленность, с одной стороны, обращение к сфере художественных артефактов во всем их многообразии как к возможной экспликации семантики сознания, с другой.
И если И. Силантьева позволяет себе указывать, что «артист следует приему герменевтики в ее древнем назначении - способа толкования многозначных символов», поскольку «нет более многозначного символа чем личность», то можно добавить, что нет более сложной художественно-символической формы, чем творчество оперного певца-актера, поскольку оно предполагает интегрированную интерпретацию всех основных видовых возможностей искусства: литературного нарратива и специфической словесно-поэтической образности, живописного показа и пластического изобразительно-жестового решения, музыкального озвучания происходящего внешнего и внутреннего, условного жизненно-фактологического и безусловного психологического событий.
В связи с этим можно согласиться с И. Силантьевой в том, что любая внешняя форма выразительности певца-актера продиктована воображаемым персонажным состоянием, мышлением и чувствованием, а внутренние образы и формы движения и действия исполнителя предпосланы психологически - и именно на этой психологической основе обретают образное значение, «одухотворенность».
Данный подход позволяет автору выделять категорию переживания как указывающую на род непрерывной внутренней деятельности исполнителя («интенсивное эмоционально окрашенное осмысление исполнителем каждого происходящего мгновения»), с одной стороны, «переживание персонажного самочувствия и преодоление кризисных ситуаций от имени оперного героя», которое непосредственно «сказывается на тембровой выразительности голоса исполнителя и образности интонирования», с другой [11, 594].
Подобная «раздвоенность» способа переживания, потребность в буквальном представлении - озвучивании переживания заставляет вспоминать о методических принципах К. Станиславского, В. Немировича-Данченко, М. Чехова (см.[1; 10], то есть о творчески-практической
стороне «театра переживания», который не утрачивает, напротив, наращивает свой семантический потенциал в условиях современного оперного творчества.
Актуальность проблемы переживания как фундаментальной экзистенциальной для оперного исполнителя обусловила методологические направление и предметное содержание исследования Бай Цюаня [3], в котором, в частности, отмечается, что оперное переживание - это особое явление и понятие, указывающее на новую художественную предметность эмоционального переживания, приобретаемую в оперном произведении, благодаря особенным свойствам оперного жанра, в процессе оперного восприятия и воздействия. «Оно должно рассматриваться как замысел композитора, включающий в качестве ведущей творческой задачи моделирование определенного, сюжетно-композиционно конкретизированного, эмоционально-когнитивного процесса, то есть художественной чувственной концепции -или концептуализацию чувств. В этом случае оно становится необходимой частью оперного текста, его эмотивно-аксиологической парадигмой, которая находит свои знаковые формы и определяет их приоритетность по отношению к собственным потребностям» [3, с. 146].
Синонимичными по отношению к понятию «концептуализации чувств» в диссертации И. Силантьевой становятся понятия «образ голоса», «проживание-переживание», «решающее внутреннее переживание», «модус трансцендентности», «сценическая экзистенция», «модус персонажного бытия», нек. др., предусматривающие и специальные приемы художественной реализации, то есть специфические художественные средства. В связи с последними исследовательница детально рассматривает работу Ф. Шаляпина над «омузыкаливанием» слова и созданием вербальных «следов» в пении, шире - выразительные приемы рассказчика-дра-матизатора в условиях перевоплощения с акцен-
туацией выразительной роли фонем и орфоэпии, их функций в создании взаимодействующего с музыкой динамического образа слова. Эти и некоторые другие суждения о об оперном творчестве позволяют прийти к выводу, что создаваемые великим певцом образы, принципы артистической игры и вокальной интерпретации вошли в систему художественной выразительности оперы как часть стилевой традиции, то есть обрели качества культурно-художественных артефактов.
Выводы. Причастность оперного творчества к миру живых человеческих эмоций, важность последних для исторически транслируемого смыслового содержания культуры позволяет находить в оперной стилевой традиции особый художественный феномен, обеспечивающий важный коммуникативный опыт, социально-психологическое сопричастие. Музыкальные компоненты оперной стилевой традиции обеспечивают ее об-
циацию в той мере, в какой типы интонирования обусловлены различными модусами персонажного сознания. В связи с этим давно устоялось разграничение ариозных, ариозно-декламацион-ных, декламационно-речитативных и собственно речитативных форм, с возможной трансгрессией последних до «шпрехштимме», то есть до полупения - полуговора.
Соотношение степени активности и выразительности словесно-речевого и музыкального способов интонирования является в традиционным оперным приемом обозначения эстетического статуса (от героически-возвышенного до низменно-злодейского) и психологического состояния персонажа (от счастья в любви до предчувствия-ожидания смерти), поэтому данный прием является стилевым. Эстетически обусловленное и психологически определенное, опредмеченное словесно-музыкальное интонирование становится автономным оперным артефактом.
разно-смысловую определенность и дифферен-
^нсок литературы:
1. Антарова К. Театр - мое сердце // - М.: Сиринъ садхана, 2004.- 320 с.
2. Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства.- М.: Композитор, 1998.- 343 с.
3. Бай Цюань. Оперная мелодия как художественно-коммуникативный и интонационно-стилистический феномен. Дисс... канд. искусствоведения; спец.: 17.00.03 - музыкальное искусство.- Одесса, 2017.- 185 с.
4. Богатырев В. Оперное творчество певца-актера: историко-теоретические и практические аспекты. Дисс. докт. искусствоведения; спец.: 17.00.09 - теория и история искусства. СПб.- 335 с.
5. Богатырев В. Опера: понятие стиля в сценическом воплощении музыкальной партитуры // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2011.- № 2.- С. 47-151.
6. Бозина О. Семантика тональности в оперном творчестве Н. А. Римского-Корсакова. Дисс. канд. искусствоведения; спец.: 17.00.02 - музыкальное искусство. Саратов, 2010.- 190 с.
7. Выготский Л. Психология искусства.- М.: Искусство, 1968.- 576 с.
8. Иготти Е. Теория и практика интонирования в современной вокальной музыке. Дисс. канд искусствоведения; спец.: 17.00.02 - музыкальное искусство. СПб., 2011.- 170 с.
9. Пивоварова И. Либретто отечественной оперы: аспекты интерпретации литературного первоисточника. Дисс. канд. искусствоведения; спец.: 17.00.02 - музыкальное искусство. - Магнитогорск, 2002.- 265 с.
10. Покровский Б. Введение в оперную режиссуру: Учебное пособие.- М.: ГИТИС, 1985.- 74 с.
11. Силантьева И. Работа Ф. И. Шаляпина над оперным образом. Дис . канд. искусствоведения; спец.: 17.00.02 - музыкальное искусство.- М.: РАТИ / ГИТИС, 1996.- 198 с.
12. Силантьева И. Проблема перевоплощения исполнителя в вокально-сценическом искусстве. Дисс... докт. искусствоведения: 17.00.02 - музыкальное искусство.- М., 2008.- 662 с.
13. Чепинога А. Действенная интонация в режиссуре и мастерстве актера музыкального театра. Дисс. канд. искусствоведения: 17.00.01 - театральное искусство.- М., 2011.- 145 с.
14. Эйкерт Е. О роли жанровой семантики в опере // Художественное образование XXI века: стратегия модернизации. Сборн. по материалам VII научно-практической конференции. - Тольятти: Изд-во Тольяттинской консерватории, 2012.- С. 58-68.





 CC BY
CC BY 52
52