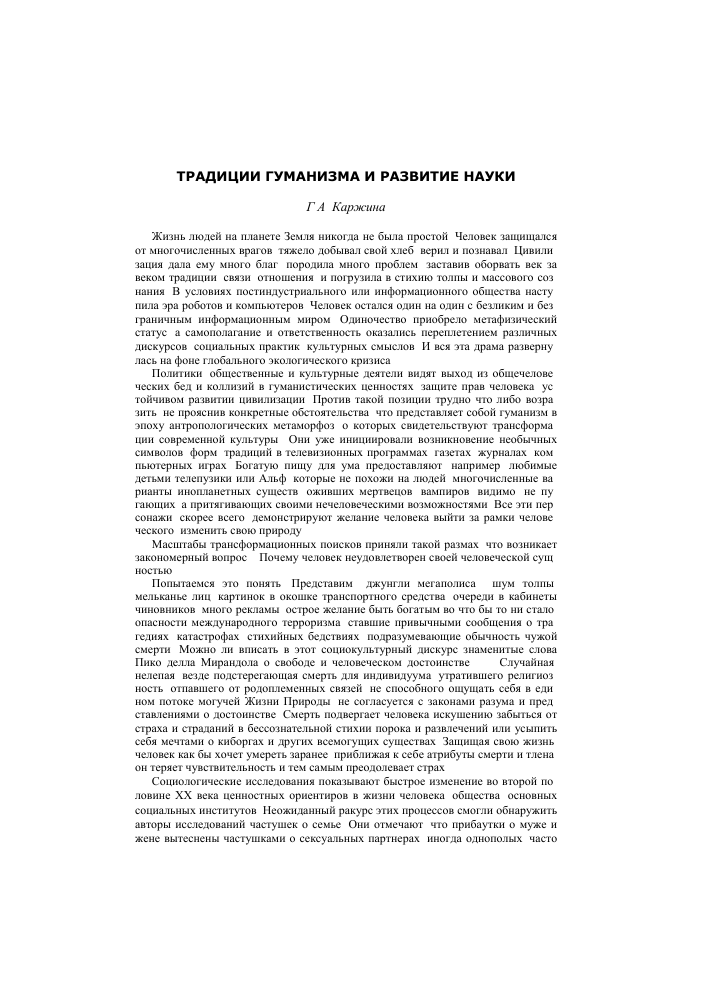ТРАДИЦИИ ГУМАНИЗМА И РАЗВИТИЕ НАУКИ
Г.А. Каржина
Жизнь людей на планете Земля никогда не была простой. Человек защищался от многочисленных врагов, тяжело добывал свой хлеб, верил и познавал. Цивилизация дала ему много благ, породила много проблем, заставив оборвать век за веком традиции, связи, отношения, и погрузила в стихию толпы и массового сознания. В условиях постиндустриального или информационного общества наступила эра роботов и компьютеров. Человек остался один на один с безликим и безграничным информационным миром. Одиночество приобрело метафизический статус, а самополагание и ответственность оказались переплетением различных дискурсов, социальных практик, культурных смыслов. И вся эта драма развернулась на фоне глобального экологического кризиса.
Политики, общественные и культурные деятели видят выход из общечеловеческих бед и коллизий в гуманистических ценностях, защите прав человека, устойчивом развитии цивилизации. Против такой позиции трудно что-либо возразить, не прояснив конкретные обстоятельства: что представляет собой гуманизм в эпоху антропологических метаморфоз, о которых свидетельствуют трансформации современной культуры? Они уже инициировали возникновение необычных символов, форм, традиций в телевизионных программах, газетах, журналах, компьютерных играх. Богатую пищу для ума предоставляют, например, любимые детьми телепузики или Альф, которые не похожи на людей, многочисленные варианты инопланетных существ, оживших мертвецов, вампиров, видимо, не пугающих, а притягивающих своими нечеловеческими возможностями. Все эти персонажи, скорее всего, демонстрируют желание человека выйти за рамки человеческого, изменить свою природу
Масштабы трансформационных поисков приняли такой размах, что возникает закономерный вопрос: «Почему человек неудовлетворен своей человеческой сущностью?».
Попытаемся это понять. Представим «джунгли мегаполиса», шум толпы, мельканье лиц, картинок в окошке транспортного средства, очереди в кабинеты чиновников, много рекламы, острое желание быть богатым во что бы то ни стало, опасности международного терроризма, ставшие привычными сообщения о трагедиях, катастрофах, стихийных бедствиях, подразумевающие обычность чужой смерти. Можно ли вписать в этот социокультурный дискурс знаменитые слова Пико делла Мирандола о свободе и человеческом достоинстве [1]? Случайная, нелепая, везде подстерегающая смерть для индивидуума, утратившего религиозность, отпавшего от родоплеменных связей, не способного ощущать себя в едином потоке могучей Жизни Природы, не согласуется с законами разума и представлениями о достоинстве. Смерть подвергает человека искушению забыться от страха и страданий в бессознательной стихии порока и развлечений или усыпить себя мечтами о киборгах и других всемогущих существах. Защищая свою жизнь, человек как бы хочет умереть заранее, приближая к себе атрибуты смерти и тлена, он теряет чувствительность и тем самым преодолевает страх.
Социологические исследования показывают быстрое изменение во второй половине ХХ века ценностных ориентиров в жизни человека, общества, основных социальных институтов. Неожиданный ракурс этих процессов смогли обнаружить авторы исследований частушек о семье. Они отмечают, что прибаутки о муже и жене вытеснены частушками о сексуальных партнерах, иногда однополых, часто
фигурирует идея обременительности деторождения, восхваляется престижность неожиданных профессий, например, путаны. В контексте объяснения человека как текста, присущего адептам постмодерна (Ж. Деррида), такая ситуация воспринимается особенно символично. Как тут не вспомнить мысли М. Фуко об исчезновении человека, ставшие продолжением идей Ф. Ницше о смерти Бога и свидетельствующие о кризисе гуманистических ценностей [2].
Кризис человечности сегодня воспринимается как одна из глобальных проблем, а вина за него возложена на науку, точнее на сциентистское мировоззрение, определившее облик технократической цивилизации. Становятся все более популярными учения, на разные лады перепевающие достижения древней восточной культуры, пропагандирующие технику медитации и астральные путешествия, возрастает интерес к магии и колдовству. Возможности научного разума либо преувеличиваются, что порождает иллюзию могущества и вседозволенности, либо отвергаются вовсе. И то, и другое добавляет лишь беспокойство и смятение большинству обывателей, усиливает тревогу и напряжение в обществе.
.Действительно, гуманизм прошлых веков был неотделим от веры в могущество разума и научного познания. Он появился в условиях кризиса религиозного мировоззрения и позволил взглянуть на человека не просто как на тварное существо, но как на существо, созданное, в отличие от других, по Образу и Подобию Бога. Ум, свободная воля и творческая энергия «венца творения» стали главными формами человечности. Кризис рациональности на рубеже Х1Х-ХХ веков повлек за собой кризис метафизики мыслящего субъекта, но не означал еще краха гуманистических ценностей. Этому краху способствовало распространение атеизма и обновленных форм мистики. Популярность идей о мифологизированной и иррациональной космической воле привела к утрате свободной человеческой воли, открытой свету разума, добра и красоты. Кровавая история ХХ века с его мировыми войнами и созданием оружия массового уничтожения поставила под сомнение возможность человечества следовать гуманистическим ценностям.
Но наступил ХХ1 век, а человек по-прежнему ищет доброты и участия, у него болит душа и не очень здорово тело, он бытийствует и событийствует. Он ждет гуманности и гуманизма, отвечающего вызовам времени. В текстах международных проектов и документов все чаще встречается понятие о человеческом достоинстве.
Философам и социологам настоятельно необходимо увидеть возможности гуманизма, адекватного реалиям сегодняшней цивилизации. С нашей точки зрения, здесь вовсе не обязательно искать радикально новые идеи и концепции. Важно опереться на тех выразителей гуманистических ценностей и настроений, которые прошли испытание временем, к кому осознанно или интуитивно обращаются наши современники, которые позволяют избежать главных болей человечества — страха смерти и искушений безумства.
Философский анализ гуманизма неотделим от традиций философской антропологии, разгадывающей тайну человечности. В античной философии существовали учения о человеке (Сократ, софисты), выделяющие его из общего космического миропорядка, объявляющие человека мерой всех вещей. Греки и римляне (например, Цицерон) понимали под гуманизмом высшее развитие человеческих способностей, его эстетически законченное духовное и материальное самовыражение. Именно этот пласт культурного наследия греко-римской цивилизации был позднее воспринят Франческо Петраркой. Античные тексты явились новой со-
ставляющей в познании и возвышении человека, стали основой гуманитарного типа знаний. Однако прежде чем это произошло, христианское самосознание выделило человека из мира, поставив его перед Богом. Предстояние человека перед личностно оформленным Абсолютом решающим образом сказалось на развитии личности человеческой. Человек стал обладателем совести, которая определяла его качества и добродетели. Прежние связи и отношения оказались несущественными, различия между людьми потеряли прежний смысл, человеческое бытие нуждалось в оправдании и спасении. Верующий человек вступил в совершенно новую общность. Христианская цивилизация, ограничив индивидуальный выбор, указала на идеал единого мира, единого Богочеловечества.
Как целостная система воззрений и течение общественной мысли гуманизм оформился под влиянием многих событий эпохи Возрождения. Данте, Петрарка, Боккаччо считаются основателями итальянского гуманизма. Стоит заметить, что новое мировоззрение имело под собой обстоятельную хозяйственно-экономическую подоплеку. Начиная с тридцатых годов XIV века, в городах Средней и Северной Италии мерилом престижа и статуса человека в обществе становится богатство. В обстановке острого соперничества с другими купцами, ремесленниками и предпринимателями человек добивается успеха, опираясь на свои личные качества, активную деятельность. Ускоряется темп жизни, и меняется отношение к самому времени (время — дорого стоящая вещь для купца и ремесленника). Не отказываясь от Бога, человек хочет чувствовать себя оправданным через деятельность, выстраивая тем самым новую иерархию ценностей, в которой находится место и индивидуальной судьбе, и свободе выбора. Такой социокультурный дискурс подразумевал неоднозначные варианты гуманистических концепций с различной высотой пьедестала, на который поднимался человек, различные способы обращения к Богу. Поставив во главу угла творческое начало человека, его ум и изобретательность, многие гуманисты отдавали предпочтение материальным ценностям. В дальнейшем подобные учения не смогли пройти через кризис рациональности и критику постмодерна. На этом фоне, на наш взгляд, выделяется Ф. Петрарка, который, считая себя преемником античных поэтов и мудрецов, не перестает обращать свои мысли к Богу. Его гуманистическая традиция предполагает преодоление плотских и душевных искушений: человеческое счастье невозможно без материальных благ, но само по себе богатство - источник зла, зависти, оно превращает людей в неразумных зверей. Не менее гибельна для человека и несчастная судьба, порождающая скорби и болезни души. Петрарка не идеализирует человека, в отличие от своих последователей, он видит «испорченность природы Адама», с грустью констатирует, что разумом и мудростью наделены немногие образованные люди, остальные же «глупцы», «стада лишенных разума животных, лишь внешне сохраняющих человеческий облик» [3]. Его идеал — просвещенное благочестие, в котором христианские добродетели и устремленность к Богу гармонично сочетаются с классической культурой.
Отметим, что эта формула гуманизма не устарела и в наше время. Приходилось замечать, как студенты на занятиях по философии и культурологии, интересуясь произведениями Петрарки, особо подчеркивают его удивительную притягательную силу. Они объясняют, что тексты Петрарки олицетворяют чистоту и доброту, что, в свою очередь, заставляет преподавателя задуматься и объяснить такую избирательность.
Последователи Петрарки — Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола, — возрождая неоплатонический взгляд на человека, оптимистично провозглашают
его потенциальную божественность, не видя преград свободной человеческой воле. Леон Баттиста Альберти определяет труд, считавшийся в Средние века карой за первородный грех, жизненной целью, источником личных и общественных благ.
Гуманистические идеи могли остаться локальным явлением западной культуры, но этого не случилось благодаря развитию техники. Как справедливо показывает Р. Тарнас, после изобретения магнитного компаса, пороха, механических часов и печатного станка новый тип человека становится все более распространенным. Эпоха книгопечатанья прививает вкус к размышлениям. Оставшийся наедине с текстом человек может внутренне соглашаться и не соглашаться с написанным, «чтение про себя и размышление в одиночестве помогали индивидууму освободиться от традиционных способов мышления и от коллективного надзора над мышлением: ведь отныне каждый читатель получал доступ к множеству различных точек зрения и форм опыта» [4].
Дальнейший путь западной цивилизации был связан с распространением гуманистических ценностей, достижениями в развитии науки, техники, ремесел, что воплотилось в новом типе рациональности, новой трудовой этики, развитии правосознания.
В качестве следующей ключевой фигуры, приближающей к нам идеи прошлых веков, хотелось бы выделить удивительного ученого, невольно ассоцирую-щегося со словами Еклизиаста о многой мудрости и многой печали — Блеза Паскаля. Можно также констатировать популярность его образа мыслей и его сочинений в наши дни.
Исходным принципом для понимания творчества Паскаля служит его мысль о том, что все на земле показывает либо нищету человека, либо милосердие Бога [цит. по 8, с. 282]. Естественно-научные и этические изыскания Паскаля, формально не пересекаясь, пронизаны единым критическим настроем, освобождающим от благодушного оптимизма предшественников, единым принципом научной достоверности, Рассматривая послегалилеевскую картину мира, ученый открывает трагическое естество человека, затерявшегося в бесконечной Вселенной. Несовершенство людей, с его точки зрения, проявляется в суете и практицизме. «Но пусть человек удалит хоть на мгновение взор от низких вещей, окружающих его, и посмотрит на природу во всем ее величии. Тогда он подумает, что и просторная наша земля, и ослепительное светило, словно вечная лампа повисшее над ней, и катящиеся по небесному своду звезды, и вообще весь видимый мир — лишь незаметная песчинка в обширном лоне природы, И все пространства, которые мы можем вообразить, являются лишь атомом по сравнению с действительностью» [10, с. 283]. Бесконечность Вселенной является у Паскаля отрезвляющим лекарством для возгордившегося человека, приравнявшего себя к Богу и уверовавшего в собственную непогрешимость. Постижение бесконечности разумом, несмотря на всю мучительность и противоречивость этого процесса (как пишет исследователь его творчества Е. Кляус: «бесконечность словно бы приворожила его, растревожила, до болезненности разожгла любопытство... Она принимает у него форму то математической бесконечности, то философской «бездны» [5]), рождает тот культурно-исторический дискурс, в котором раскрываются человеческие ценности и добродетели.
«Я вижу эти ужасающие пространства Вселенной, которые заключают меня в себе, я чувствую себя привязанным к одному уголку этого обширного мира, не зная почему я помещен именно в этом, а не другом месте, почему то короткое
время, в которое дано мне жить, назначено мне именно в этой, а не в другой точке целой вечности, предшествовавшей мне и следующей за мной. Я вижу со всех сторон только бесконечности, которые заключают меня в себе, как атом; я как тень, продолжающаяся только мгновение и никогда не возвращающаяся. Все, что я сознаю, это только то, что я должен скоро умереть; но чего я больше всего не знаю, это смерть, которой не умею избежать. Как я не знаю, откуда пришел, также точно не знаю куда уйду. Вот мое положение: оно полно ничтожности, слабости, мрака». Эти слова Паскаля обретают новый смысл в эпоху освоения космического пространства, когда человек смог посмотреть на Землю из космоса, Много было написано о том, что он увидел, какая маленькая наша планета, однако недавно побывавший в космосе исследователь рассказал в телевизионной передаче, какая большая наша планета, как хорошо видится ее живая сила и гармония, ее неотделимость от вселенского мира. Он, будучи верующим человеком, поделился со зрителями ощущениями зримой целесообразности природного мира, отчетливо воспринимаемой на космическом корабле. Космос не пугает просвещенного человека, а притягивает. Развитие науки совершенствует человека, если лекарство Паскаля от гордыни ума не забыто и выступает обязательной компонентой гуманизма, символично определяемого образом «МЫСЛЯЩЕГО ТРОСТНИКА». Этот образ может пониматься как сочетание хрупкого и уязвимого телесного существа с безграничным мышлением. В то же время Паскаль в «Мыслях» пишет о несовершенстве и ограниченности человеческого мышления. В своем понимании человека он оказывается глубоко верующим человеком. «Тростниковость» — неизбежное следствие изначальной греховности человека, проистекающей из перво -родного греха. Человек ничтожен по отношению к Творцу, но соединен с Ним Вестью и наделен Божественным сознанием, помогающим видеть собственную мизерность и несовершенство. Метафора Паскаля многозначна, она содержит в себе скрытый смысл преодоления трагичности человеческого бытия через мышление. Возгордившийся ум, забывший о своей «тростниковости», и Землю из космоса видит маленькой, и реки готов повернуть вспять, и земные недра безжалостно опустошать, и людей клонировать, и ценности воспринимает только материальные.
Традиции критического гуманизма продолжает И. Кант. Его антропологическая проблематика стала своеобразным итогом размышлений о месте и роли философии, которые он подвел под следующие вопросы: «Что я могу знать? Что я должен делать? На что я смею надеяться? Что такое человек?». Обобщая идею предшественников, Кант уходит от просветительского благодушия в понимании человека. Если Руссо воспринимает природу человека как изначально добрую, а зло считает порождением цивилизации, следствием развития наук и искусств, Кант остается верен духу критической философии. Исследуя границы человеческих достоинств и возможностей, он констатирует двойственную природу человека как существа думающего и чувствующего, его принадлежность к царству свободы и подчиненность законам необходимости. И все-таки разум человека остается той силой, с помощью которой воля к добру побеждает зло.
Кантовский гуманизм, как и гуманизм Паскаля опирается на веру и разум, подразумевает многослойность духовной деятельности (философия, наука, искусство, мораль, религия), не допускает автономию морали по отношению к религии. Кант создает трансцендентально-критическую норму гуманности, апеллирующую к идее Бога и регламентирующую доверие и уважение человека к человеку, соответствующим образом повлиявшую на развитие правосознания.
Таким образом, Блез Паскаль и Иммануил Кант, несмотря на все различие между собой, определяют специфику человека через разум и веру. В истории философии часто подчеркивались и иные аспекты человечности: «быть политическим животным», «быть творцом истории», «обладать языком», религиозность.
Дальнейшее развитие гуманизма проходило в тесном взаимодействии с наукой. Научное познание, проистекающее из разумности человека, оказало влияние на все сферы его жизнедеятельности, стало мощной преобразующей силой, сама же наука стала своеобразной религией ХУШ века. Вера в разум, науку, прогресс изменила традиционный уклад общества. Научная картина мира, в которой господствовали законы механики, не позволяла человеку увидеть цель своего бытия, а теория эволюции Дарвина усугубила это положение дел. Согласно этой теории, человек становился всего лишь животным, отличающимся от других животных более высоким уровнем развития. Получалось так, что и разум появился в ходе эволюции и даже, может быть, случайно. Будущее Человека Разумного выглядело также неопределенным. Многочисленные наблюдения за животными и растениями, наполнившие новую биологическую науку, развитие палеонтологии и геологии привели к открытию законов круговорота веществ на нашей планете, за которыми стояли смерть и распад одних и рождение других.
Дальнейшее развитие европейской культуры проходило под сильным влиянием идей Ф. Ницше и З. Фрейда. Философия Ницше вообще спровоцировала кризис рациональности и, соответственно, гуманизма. Сверхчеловек, вставший по ту сторону добра и зла, не соотносился с представлениями о человеколюбии, достоинстве и морали. З. Фрейд добавил цинизма в общую ситуацию, направив острие рациональности в область бессознательного и обнаружив, что за всеми человеческими поступками стоит сексуальное влечение. К традиционным ценностям гуманизма добавилась свобода сексуального самовыражения.
Иная антропологическая традиция прослеживается в русской философии. Ее фундаментальная идея состоит в определении человека как носителя Абсолюта. Любовь, совесть, сострадание и другие добродетели, с одной стороны, трансцен-дентны по своему происхождению, с другой стороны, в своем проявлении имманентны человеку. Полнота и совершенство личности достигаются через Бога в Богочеловечестве. Истинный гуманизм невозможен через разделение людей, через однобокое развитие личностного начала, а именно эта традиция, заложенная в эпоху Возрождения, получила наибольшее развитие в Европе. Исправление человеческого общества и освящение каждой отдельной личности в единстве со всеми другими личностями и Богом — вот главная тема антропологической составляющей русской философии, нашедшая наиболее полное отражение в работах Павла Флоренского.
Глубинные проявления человеческой души, ее противоречивые устремления составили смысл творчества Ф.М. Достоевского. Именно он подвел убедительную черту под все попытки атеистического и нормативно-правового объяснения сущности человека: «Бога нет — все позволено!». Без Бога нет человека! Не случайно, русская школа права уделяла серьезное внимание религиозно-этической составляющей юридических норм и дефиниций.
Таким образом, гуманистические традиции всегда имели несколько точек опоры в различных сферах жизнедеятельности человека: духовной, экономической, интеллектуальной. Игнорирование или пренебрежение какой-либо из перечисленных составляющих неизбежно приводило к преувеличенно восторженному преклонению перед человеком, его возможностями, что негативно отразилось на развитии цивилизации в целом. Возгордившийся ум переставал видеть объектив-
ные законы универсума, направлял деятельность на разрушение окружающей среды, выделял человека из природных систем и инициировал разрушение собственно человечности. Обуздать гордыню ума может только соотнесенность с совершенной, бесконечной Божественной Мудростью. Современный гуманизм должен найти золотую середину между развитием личностного начала, его финансово-экономическим оформлением под воздействием просвещенного разума и смиренным преклонением пред Всевышним.
Литература
1. Тарнас, Р. История западного мышления / Р. Тарнас. — М., 1995.
2. Социологические исследования частушек о семье // Вестник МГУ. Сер. 7. — № 2. — 2003.
3. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. — СПб., 1994.
4. Наурзбаева, А. Б. Критика гуманизма как деконструкция западной метафизики / А.Б. Наурзбаева // Вестник МГУ. Сер. 7. — 2003. — № 1. — С. 3-13.
5. Горфункель, А.Х. Философия эпохи Возрождения / А.Х. Горфункель. — М., 1980.
6. Тарасов, Б. Паскаль / Б. Тарасов. — М., 1979.
7. Кляус, Е.М. Блез Паскаль / Е.М. Кляус // У истоков классической науки. — М., 1968.
8. Кант, И. Критика практического разума.
9. Лосский, Н.О. История русской философии / Н.О. Лосский. — М., 1991.
10. Казанцева, И.А. Русская школа права / И.А. Казанцева // Вопросы философии. — 2003. — № 4.





 CC BY
CC BY 40
40