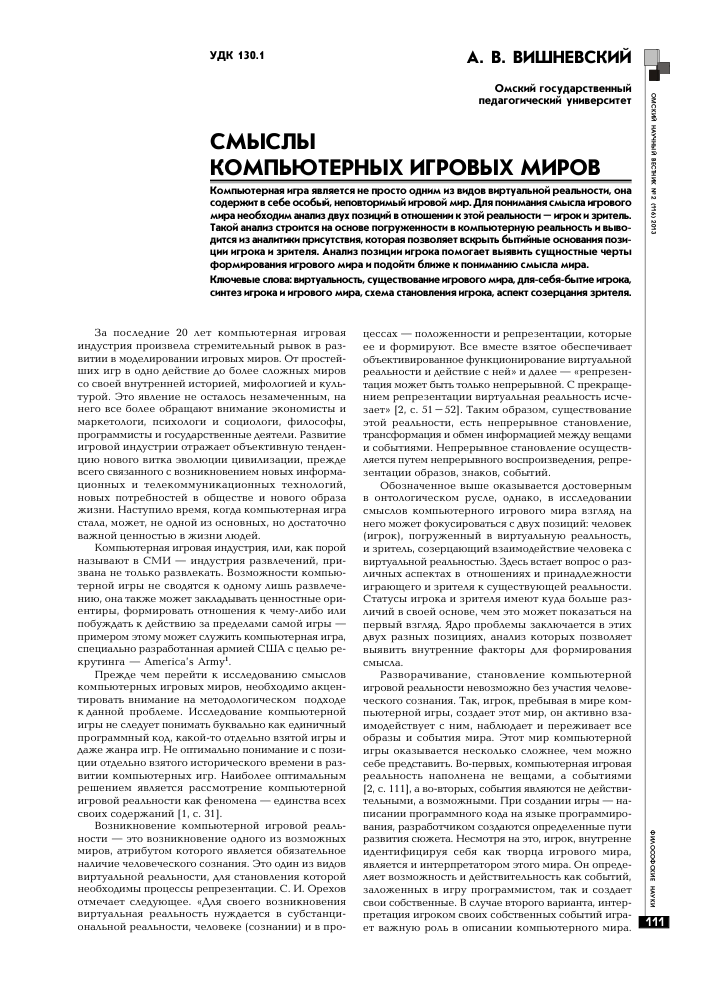УДК 1301 А. В. ВИШНЕВСКИИ
Омский государственный педагогический университет
СМЫСЛЫ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРОВЫХ МИРОВ
Компьютерная игра является не просто одним из видов виртуальной реальности, она содержит в себе особый, неповторимый игровой мир. Для понимания смысла игрового мира необходим анализ двух позиций в отношении к этой реальности — игрок и зритель. Такой анализ строится на основе погруженности в компьютерную реальность и выводится из аналитики присутствия, которая позволяет вскрыть бытийные основания позиции игрока и зрителя. Анализ позиции игрока помогает выявить сущностные черты формирования игрового мира и подойти ближе к пониманию смысла мира.
Ключевые слова: виртуальность, существование игрового мира, для-себя-бытие игрока, синтез игрока и игрового мира, схема становления игрока, аспект созерцания зрителя.
За последние 20 лет компьютерная игровая индустрия произвела стремительный рывок в развитии в моделировании игровых миров. От простейших игр в одно действие до более сложных миров со своей внутренней историей, мифологией и культурой. Это явление не осталось незамеченным, на него все более обращают внимание экономисты и маркетологи, психологи и социологи, философы, программисты и государственные деятели. Развитие игровой индустрии отражает объективную тенденцию нового витка эволюции цивилизации, прежде всего связанного с возникновением новых информационных и телекоммуникационных технологий, новых потребностей в обществе и нового образа жизни. Наступило время, когда компьютерная игра стала, может, не одной из основных, но достаточно важной ценностью в жизни людей.
Компьютерная игровая индустрия, или, как порой называют в СМИ — индустрия развлечений, призвана не только развлекать. Возможности компьютерной игры не сводятся к одному лишь развлечению, она также может закладывать ценностные ориентиры, формировать отношения к чему-либо или побуждать к действию за пределами самой игры — примером этому может служить компьютерная игра, специально разработанная армией США с целью рекрутинга — America's Army1.
Прежде чем перейти к исследованию смыслов компьютерных игровых миров, необходимо акцентировать внимание на методологическом подходе к данной проблеме. Исследование компьютерной игры не следует понимать буквально как единичный программный код, какой-то отдельно взятой игры и даже жанра игр. Не оптимально понимание и с позиции отдельно взятого исторического времени в развитии компьютерных игр. Наиболее оптимальным решением является рассмотрение компьютерной игровой реальности как феномена — единства всех своих содержаний [1, с. 31].
Возникновение компьютерной игровой реальности — это возникновение одного из возможных миров, атрибутом которого является обязательное наличие человеческого сознания. Это один из видов виртуальной реальности, для становления которой необходимы процессы репрезентации. С. И. Орехов отмечает следующее. «Для своего возникновения виртуальная реальность нуждается в субстанциональной реальности, человеке (сознании) и в про-
цессах — положенности и репрезентации, которые ее и формируют. Все вместе взятое обеспечивает объективированное функционирование виртуальной реальности и действие с ней» и далее — «репрезентация может быть только непрерывной. С прекращением репрезентации виртуальная реальность исчезает» [2, с. 51 —52]. Таким образом, существование этой реальности, есть непрерывное становление, трансформация и обмен информацией между вещами и событиями. Непрерывное становление осуществляется путем непрерывного воспроизведения, репрезентации образов, знаков, событий.
Обозначенное выше оказывается достоверным в онтологическом русле, однако, в исследовании смыслов компьютерного игрового мира взгляд на него может фокусироваться с двух позиций: человек (игрок), погруженный в виртуальную реальность, и зритель, созерцающий взаимодействие человека с виртуальной реальностью. Здесь встает вопрос о различных аспектах в отношениях и принадлежности играющего и зрителя к существующей реальности. Статусы игрока и зрителя имеют куда больше различий в своей основе, чем это может показаться на первый взгляд. Ядро проблемы заключается в этих двух разных позициях, анализ которых позволяет выявить внутренние факторы для формирования смысла.
Разворачивание, становление компьютерной игровой реальности невозможно без участия человеческого сознания. Так, игрок, пребывая в мире компьютерной игры, создает этот мир, он активно взаимодействует с ним, наблюдает и переживает все образы и события мира. Этот мир компьютерной игры оказывается несколько сложнее, чем можно себе представить. Во-первых, компьютерная игровая реальность наполнена не вещами, а событиями [2, с. 111], а во-вторых, события являются не действительными, а возможными. При создании игры — написании программного кода на языке программирования, разработчиком создаются определенные пути развития сюжета. Несмотря на это, игрок, внутренне идентифицируя себя как творца игрового мира, является и интерпретатором этого мира. Он определяет возможность и действительность как событий, заложенных в игру программистом, так и создает свои собственные. В случае второго варианта, интерпретация игроком своих собственных событий играет важную роль в описании компьютерного мира.
ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 2 (116) 2013 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 2 (116) 2013
Он строит свой собственный мир, изначально понятный лишь ему.
Таким образом, с необходимостью встает вопрос в аналитике погруженности в компьютерную игровую реальность, для более глубокого осмысления статусов игрока и зрителя. Погруженность в компьютерную игру характеризует степень активности в этой реальности. Зритель же здесь не выступает как субъект отстраненный от игры, он, как и игрок, взаимодействует с виртуальной реальностью, но в отличном смысле от игрока. В этом смысле ключом к пониманию статусов игрока и зрителя можно выделить такое понятие философии М. Хайдеггера, как «присутствие».
Первое, на что следует обратить внимание, — состояние отношений бытийных модусов игрока и зрителя к существующей реальности. Система игрок —компьютерная игра выражает такое обстоятельство, при котором возможно благоприятное существование реальности. В этом отношении возникает особого рода бытийная структура — для-себя-бытие со стороны игрока и в-себе-бытие со стороны компьютерной игры. Для-себя-бытие здесь выражается как нечто становящееся и изменяющееся, оно определяет свою собственную границу и границу существования компьютерного мира. Условно, это нечто можно обозначить как персонифицированный персонаж игры, управление которым — задача игрока.
Следуя гегелевской триаде, для-себя-бытие движется по трем стадиям:
— для-себя-бытие как таковое в его бесконечной определенности;
— антитезис для-себя-бытия — отношение к себе через бытие-для-иного. Выявление для-одного-бытие и его соотношение с для-себя-бытие;
— «одно» в самом себе — неопределенность которого, есть абсолютная определенность, соотношение с самим собой. Положенное внутри-себя-бытие, имеющее некоторое направление вовне, от себя к иному и далее, направление, непосредственно обращенное назад, — возвращение к самому себе.
В компьютерном игровом мире, для-себя-бытие выражающееся как нечто становящееся и изменяющееся (что и будет являться персонифицированным персонажем), на первом этапе, раскрывает для человека общий и базовый концепт границ нечто и мира в целом. Такой концепт определяется исключительно качественной характеристикой, призванной дать понимание бесконечного минимума и бесконечного максимума развития игрового мира. Здесь не существует какой-либо неопределенности, напротив, игроку предлагается максимальная определенность или пред-определенность качественной характеристикой. Изначально, игровой мир лежит в плоскости качества и имеет лишь в своей потенции идею развития. С погружением игрока в мир игры, с началом развития игрового мира, игрок вносит плоскость количества и через количественную характеристику определяет минимум и максимум развития мира.
На втором этапе возникает конфликт между для-себя-бытием выраженным как нечто и самим игровым миром. Мир, изначально выраженный в качественной плоскости, вступает в конфликт с количественной плоскостью вносимой игроком. В этом смысле, играя, мы всегда вступаем в борьбу с компьютерным игровым миром. Однако такой конфликт суть свидетельства развития мира.
Игровой мир, выступая как множественность возможного, содержит свою множественность в ка-
чественной плоскости — множественность игрового мира не есть свидетельство количественной плоскости, а лишь пред-определенность одного из возможного. Возможность, разворачивающаяся в действительность, определяется количественной характеристикой нечто, как минимум и максимум развития единично возможного и мира в целом.
На границе возникновения конфликта количественного и качественного, для нечто возникает стремление на переосмысление себя самого. Словами Гегеля: «Для-себя-бытие есть полемическое, отрицательное отношение к ограничивающему иному и через это отрицание иного — рефлектированность в себя...» [3, с. 224 — 225]. В результате переосмысления нечто самим собой, необходимым образом подготавливается основание для становления синтеза для-себя-бытия выраженного как нечто и игрового мира. Синтез подобного рода есть со стороны для-себя-бытия количественное разворачивание нечто в качественном компьютерного игрового мира. Согласно Гегелю, из становления тезиса и антитезиса, возникает момент бытия «одно» — «"Одно" вообще есть в самом себе; это его бытие не наличное бытие, не определенность как соотношение с иным, не свойство; оно состоявшееся отрицание этого круга категорий. “ Одно", следовательно, не способно становиться иным; оно неизменно» [3, с. 232].
Однако в случае с компьютерным игровым миром неизменность синтеза, «одного», должным образом необходимо понимать как развитие. Развитие не как направленное внутрь нечто, но как развитие, направленное на игровой мир. Суть развития здесь есть количественное разворачивание нечто в качественном игрового мира.
Таким образом, нечто выражающееся в персонифицированном персонаже, проходит три стадии на пути становления синтеза:
— определенность границ нечто, через определенность качественной характеристикой игрового мира;
— конфликт между качественной и количественной плоскостями;
— переосмысление нечто самим собой и трансформация в момент развития, направленного на игровой мир.
Ставленое в синтезе нечто, далее вступает в отношения следующего рода с игровым миром — мир, выраженный бытийной структурой в-себе-бытие выворачивает на изнанку нечто, его направленность становится не только во вне, но и внутрь себя.
Бытийная структура в-себе-бытие определяет игровой мир как действительность, находящуюся в своей возможности, мир еще не завершен. Мир здесь представлен как множественность возможного, актуальность которого не есть простое стечение обстоятельств, оно определяется игроком. Всякое действие игрока внутри игрового мира есть осознанный акт в рамках целого мира.
Игровой мир, представленный абстрактно, безотносительно к действиям игрока, он есть то, что он есть. Это качественная определенность мира, которая может привести к минимуму или максимум развития игрового мира. Являясь самодостаточным и нейтральным, он находится в покое и своей бесконечности, но с погружением игрока в мир игры он перетекает в свою конечность. Конечность в-себе-бытия мира для мира, есть его стремление к бесконечному минимуму своего развития, в то время как конечность для нечто — стремление к максимуму развития.
Возникающий конфликт между нечто и игровым миром, выраженный в разном стремлении к развитию мира, для нечто ставит вопрос о переосмыслении самого себя. Нечто возвращается в само себя, для постановки вопроса о своей собственной границе. В процессе становления и развития, Гегель отмечает понятие «долженствования» как движущую силу, направленную на преодоление конечности, прогрессом в бесконечность — «... конечное определилось как соотношение его определения с границей; определение есть в этом соотношении долженствование, а граница — предел. Оба суть, таким образом, моменты конечного; стало быть, оба, и долженствование, и предел, сами конечны. Но лишь предел положен как конечное; долженствование ограничено лишь в себе, стало быть, для нас. Через свое соотношение с границей, ему самому уже имманентной, оно ограничено, но эта его ограниченность скрыта во в-себе-бытии, ибо по своему наличному бытию, т. е. по своей определенности, противостоящей пределу, долженствование положено как в-себе-бытие» [3, 195— 196]. Т. И. Ойзерман, рассматривая проблему долженствования, подчеркивает: «Должное как обусловленную процессом развития реализацию внутренне присущего процессу развития высшего начала, которое становится результатом развития именно потому, что оно изначально (правда, лишь «в себе») наличествовало в этом процессе. С этой точки зрения, то, что должно быть, уже есть, правда, не как завершенное целое, а как его становление» [4]. Таким образом, следует полагать долженствование как внутренне присущее процессу развития игрового мира, где долженствование ставит своей целью преодоление границы конечного в развитии.
Долженствование, присущее игровому миру как само по себе, находится лишь в своей потенции и только погруженность игрока актуализирует долженствование для мира и для самого себя. Со стороны нечто в «долженствовании начинается выхож-дение за конечность, бесконечность» [3, с. 197]. Однако развитие игрового мира, как количественное разворачивание нечто в качественном игрового мира, ограниченно самой природой мира. Как было сказано ранее, с погружением игрока в мир игры, второй становится конечным и здесь полагаемое конечное не может трансформироваться в бесконечное, иначе теряется сам формальный смысл игры. Необходимым образом отсюда следует — направленность долженствования к бесконечности не игрового мира, но самого нечто. Такая направленность к бесконечности, характеризует нечто как стремящееся выйти за свои пределы. «Но если некоторое существование содержит понятие не только как абстрактное в-себе-бытие, но и как для себя сущую тотальность, как влечение, как жизнь, ощущение, представление и т. д., то оно само из самого себя осуществляет [стремление] быть за своим пределом и выходит за свой предел» [3, с. 198].
Если игрок, погружаясь в игровой мир, пребывает в конфликте с миром, то у зрителя возникают несколько иные отношения с компьютерной игрой. Системой зритель-компьютерная игра порождается бытийная структура для-другого-бытие, имеющая свою способность к критической оценке самой компьютерной игры. Здесь нам следует вновь вернуться к понятию «присутствия» — «"Сущность" присутствия лежит в его экзистенции. Выделимые в этом сущем черты поэтому суть не наличные “ свойства" некоего так-то и так-то “выглядящего" наличного сущего, но всякий раз возможные для него способы
быть и только это ... Отсюда титул “присутствие", каким мы обозначаем это сущее, выражает не его что, как стол, дом, дуб, но бытие» [1, с. 42]. Однако, если игрок погружаясь в мир игры сталкивается с возможным, то перед зрителем мир всегда представлен как действительное — он не обладает способностью к развитию мира.
Если аналитика погруженности игрока в мир игры может быть описана через «присутствие», собственно как «присутствие, определяется как сущее всякий раз из возможности, какая она есть и как то понимает в своем бытии» [1, с. 43], то аналитика статуса зрителя приобретает статус несобст-венности присутствия. Статус игрока определяется через всегда-мое, но статус зрителя как присутствие другого, которое может «обусловить полнейшую конкретность присутствия в его деловитости, активности, заинтересованности, жизнерадостности» [1, с. 43]. В этом смысле зритель, обусловленный присутствием игрока, имеет лишь своей способностью к созерцанию компьютерной игры.
Рассматривая компьютерную игру не как набор двоичного, программного кода, но как мир, способный к развитию, особое расположение в этом мире и для этого мира занимает статус игрока. Зритель, будучи вне мира, способен к созерцанию, к критической оценке мира, но в рамках развивающегося мира стоит на втором плане перед игроком в смысл порождающих процессах. Игрок, представленный как персонифицированный персонаж или нечто, являясь частью мира, трансформирует, развивает его и стремится к своей бесконечности. Но сам игровой мир, будучи конечным в максимуме своего развития, не способен в полной мере удовлетворить способности нечто стремящегося к бесконечности. Отсюда возникает некоторая неудовлетворенность игровым миром — нечто стремится все дальше и дальше и выходит за свои собственные границы и границы мира.
Однако игровой мир бессмысленно рассматривать как мир без игрока. Игрок есть часть этого мира, он в нем пребывает. Из этого следует, ближайшим образом и большей частью, смысл компьютерного игрового мира можно определить как мир, стремление которого направлено на выход за свои собственные границы, стремление к бесконечному через присутствие игрока в мире игры.
За последние 20 лет в компьютерной игровой индустрии произошло немало изменений. Одним из
знаковых явлений является так называемый моддинг
2 ~ игр2, позволивший игрокам частично или полностью
изменять компьютерную игру. Разработчик или дизайнер игры имеет определенный концепт игрового мира, реализуемого в программном коде, однако он не до конца представляет, как будут использоваться игровые элементы игроком. Как бы он ни старался предугадать все возможные, будущие шаги игрока, будучи вне игрового мира, он не способен понять игрока. Игрок стремится к максимальному раскрытию мира, что порой приводит его к самостоятельной модификации игры. Осознание этого факта дает возможность для конструирования особого рода игр, особого рода миров, задача которых будет заключаться в дальнейшем конструировании игрового мира или постановке и решении глобальных проблем.
Примечания
1 http://www.americasarmy.com/usarmy/ — America's Army, игра, разрабатываемая армией США и финансируемая правительством США для привлечения добровольцев. Проект служит
ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 2 (116) 2013 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 2 (116) 2013
популяризации службы в армии, для чего привлекаются военные специалисты, призванные максимально раскрыть жизнь в армии через игру и сблизить ее возможности с реальным миром.
2 Mod (modification), Мод — сокр. от «модификация».
Библиографический список
1. Хайдеггер, М. Бытие и время / М. Хайдеггер ; пер. с нем. В. В. Бибихина. — М. : Академический проект, 2011. —
460 с.
2. Орехов, С. И. Поиск виртуальной реальности : моногр. / С. И. Орехов. — Омск : Изд-во ОмГПУ, 2002. — 184 с.
3. Гегель, Г. В. Ф. Наука логики / Г. В. Ф. Гегель. В 3 т.
Т. 1. - М. : Мысль, 1971. - 501 с.
4. Ойзерман, Т. И. Проблема долженствования в философии Гегеля / Т. П. Ойзерман // Вопросы философии. — 1995. —
№ 5. — С. 98 — 107.
ВИШНЕВСКИЙ Артём Викторович, аспирант кафедры философии.
Адрес для переписки: artvishn@qmail.com
Статья поступила в редакцию 17.09.2012 г.
© А. В. Вишневский
уДК 165731 Н. В. СЕМИБРАТОВА
Омский государственный педагогический университет
ПРОБЛЕМА
ПРЕДПОСЫЛОЧНОГО ЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ ПОСТПОЗИТИВИЗМА
Данная статья раскрывает проблемы возникновения нового знания с точки зрения постпозитивизма. Философский анализ произведений К. Поппера, И. Лакатоса и Т. Куна показывает место и роль науки в формировании относительно нового понятия «пред-посылочное знание». Кроме того, данное исследование позволило выявить недостатки научного подхода в понимании предпосылочного знания, что дает возможность говорить о новом направлении в понимании такого вида знания, а именно о социокультурном подходе.
Ключевые слова: предпосылочное знание, исходное знание, парадигма, нормальная наука, научно-исследовательская программа, зрелая наука.
Научный подход в понимании предпосылочного знания предполагает, что основой любого знания являются научные исследования, научное познание, научные теории. Только благодаря научным открытиям, развитию научного знания, может возникать все остальное знание, а опыт повседневной жизни, чувственный опыт исключается как неверный, непродуктивный. Среди критериев научности выделяют рациональность, обоснованность, проверяемость, системность и другие. С точки зрения науки, знание должно быть основано именно на таких критериях, а не на откровении или предчувствии. Научное познание считает основой всякого знания эмпирический опыт. Проводя исследования, эксперименты, мы готовим почву для возникновения теории, но такие эксперименты, чтобы их можно было с легкостью повторить не один раз. Так и предпосы-лочное знание, как особый вид знания, определяется здесь, как то, что, являясь основой теории, гипотезы, необходимо проверяемо эмпирическим опытом и, может быть, повторяемо и другими учеными. Научный подход очень важен для понимания сути пред-посылочного знания потому, что, как было нами уже отмечено, разработкой предпосылочного знания в настоящее время занимается научное познание.
К. Поппер наиболее известен для философской науки своей идеей фальсификации, которая, с одной стороны, воспринималась как очень необычная и смелая, а с другой — привлекла на себя много критики. Поппер, как разрушитель неопозитивизма, пытался найти новый способ решения проблемы демаркации,
которую он объясняет как «проблему нахождения критерия, который дал бы нам в руки средства для выявления различия между эмпирическими науками, с одной стороны, и математикой, логикой и «метафизическими» системами — с другой» [1, с. 55]. Как он полагал, таким критерием, на смену принципа верификации, выдвинутого неопозитивистами, станет принцип фальсификации, то есть способности теории к опровержимости. Если теория не может быть опровержима, то она будет считаться метафизической, а значит, теорией не научной. Ученый, выдвигающий какую-либо гипотезу или теорию, должен найти все варианты, которые противоречили бы его теории, которые смогли бы опровергнуть ее или помыслить как ложную. Если такие варианты найдены и ученый принимает их, то теория фальсифицирована и может претендовать на статус научной теории. Принцип фальсификации, постоянной опровер-жимости, в отличие от принципа верификации, постоянной проверяемости, примечателен тем, что, когда проверяешь одну и ту же теорию, то вероятность найти ошибку гораздо меньше, чем когда пытаешься опровергнуть теорию, потому как, в случае фальсификации, ошибки выступают способом проверки. Ученый как бы заранее готовится к тому, как и под каким углом его теорию могут обсудить, и уже знает все возможные ответы. Несомненно, К. Поппер внес большой вклад в развитие философии науки, но принципом фальсификации пользуются довольно редко. Кроме того, этого принципа недостаточно для решения проблемы демаркации,





 CC BY
CC BY 110
110