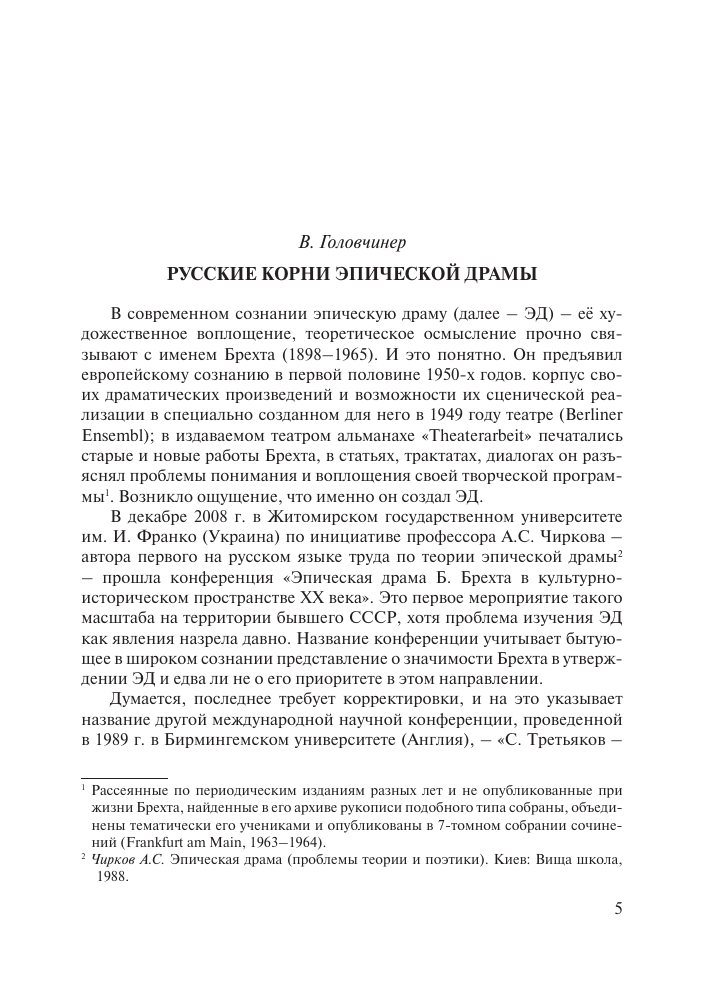В. Головчинер РУССКИЕ КОРНИ ЭПИЧЕСКОЙ ДРАМЫ
В современном сознании эпическую драму (далее — ЭД) — её художественное воплощение, теоретическое осмысление прочно связывают с именем Брехта (1898—1965). И это понятно. Он предъявил европейскому сознанию в первой половине 1950-х годов. корпус своих драматических произведений и возможности их сценической реализации в специально созданном для него в 1949 году театре (Berliner Ensembl); в издаваемом театром альманахе «ТЬеа1егагЬей» печатались старые и новые работы Брехта, в статьях, трактатах, диалогах он разъяснял проблемы понимания и воплощения своей творческой програм-мы1. Возникло ощущение, что именно он создал ЭД.
В декабре 2008 г. в Житомирском государственном университете им. И. Франко (Украина) по инициативе профессора А.С. Чиркова — автора первого на русском языке труда по теории эпической драмы2 — прошла конференция «Эпическая драма Б. Брехта в культурно-историческом пространстве ХХ века». Это первое мероприятие такого масштаба на территории бывшего СССР, хотя проблема изучения ЭД как явления назрела давно. Название конференции учитывает бытующее в широком сознании представление о значимости Брехта в утверждении ЭД и едва ли не о его приоритете в этом направлении.
Думается, последнее требует корректировки, и на это указывает название другой международной научной конференции, проведенной в 1989 г. в Бирмингемском университете (Англия), — «С. Третьяков —
1 Рассеянные по периодическим изданиям разных лет и не опубликованные при жизни Брехта, найденные в его архиве рукописи подобного типа собраны, объединены тематически его учениками и опубликованы в 7-томном собрании сочинений (Frankfurt am Main, 1963-1964).
2 Чирков А.С. Эпическая драма (проблемы теории и поэтики). Киев: Вища школа,
1988.
учитель Брехта»1. Об этой конференции, как и о роли С.М. Третьякова и опыте русской культуры 1920-х годов в творческом самоопределении Брехта, мало кто знает, а Брехт и его деятельность по утверждению ЭД известны. Не все в этой деятельности равноценно, и самым слабым звеном, видимо, можно считать теоретическую рефлексию, связанную с ЭД. В статьях эмигрантской периодики разных лет и стран, в сохранившихся в архиве набросках, фрагментах, собранных и опубликованных после смерти Брехта его учениками и сподвижниками, много несогласованного (он и на определении не мог остановиться, называя свои пьесы в разное время по-разному). К тому же, размышляя об особенностях утверждаемых им драмы и театра, Брехт как художник авангарда широко использовал политическую, коммунистическую фразеологию, чем много вредил себе в сознании своих современников и особенно последующих поколений2.
Это не отменяет ни явления, ни проблем его изучения. Важно выяснить исторические и географические границы ЭД. Немецкий предшественник Б. Брехта в создании новаторских форм театрального эпоса Э. Пискатор, размышляя о поисках в направлении ЭД, обнаруживал
1 Название конференции, заостряющее значение Третьякова, определялось, думается, признанием самого Брехта в стихотворении «Непогрешим ли народ?», написанном после получения вести об аресте Третьякова в 1939 г. Оно в переводе Б. Слуцкого начиналось так: «Мой учитель, / огромный, приветливый, / расстрелян по приговору суда народа. / Как шпион. Его имя проклято. / Его книги уничтожены. Разговоры о нём / считаются подозрительными. Их обрывают. / А что если он не виновен?..» [Брехт Б. Театр: В 5 т. М.: Искусство, 1965. Т. 5/1. С. 481]. О Третьякове см.: Головчинер В.Е. «Рычи, Китай!» С. Третьякова как публицистическая разновидность эпической драмы // Головчинер В.Е. Эпическая драма в русской литературе ХХ века. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. С. 56—75.
2 После смерти Брехта началось замалчивание его опыта и значения на его родине. Иллюстрацией этой тенденции может служить монография К. Кендлера «Драма и классовая борьба» (отмечена Национальной премией ГДР 1973 г.), в тексте которой (как и в предисловии С. Рожновского), брехтовская драма упорно называется чаще социалистической, реже неаристотелевской [Кендлер К. Драма и классовая борьба. М.: Прогресс, 1974. С. 12, 278, 285, 286, 287, 296, 299, 305), и лишь один раз упомянуты «методы эпического театра» (С. 298)]. Аналогичная тенденция долго наблюдалась и в советском литературоведении. В. Фролов в книге «Судьбы жанров в драматургии» (М.: Сов. писатель, 1979) создал разветвленную классификацию жанров драматического рода (4 «беспримесных жанра» и 50 «взаимодействий в пределах драматического рода»), но, упоминая драматургические принципы Б. Брехта, он избегает понятия ЭД.
их в драматургических опытах от «греков» до «советских товарищей», обозначив тем самым не только разные национальные, но и широкие временные ориентиры. В книге «Политический театр» (в Берлине на немецком языке вышла в 1929 году) он писал, акцентируя внимание на опыте современной ему русской драмы: «Я не хотел вступать в спор об эпической драме... Хотя в данном случае не могло идти речи о приоритете, потому что со времен греков, Шекспира и Гете пишутся эпические драмы. Пишутся они и сейчас (все документальные драмы эпичны), например "Рычи, Китай!" Третьякова, "Первая конная" Вишневского и т.д.»1. Пискатор абсолютно прав в понимании широкой перспективы ЭД и важности опыта русской драмы для её развития, опыта не только 1920-х годов. Представленный далее материал имеет отношение к обсуждаемой проблеме, предвосхищая более чем на столетие в русской культуре размышления Пискатора и Брехта; более близки им по времени, но все-таки существенно опережают их художественные поиски русских драматургов первой трети ХХ века.
Первый этап осмысления обсуждаемого явления связан, думается, с именем А.С. Пушкина, с его пьесой «Борис Годунов» как первым опытом ЭД Нового времени и теоретической рефлексией в связи с ней. Здесь же должна идти речь о Н.В. Гоголе — авторе «Ревизора», стремившемся утвердить в современном ему сознании общественную комедию в диалогах «Театрального разъезда», и, конечно, о Белинском с его статьей «Разделение поэзии на роды и виды» (1841). Именно в ней впервые, насколько мне удалось обнаружить, дается определение ЭД и теоретическое его обоснование. Второй этап освоения материала в технике ЭД, на мой взгляд, связан с пьесой М. Горького «На дне» и статьей И. Анненского, ей посвященной. Третий этап мощно проявился в драме и театре первого десятилетия революции — в массовых представлениях под открытым небом (аналоге средневековых мистерий), в «Мистерии-буфф» (1918), «Клопе» (1929) и «Бане» (1930)
B. Маяковского и В. Мейерхольда, в сотрудничестве последнего с
C. Третьяковым («Земля дыбом», 1923; «Рычи, Китай!», 1925), в диспутах 1920 году о путях развития современной драмы и театра в Театре РСФСР Первом (стенограммы печатались в журнале «Вестник театра»), в работе С. Третьякова и С. Эйзенштейна над «Мудрецом», в их
1 Пискатор Э. Политический театр. М.: ГИХЛ, 1934. С. 65.
рефлексии по поводу неё в их статьях о монтаже 1923—1924 годов, в дополняющихся в 1918—1923 годах изданиях книги П. Керженцева «Творческий театр» и т.д., в опыте драмы конца 1920-х годов, упомянутом Пискатором1. Характеристика условно выделяемых третьего (1920-1930-е годов) и четвёртого (1970-1990-ех годов) периодов развития ЭД на русской почве требует специального времени и места.
Рефлексия Пушкина о путях развития драмы и театра активизировалась в связи с осмыслением собственного драматургического опыта и судьбы «Бориса Годунова». Об этом свидетельствуют фрагменты черновых набросков предисловия к «Борису Годунову» 1825, 1829, 1830 годов, письмо к издателю «Московского вестника» 1828 г., наконец, статья «О народной драме и драме "Марфа Посадница"» 1830 года. В последней, итоговой, поэт отчеканил всеми цитируемую и очень важную в контексте интересующих нас размышлений исходную формулу: «Драма родилась на площади и составляла увеселение народное»2.
Тема Пушкина-драматурга интересна, прежде всего, отмеченной в исходном тезисе о древности, народной драмы и убеждением в необходимости следовать ей. Статье, известной под названием «О народной драме и драме "Марфа Посадница"» предшествуют наброски размышлений «О народности в литературе», где поэт противопоставляет Шекспира, Лопе де Вега, Кальдерона, у которых он находит «достоинства великой народности», драматургам, у которых это качество отсутствует. «Что есть народного в Ксении, рассуждающей шестистопными ямбами о власти родительской с наперсницей посреди стана Димитрия?» — иронически вопрошает он [Т. 7. С. 28].
1 См. об этом: Головчинер В.Е. К истории вопроса об эпическом в драме // Художественное творчество и литературный процесс. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. С. 40—52.
2 Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 7. С. 147 (Далее при цитировании этого издания в скобках указаны том и страницы). Брехт в разные годы в разных фрагментах писал о народности, о Шекспире, об учебе у клоуна Валентина, у уличного певца — исполнителя своих баллад Ведекинда; кабаретные — малые, гибкие формы сценок, рассчитанные на непосредственный контакт с аудиторией, ему были интереснее, чем формы большой драмы в театре-коробке, уже самой архитектурой отделяющем актера от зрителя. Есть все основания думать, что, противопоставляя свои поиски в области драмы и театра направлению, обозначенному в искусстве Аристотелем, Брехт тем самым видел свои истоки и истоки ЭД в народном творчестве и творчестве ориентированных на него авторов.
В «Письме к издателю.» Пушкин четко обозначает, от чего нужно отказаться. «Твердо уверенный, что устарелые формы нашего театра требуют преобразования» (здесь и далее в цитатах курсив мой. — В.Г.), он сам «отказывается добровольно от выгод, ему предоставляемых системою искусства» [Т. 7. С. 51, 52], имея в виду систему, сложившуюся в искусстве классицизма. В том же духе как явления разных систем противопоставляет он драму, которая «родилась на площади и составляла увеселение народное», «нашей драме», «перенесенной в чертоги, утвержденной привычками избранного общества», — «драме придворной» [Т. 7. С. 148] в статье «О народной драме.». В подобном противопоставлении он последователен на протяжении всей второй половины 1820-х годов. Об этом свидетельствуют его предпочтения, указания на истинные авторитеты в одних случаях и ирония в других, прямые и косвенные оценки разных типов драмы.
В текстах Пушкина следует отметить принципиально важное для нас слово система. Оно возникает в письме к издателю «Московского вестника» 1828 г.: «...я расположил трагедию свою по системе отца нашего Шекспира» [Т. 7. С. 51]. Оно появляется в набросках предисловия: «успех или неудача моей трагедии будет иметь влияние на преобразование драматической нашей системы» [Т. 7. С. 433]. В других черновиках предисловия поэт использует в аналогичных ситуациях другие слова с близкой и столь же обобщающей семантикой: «Признаюсь искренно, неуспех драмы моей огорчил бы меня, ибо я твердо уверен, что нашему театру приличны народные законы драмы Шекспира, а не придворный обычай трагедий Расина, и что всякий неудачный опыт может замедлить преобразование нашей сцены» [Т. 7. С. 115].
Можно полагать, что в представлении Пушкина «народные законы драмы Шекспира» и «придворный обычай трагедий Расина» определяют разные театральные и драматургические «системы», как позже аристотелевская и неаристотелевская (эпическая) драма у Брехта. Шекспировский театр и понимание важности народных форм драмы, из которых он вырос, можно считать объединяющим, общим геном драмы Пушкина и Брехта.
Размышления о пьесе «Марфа Посадница» во второй части статьи «О народной драме.» Пушкин начинает с главного в драме — с предмета изображения и героя, с того, что определяет развитие и характер действия в драме. «Автор "Марфы Посадницы", — пишет Пушкин, —
имел целию развитие важного исторического происшествия: падения Новагорода, решившего вопрос о единодержавии России» [Т. 7. С. 150]. Подобная цель и предмет изображения — «развитие важного исторического происшествия», художественное исследование поведения людей разных сословий в ситуации перемены власти — определяют природу действия у самого Пушкина, который пишет пьесу не о частной, личной трагедии Бориса Годунова, а о «настоящей беде Московскому государству» [Т. 10. С. 120].
Следующее далее объяснение того, что составляет особенность действия в пьесе «Марфа Посадница», — момент, который вызвал наибольшее недоумение современников Пушкина, читавших его пьесу. Это объяснение касается природы героя новой народной драмы. В представлении о Новгороде как о собирательном действующем лице драмы — вот в чем Пушкин далеко обогнал свое время. «Дело» драматического поэта, считает он, — «воскресить минувший век во всей его истине», представить «людей минувших дней, их умы, их предрассудки...» [Т. 7. С. 151]. И поэт пишет о Новгороде как о герое драмы: «Новгород узнает», «Новгород отвечает в лице своих послов».
Многое из того, что проницательно увидел и сформулировал Пушкин как теоретик драмы и критик пьесы другого автора, было уже воплощено им самим в «Борисе Годунове». Можно говорить, что Московское государство в пушкинской пьесе было местом действия и, что более важно, ее героем1. Современники и друзья Пушкина, воспитанные в понятиях и правилах утвержденной Аристотелем «поэтики», не могли постичь, что героем драмы может быть не какая-либо индивидуальная личность в своих страстях, карьерных исканиях, переменах (перипетиях) судьбы, а Московское государство в разнообразии и слож-
1 Позднее в пьесе М. Горького «На дне» ночлежка также предстанет не только местом, где происходит действие, но и главным ее собирательным героем. То же обнаружим у Е. Шварца в 1930—1940-е гг. и у Г. Горина в 1970—1980-е гг.: соседнее королевство в «Голом короле», маленький южный город в «Тени», покоренный город в «Драконе», город Эфес в «Забыть Герострата!..» в разнообразии населяющих их лиц представляют облик собирательного героя как драматически действующего лица. Крайний по экстравагантности случай предлагает в «Мистерии-буфф» Маяковский: всеохватности ее места действия (сначала «шар земной», потом «вся вселенная») соответствуют герои — семь пар чистых, семь пар нечистых разных национальностей, человек просто, святые. Об этом: Головчинер В.Е. Эпическая драма в русской литературе ХХ века. С. 153—175.
ности составляющих его сословий и лиц. Частные коллизии входили как части, как детали в свободную, фрагментарную композицию из самых разных по своему эмоциональному наполнению сцен. Лишенная жесткой причинно-следственной заданности — «свободная» (нелинейная) логика развертывания действия у Пушкина соотносила эпизоды исторической значимости, массовые сцены на площади у Кремлевских палат и приватные разговоры, бытовые, комедийно-фарсовые фрагменты, связывала в сложно организованном целом личные и общую трагедии, показывая таким образом, как складывается из поступков, поведения разных людей общий ход государственной жизни.
Пушкин писал пьесу, подчиняясь не современным литературным, жанровым теориям, а законам народной драмы и выросшего из них Шекспира. По сути он создал один из первых и замечательнейших образцов ЭД, и в этом намного опередив искания своего времени.
Сегодня можно полагать, что отвергаемые Пушкиным в пылу полемики обычаи, правила нелепых пиитик, стесняющие, жестко регламентирующие художника, характеризуют дифференцирующую, иерархическую модель (систему) драматического искусства как явления достаточно позднего. Такие произведения создавались по законам перспективы, открытой эпохой Возрождения (заметим, что именно тогда начала формироваться система придворного театра в помещении, определившая перспективу развития театрального искусства европейского типа в дальнейшем). Этот театр (и, соответственно, его драматургия) имел крупно поданный, концентрирующий центр — линию судьбы центрального героя/героини в качестве основы действия в драме и редуцирующийся фон из второстепенных лиц. Традиции этой модели изучались, передавались из поколения в поколение в системе ученого, академического искусства.
Другая, более привлекавшая Пушкина система — её можно назвать синтезирующей — восходит к синкретизму народного творчества, к эпическому мышлению древних с их представлением о принципиальном равенстве всех явлений окружающего мира. В произведениях, генетически «помнящих» (понятие М. Бахтина) о законах этой системы, художественное целое организуется более свободно. Разделение на центр и периферию изображения не является конструирующим принципом. Торжествует кумулятивный принцип устного народного творчества, который позволяет создавать целое из относительно самостоятельных
эпизодов, фрагментов — из «монтажа аттракционов», как определили свою работу над «Мудрецом» по А.Н. Островскому С.М. Третьяков и С.М. Эйзенштейн в 1923 году.1 Такое целое свободно сочетает эпизоды разного эстетического наполнения: комического в широчайшем его диапазоне, трагического, собственно драматического.
Сам Пушкин мучился в поисках жанрового обозначения «Бориса Годунова»: называл в письмах друзьям трагедией, комедией... А Белинский впервые дал определение не только его пьесе, но типу драмы, будущее которого проявилось в полной мере в ХХ веке, — эпическая драма. Мысль об эпической природе пьесы Пушкина высказана Белинским
1 Третьякову в утверждении монтажа как формы драмы ХХ века принадлежит особое место, как С. Эйзенштейну в истории и теории киноискусства.
Слово монтаж и его производные в качестве специфического термина активно использовались в связи с переработкой Третьяковым пьесы М. Мартине «Ночь» для ТИМа. «Ее мрачный колорит, тягучая риторика и слабое построение действия» расхолаживали Мейерхольда и коллектив (Февральский А. В начале 1920-х годов и позже // Встречи с Мейерхольдом. М.: ВТО, 1967. С. 194), работа явно застопорилась, и пьеса была отдана для переработки Третьякову. Он изменил эмоциональный тон, что сказалось уже в новом названии — «Земля дыбом», разбил действие на 8 ударных эпизодов, сообщил тексту, четкость, остроту. Спектакль, содействовал упрочению позиций Мейрхольда, его признанию массовым зрителем, имел огромный успех (его играли и под открытым небом, он собирал многотысячные аудитории: ставился на киевском военном заводе «Арсенал», на Воробьевых горах с участием воинских частей, конницы, автомашин — превращался в массовое действо). В дни премьеры «Земли дыбом», в марте 1923 г., вышла статья Третьякова «Текст и речемонтаж», в которой перестройку пьесы он назвал «монтажом» — писал о «перемонтировке сюжета», «монтаже действия», «эпизодическом построении». Монтаж текста, по предложению Мейрхольда, был поддержан «монтажом речи»: Третьяков специально работал с актерами, добиваясь воздействия на публику четкой, броской звуковой, ритмической подачей текста (Зрелища, 1923, № 27. С. 6—7). Через полтора месяца после премьеры «Земли дыбом» (апрель 1923) в ТИМе состоялась премьера «Мудреца» в Театре Пролеткульта. В афишах значилось: «На всякого мудреца довольно простоты». По комедии Островского композиция Третьякова» (Встречи с Мейерхольдом, с. 179). Режиссер Эйзенштейн (это был первый самостоятельный опыт его театральной режиссуры), выступая как единомышленник Третьякова, отказался от средств психологического театра. Его целью было зрелище нового типа. Он объяснил свою цель и свои средства в первой программной статье «Монтаж аттракционов», из которой выросли другие: «Четвертое измерение в кино» (1929), «Монтаж» (1938), «Вертикальный монтаж» (1940) и, наконец, объёмный труд (около 600 с.), изданный в 2000 г. как монография «Монтаж».
в теоретической статье «Разделение поэзии на роды и виды» (1841). Он пишет о «драмах, отличающихся эпическим характером», об «эпических драмах», приводя в пример двух авторов: Пушкина с «Борисом Годуновым» и Шекспира с некоторыми произведениями.
Эпичность их Белинский связывает, во-первых, с выбором жизненного материала, предметом изображения — «историческим содержанием, основная идея которого берётся из сферы высшей, государственной жизни»1, во-вторых, с многогеройностью, многосоставностью действия, которое делает произведение «немногим доступным», ибо большинство публики привыкло к «развитию действия простого, немногосложного, в одном моменте». «В трагедии Пушкина, — замечает Белинский, — два героя, или, говоря собственно, нет ни одного... Вот почему это великое создание Пушкина немногим доступно»: «понимая цену частностей... не могут схватить идею целого создания, столь колоссального в своем медленном и величаво-эпическом развитии» [С. 496].
Белинский отмечает ещё одно отличительное качество впервые описываемого типа драмы. «К эпическим драмам принадлежат многие драматические произведения, занимающие середину между трагеди-ею и комедиею. Таковы, например, «Буря», «Цимбелин», «Двенадцатая ночь, или Что угодно» Шекспира, в которых героем является сама жизнь. Возьмем, например, «Что угодно»: тут нет героя или героини, тут каждое лицо равно занимает нас собою» (курсив мой. — В.Г.) [С. 496].
В другом месте статьи, размышляя о специфической природе ЭД, Белинский снова связывает с её именем Шекспира, который всегда шел «своею дорогой, а не по правилам нелепых пиитик, написал множество произведений, которые должны занимать середину между комедиею и трагедиею и которые можно называть ЭПИЧЕСКИМИ ДРАМАМИ» (выделено Белинским. — В.Г.) [С. 526—527]. Как бы вторя Шеллингу, размышляющему о стремлении современной драмы «вернуться к эпосу без своего превращения в эпос»2, Белинский пишет, акцентируя внимание на другой стороне процесса: «Несмотря на эпический характер драмы, она должна быть в высшей степени драматическою» [С. 527].
1 Белинский В.Г. Эстетика и литературная критика: В 2 т. М.: ГИХЛ, 1959. Т. 1. С. 495. Далее при цитировании этого издания в скобках указаны страницы.
2 Шеллинг Ф. Философия искусства. М.: Мысль, 1966. С. 426.
У Пушкина как драматурга, так и теоретика драмы был единомышленник в лице Гоголя. Если Пушкин шел к осмыслению законов новой для его современников драмы со стороны трагедии, не исключающей комического, то главным предметом рефлексии Гоголя в «Театральном разъезде» (1836) была общественная комедия. Автор, пренебрегший правилом связывать действие с частной жизнью героя, любовной интригой, сознательно, как он сам пишет, «сделавший предметом осмеяние злоупотреблений в кругу различных сословий и должностей»1 (здесь и далее курсив мой. — В.Г.), развивает свою концепцию комедии, близкую в высказываниях ряда лиц «Театрального разъезда» к тому, что думал Пушкин, о чем писал, характеризуя ЭД, Белинский.
Многие из высказывающихся о «Ревизоре» обвиняют автора в несообразности сюжета, в отсутствии завязки, действия. Но находятся немногие, близкие ему, понимающие, что завязка завязке — рознь. «...Если принимать завязку, как ее обычно принимают, то есть в смысле любовной интриги, так ее точно нет. Но, кажется, уже пора перестать опираться до сих пор на эту вечную завязку. Стоит вглядеться пристальней вокруг. Все изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить, во что бы то ни стало, другого. Не более ли теперь имеет электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?» [С. 230]
Гоголь обнаруживает у оценивающих его пьесу разные позиции. Есть «люди простодушные», «ищущие в пьесе беспрестанных любовников, без женитьбы которых никак не может закончиться пьеса», ищущие «частной завязки»; и есть те, кто понимает автора, которому интересно изменяющееся состояние общества, который дает «общую» завязку. Как будто предваряя размышления Белинского о том, что герой эпической драмы не отдельное лицо, а сама жизнь, Второй в «Театральном разъезде» полемически утверждает: «Нет, комедия должна вязаться сама собой, всей своею массой в один большой общий узел. Завязка должна обнимать все лица, а не одно или два, коснуться того, что волнует более или менее всех действующих. Тут всякий герой; течение и ход событий производит потрясение всей машины: ни одно колесо не должно оставаться как ржавое, не входящее в дело» [С. 230—231].
1 Гоголь Н.В. Собр. соч. В 8 т. М.: Правда, 1984. Т. 3. С. 225. Далее при цитировании этого издания в скобках указаны страницы.
Второй оказывается единомышленником не только автора «Ревизора», но, можно сказать, и автора «Бориса Годунова» в понимании природы «общественной комедии», в понимании того, что в такой комедии, как в машине, «одни колеса заметней и сильней движутся, — их можно только назвать главными; но правит пьесою идея, мысль. Без неё нет в ней единства». Второй говорит, что «прямое и настоящее назначение» комедии — «всеобщее», и, подобно Пушкину, вспоминает ее истоки: «Уже в самом начале комедия была общественным, народным созданием (выделено мной. — В.Г.). По крайней мере, такою показал её сам отец её, Аристофан. После уже она вошла в узкое ущелье частной завязки, внесла любовный ход, одну и ту же непременную завязку. Зато как слаба эта завязка у самых лучших комиков! как ничтожны эти театральные любовники с их картонной любовью!» [С. 231]
Гоголь как автор «общественной комедии» осознанно отказывается от изображения приватного плана жизни — частной завязки, любовной интриги как главного и единственного начала, движущего действие пьесы. Он сам не только создавал такую «эпическую комедию» в своем творчестве, но стремился утвердить её в сознании современников как теоретик.
Следует отметить как принципиально важный момент то, что основой, отталкиваясь от которой русские драматурги создают особый, непривычный для восприятия тип драмы, в равной мере оказываются и трагедия, и комедия. В том и в другом случае преодолевается сосредоточенность действия «на главном лице, в судьбе которого выражается основная мысль»1. В том и в другом случае доминирующее эстетическое качество — трагическое или комическое — разрушалось введением противоположного. Не случайно Белинский пишет как о принципиально новом качестве эпической драмы, что она «занимает середину между трагедиею и комедиею».
Это же качество, по Белинскому, определяет художественную природу и «собственно драмы» — жанра, формирующегося одновременно с эпической драмой. Но реализуется это качество по-разному, и это нужно оговорить.
В эпической драме относительно самостоятельные фрагменты, фигуры, составляющие среды, эпохи, могут иметь ярко выраженный
1 Белинский В.Г. Указ. соч. С. 518.
комический или трагический характер (комические краски ощутимы в сцене в корчме на литовской границе у Пушкина; трагические — в эпизоде убийства щенков Борисовых) Действие же в целом, соединяя частную, бытовую, государственную, политическую сферы, имеет эпический характер, являя собой ход самой жизни, — «развитие важного исторического события», определяемого поведением множества разных героев.
Собственно драма, декларировавшая при своем появлении соединение противоположных качеств («мещанская трагедия», «слезная комедия»), в конечном счете уходила и от комедии, и от трагедии — стремилась к проявлению серединности, умеренности, к некоему равновесию в финале. Характерно, что размышлявшие о смешении разных сторон жизни в одном произведении романтики появления «слезной комедии» как чего-то принципиально нового в искусстве не заметили. Белинский уделил ей как предшественнице «собственно драмы» значительно меньше внимания, чем эпической. Может быть, потому, что «собственно драма», утверждая себя, как пишет Белинский, «в оппозиции надутой и неестественной тогдашней трагедии», хорошо усвоила её опыт и в плане содержания, и в плане организации действия — собственно драма, драматическая драма, как и утверждаемая Аристотелем трагедия, была сосредоточена на перипетиях судьбы главного героя. Новым было только социальное положение героев: место богов, героев, царедворцев заняли люди третьего сословия, действие же, в полном согласии с правилами Аристотеля, вели к финалу личные истории, вызывая сочувствие и сострадание зрителей. Для восприятия собственно драмы публика оказалась вполне подготовлена предшествующим опытом знакомства с трагедией.
В эпоху реализма собственно драма, «законно» наследуя трагедии, нашла наиболее полное и адекватное воплощение: драма как род в середине и второй половине Х1Х века развивалась, и в России в том числе, преимущественно в русле собственно драмы. Её возможности расширялись за счет эпизации отдельных моментов — увеличения роли фона, обстоятельств, введения побочных линий, необязательных с точки зрения интриги дополнительных эпизодов, но все это не меняло её аристотелевской природы — действие развивалось по линии судьбы центрального героя, показывала ее перипетии, «перемены от счастья к несчастью» (Аристотель).
Художественные открытия авторов «Бориса Годунова» и «Ревизора», восходящие не столько к непосредственно предшествующему жанровому опыту, сколько к истокам драматического рода, к творчеству писателей, в веках связанных с фольклорной традицией (Аристофан, Шекспир), ни современниками, ни последующими поколениями исследователей в полной мере не были поняты. Достижения Пушкина и Гоголя получили осмысление и развитие главным образом в плане творческого метода — реализма, драматургическое же их новаторство, как и теоретическое обоснование его в их собственных работах, в статье Белинского «Разделение поэзии на роды и виды» не было по-настоящему даже замечено.
Если бы кто-нибудь сказал М. Горькому, что он создал свою пьесу «На дне» в русле поисков Пушкина, он бы очень удивился. Сам он свою пьесу оценивал, особенно с годами, более чем скромно, призывал молодых драматургов учиться у Шекспира1. Думаю, можно говорить в этом случае не о развитии традиций одного художника другим, а о явлении самозарождения.
Горького как художника всегда интересовало соотношение в человеке индивидуального и социального, родового. Не случайно так часто в его творчестве упоминается, даже выносится в название произведений слово «человек». И это не столько частный человек в перипетиях его судьбы, сколько «человек общественный» и «человек размышляющий». Писатель пытается понять, от чего зависит поведение человека в социуме и состояние самого социума, мира в целом. Он исследует процессы, происходящие в сознании группы равно важных в действии персонажей из более или менее однородной среды, которая и оказывается своеобразным героем его драмы.
Чехов расшатывал, доводил до предела традиции аристотелевской драмы, но не переходил ее границ. Внешним образом действие его пьес оставалось в пределах имения, частного дома, личных — несложившихся, неустроенных — судеб людей, переливов их настроений, глубоко запрятанных, личных переживаний. Приезды и отъезды близких родственников вселяют и разрушают слабо теплящиеся надежды на решение жизненных проблем. В финалах все расходятся, разъезжаются — распадаются семейные кланы, каждый, уже в одиночку, оказывается
1 Горький М. О пьесах // Драматургия: Первый дискуссионный сб. М.: Советская литература, Типо-лит. им. Воровского, 1933.
на пороге какой-то новой, ничего хорошего не сулящей жизни. Тем не менее личный план жизни — семья, дом, надежда поправить дела с помощью женитьбы (замужества), должности, наследства, откуда-то чудом образовавшихся денег — все эти внешние скрепы аристотелевской драмы, хорошо знакомые по драматургии Островского, здесь сохраняются.
Горький решительнее, чем кто бы то ни был из его современников, отказался от объединения героев семейно-родственными связями. На месте дома, занимающего центральное положение в предшествующей драме (буржуазной, натуралистической, как писал в своей терминологии Брехт), мы находим ночлежку — пространство, принципиально лишающее человека возможностей индивидуального, личностного существования. Непосредственно наблюдаемые семейные связи между героями здесь теряют «действиеобразующее» значение. Основные единицы действия аристотелевской драмы — поступок, поворот событий в процессе достижения цели героем — редуцируются, отступают перед движением мысли во всех ее видах и формах: от первого импульса, удивления, вопроса самому себе, другим до попыток сформировать свои позиции многими лицами.
Необычность пьесы ощутили все пишущие о ней и о спектакле Московского художественного театра. Но одни не приняли необычности, отказав пьесе в действенности, а другие пытались ее объяснить. Наиболее отчетливо новизну пьесы почувствовал И. Анненский. В статье 1905 года он писал: «"На дне" — настоящая драма, только не совсем обычная»1. Принципиальное отличие ее от «старой драмы» критик находил в том, что Горького не интересуют проблемы «индивидуальной психологии», «детали», «подробности» «искусно скомпонованных историй человеческих сердец» [С. 73]. При этом критик отмечал не просто новизну отдельных приемов горьковской пьесы, но говорил
0 новой их системе. Он начинал с типа героя, способов ведения действия, композиции и заканчивал особенностями столь важного Брехту восприятия произведения. «Драгоценный остаток мифического периода — герой, человек божественной природы, избранник, любимая жертва бога, заменяется теперь типической группой, классовой разновидностью.
1 Анненский И. Книги отражений. М.: Наука, 1979. С. 73. Далее цитируется это издание.
Интрига просто перестала нас интересовать, потому что стала банальной...
Эта жизнь теперь и пестра, и сложна, а главное, она стала не терпеть ни перегородок, ни правильных нарастаний и падений изолированного действия, ни грубо ощутимой гармонии.
Цельность новой драмы устанавливается исключительно идеею автора (курсив Анненского. — В.Г.) <...>
Центр действия не остается все время один и тот же, как в старых драмах, а постоянно перемещается: точнее, внимание наше последовательно захватывается минутным героем: сначала это Анна и Клещ, потом Лука, Пепел, Василиса, Настя, Барон, Наташа, Сатин, Бубнов и наконец Актер. Личные драмы то тлеют, то вспыхивают из-под пепла, а по временам огни их очень затейливо сплетаются друг с другом.
Строго говоря, в драме Горького нет ни обычного начала, ни традиционной развязки <...> Но вчитайтесь внимательнее. и вы увидите <...> что это настоящее художественное произведение» [С. 75].
Размышления И. Анненского об особенной драматургической природе пьесы Горького «На дне» («Индивидуум перестает быть центром спектакля. на сцене должны появляться группы людей, внутри которых или по отношению к которым человек занимает определенную позицию» [С. 61]) удивительно близки тому, что позже, в 1930— 1940-е годы, последовательно отрицая значение личной судьбы героя как организующего начала действия, писал о своей драме Брехт: «Диалектическая драматургия <...> избегала психологии и изображения индивидуальности <...> должна была привлечь внимание зрителей к взаимосвязи событий, к процессам, происходящим внутри определенных групп»1.
Принципиально, качественно отличный момент «современной драмы» И. Анненский, как позднее «неаристотелевской» Брехт, увидел и в том, что она требует не только эмоциональной включенности, но прежде всего интеллектуальных усилий читателя и зрителя. «Чтобы оценить пьесу Горького и ею насладиться в полной мере, над ней надо пристально думать», — пишет критик [С. 72] и снова возвращается к этому: «Горький сам не знает, может быть, как он любит красоту, а между тем ему доступна высшая форма этого чувства, та, когда человек понимает и любит красоту мысли» [С. 77].
1 Брехт Б. Театр. Указ. соч. Т. 5/2. С. 59.
Горьковская пьеса как факт литературы, как опыт современной драмы в осмыслении Анненского оказалась противопоставлена, во-первых, тому направлению драматического искусства, которое в русле аристотелевского направления определялось интересом к «герою — любимой жертве рока», во-вторых, — классическому реализму, сосредоточившему внимание на проблемах индивидуальной психологии. Тем самым, предвосхитив Брехта на несколько десятилетий, русский критик наметил и те моменты в определении эпической драмы, к которым тот будет возвращаться много раз. На протяжении всей своей творческой деятельности Брехт осмысливает своеобразную драматургическую природу своих произведений на фоне отвергаемого им реализма-натурализма, ищет им определение (эпическая, неаристотелевская, диалектическая драма), говорит об особенности воздействия — об апелляции, в первую очередь, к сознанию.
Таким образом, в теоретических размышлениях Пушкина, Гоголя, Белинского, Анненского обнаруживаются предваряющие Брехта — дополняющие, уточняющие — представления об основных параметрах особенной, современной, эпической драмы как о явлении литературы Нового и Новейшего времени.
Обобщая сказанное, отметим эти параметры еще раз.
Первый и отправной момент пушкинско-гоголевской рефлексии — самоопределение художника в аспекте традиции: ориентация на опыт долитературной поры или на творчество драматургов, прочно связанных с традиционной народной культурой (Аристофан, Шекспир и др.).
Эта ориентация проявилась у авторов ЭД в особенностях их художественного мышления и принципах организации действия их пьес. Эпичность «сознания» древних, связанная с представлением о равной важности всех и всего в окружающем мире, о связанности всего со всем, о бесконечности жизни в повторении ее циклов по-разному трансформируется в обращении драматургов-эпиков к явлениям общественного бытия, к процессам и закономерностям со-существования «многих».
В качестве драматического героя (по Аристотелю, деятельного и действующего) их произведений предстает группа равноправных в действии лиц — среда, социум (историческое со-бытие, типическая группа, классовая разновидность). В соответствии с этим действие становится полифоническим по структуре, дискретным, монтажным, «эписо-дическим» (Аристотель), вероятностным по способам развертывания,
свободно соединяющим самые разные по эстетическим доминантам фрагменты со-бытия (комические и трагические, низкие, обыденные и возвышенные и т.д.).
Такое действие вызывает определённый тип реакции: заставляет сравнивать отдельные его составляющие друг с другом, с более или менее ощутимыми, разными культурно-историческими реалиями — обращено прежде всего к гражданским чувствам, к «интеллектуальной интуиции» (Шеллинг) читателя и зрителя, побуждает к размышлению. Можно полагать, что определение интеллектуальная драма для одного из направлений её развития в ХХ веке по принципу дополнительности характеризует именно эпическую драму со стороны её функции — обращения к интеллекту, к сознанию воспринимающей аудитории по преимуществу (а не к чувствам, не к сопереживанию, что характеризует аристотелевскую драму).





 CC BY
CC BY 116
116