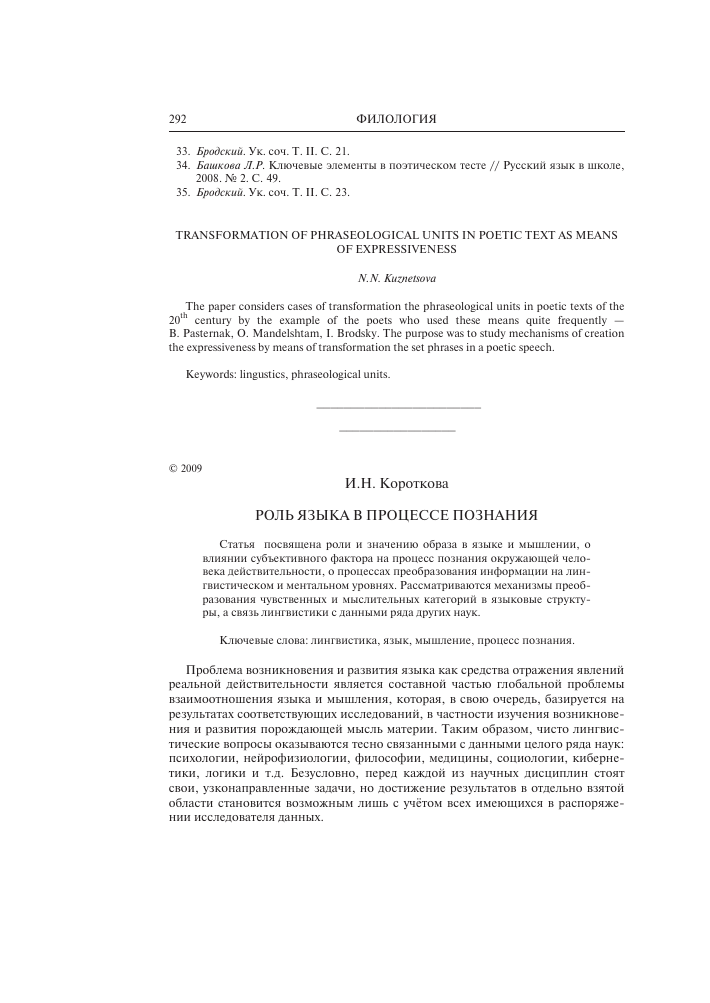33. Бродский. Ук. соч. Т. II. С. 21.
34. Башкова Л.Р. Ключевые элементы в поэтическом тесте // Русский язык в школе, 2008. № 2. С. 49.
35. Бродский. Ук. соч. Т. II. С. 23.
TRANSFORMATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN POETIC TEXT AS MEANS
OF EXPRESSIVENESS
N.N. Kuznetsova
The paper considers cases of transformation the phraseological units in poetic texts of the 20th century by the example of the poets who used these means quite frequently — B. Pasternak, O. Mandelshtam, I. Brodsky. The purpose was to study mechanisms of creation the expressiveness by means of transformation the set phrases in a poetic speech.
Keywords: lingustics, phraseological units.
© 2009
И.Н. Короткова РОЛЬ ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАНИЯ
Статья посвящена роли и значению образа в языке и мышлении, о влиянии субъективного фактора на процесс познания окружающей человека действительности, о процессах преобразования информации на лингвистическом и ментальном уровнях. Рассматриваются механизмы преобразования чувственных и мыслительных категорий в языковые структуры, а связь лингвистики с данными ряда других наук.
Ключевые слова: лингвистика, язык, мышление, процесс познания.
Проблема возникновения и развития языка как средства отражения явлений реальной действительности является составной частью глобальной проблемы взаимоотношения языка и мышления, которая, в свою очередь, базируется на результатах соответствующих исследований, в частности изучения возникновения и развития порождающей мысль материи. Таким образом, чисто лингвистические вопросы оказываются тесно связанными с данными целого ряда наук: психологии, нейрофизиологии, философии, медицины, социологии, кибернетики, логики и т.д. Безусловно, перед каждой из научных дисциплин стоят свои, узконаправленные задачи, но достижение результатов в отдельно взятой области становится возможным лишь с учётом всех имеющихся в распоряжении исследователя данных.
Всё существующее в настоящее время языковое многообразие является лишь приблизительным отражением хранящихся в памяти и отражённых в сознании личности образов и образных систем. Особый интерес в данном вопросе вызывает изучение механизмов преобразования чувственных и мыслительных категорий в языковые структуры, а также роль и значение образов-символов в процессе получения, передачи и переработки информации, выявление законов варьирования и сочетаемости лексического материала в зависимости от характера информации и от условий общения. Именно эти факторы являются неотъемлемой частью лингвистических исследований, цель которых (как и дисциплин технического профиля) заключается в постижении миропорядка, в раскрытии законов окружающей действительности и человеческой личности как составной её части. Отсюда появляется необходимость выявить способы перехода от мыслительных категорий к языковым структурам, определить соответствие между ними и описать эти явления с собственно лингвистической точки зрения.
Процесс познания осуществлялся эмпирически на протяжении многих тысячелетий, и его результаты находят свое отражение в языке как в единственно доступной человеку структуре, способной к закреплению и воспроизведению полученных знаний. Единственной наукой, которую с давних времен интересовала языковая сущность, была логика, но и она при обращении к языку преследовала свои, сугубо утилитарные цели: вырабатываемые в процессе мышления логические структуры не могли существовать без языка как единственно возможной формы их материального воплощения. «Процесс выделения общего в явлениях действительности есть процесс формирования понятия о них. И мышление осуществляется посредством оперирования понятиями. Образование понятий оперирования ими в составе суждений, умозаключений, доказательств и т. д. невозможно без слова, без языка»1.
Лишь к XIX столетию язык переходит из разряда средств выражения логических форм мысли в самостоятельную структуру и становится объектом изучения собственно лингвистических исследований.
Конвенциально-знаковый характер языковых средств дает возможность «прочитывать» за каждым языковым знаком сложные комбинационно-ассоциативные значения, что практически исключено в логических построениях, стремящихся к унификации и однозначности. На этом же основании из объекта логических исследований должны быть исключены метафоры и другие единицы языка, не обладающие способностью к постижению истины, а выражающие субъективные способности говорящего к описываемым событиям.
Если цель логического описания заключается в том, чтобы слова соответствовали окружающему миру, то цель субъективной оценки заключается в том, чтобы сделать мир соответствующим словам: описать ситуацию реальной действительности таким образом, чтобы не только мы сами, но и окружающие поверили, что дела обстоят именно так, а не иначе. И хотя обращение к оценочным категориям в последнее время свойственно логическим исследованиям вообще, «вопрос в том, преложим к оценкам термин «истинно» или «ложно» или нет, был и остается предметом оживленных споров»2.
Несмотря на выработанные логикой критерии установления истинности,
основным из которых является практика, само понятие истины нуждается в уточнении. При общем подходе к истине как к способу верного отражения действительности, не раз обращалось внимание на относительный характер этой категории. «Исследовать истину в одном отношении трудно, а в другом легко. Это видно из того, что никто не в состоянии достичь ее надлежащим образом, но не терпит полную неудачу, а каждый говорит что-то о природе и поодиночке, право, ничего или мало добавляет к истине, но, когда все это складывается, получается заметная величина».
Дж. Лакофф и М. Джонсон отметили то, что некоторые предложения не могут быть истинными или ложными вне ситуации, которую мыслит субъект речи. Вырванные из ситуационного контекста, они могут быть рассмотрены как ложные или бессмысленные... Мы понимаем предложение как истинное, когда понимание предложения достаточно тесно соотносится с пониманием ситуации3. Еще более расширяет границы истинности Д. Болинджер, указывая на зависимость этого понятии не только от ситуации, но и от интенциональных намерений говорящего: «истина (правда) — это такое свойство языка, которое дает нам возможность информировать друг друга»4. Таким образом, понимание истинности как способа верного отражения действительности в ряде случаев зависит не только от ситуации, определяющей эту действительность, но и от личности говорящего — субъекта речи, от его желания или способности к более или менее верному ее отражению.
Если рассматривать познание как процесс, включающий все стороны человеческой активности, результатом которого является приобретение новых знаний, то становится очевидным явно недостаточный характер существующих логических предписаний для его (процесса познания) регламентации5. Возможно, это связано с тем, что выработанные еще в Античности законы мышления на протяжении тысячелетий не подвергались никаким значительным изменениям, составляя нечто вроде философской догмы: «со времен Аристотеля ей (логике) не приходилось делать ни шага вперед и, судя по всему. кажется, наукой лаконичной и завершенной»6, в то время как язык претерпевал постоянные количественные и качественные изменения, отражающие эволюцию в сознании человека — особенно на стадии бурного развития письменных форм речи в ХУШ-Х1Х вв., позволяющих закреплять и совершенствовать структурно-комбинаторные языковые возможности.
Итак, мышление в логике направлено на отражение истинного положения дел в окружающем мире; мышление в психологии — на решение практических задач в процессе человеческой деятельности (практическое преобразование действительности); мышление в языке — на теоретическое преобразование действительности в результате субъективного его осмысления. Но сколь бы различными не были задачи, осуществляемые логикой, философией, психологией и лингвистикой, средством выражения объектов исследования во всех структурах является язык как наиболее развитая структура отражения результатов мыслительных операций, как общедоступная форма человеческого общения, хранения и передачи информации. Разница заключается в том, что в логике философии и психологии язык выступает как вспомогательная система информационного кодирования, а в языкознании он составляет
непосредственный объект исследования. В логике философии и психологии анализ проводится от мыслительных операций к языковой форме их воплощения, а в зародившемся на базе логических исследований языкознании — от языковых форм к заложенному в них мыслительному содержанию.
Таким образом, процесс соотношения языковых и мыслительных категорий имеет давнюю традицию и широкие перспективы для исследования. Выработанным логикой и философией формам отражения мыслительного содержания соответствуют языковые единицы разных уровней. И наоборот, в языкознании существует тенденция, в соответствии с которой под языковые единицы принято подводить определенную логикой философскую базу, что даёт возможность говорить о механизмах установления соответствий между мыслительными и языковыми категориями философии, логики и лингвистики.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. ИвинА.А. Основания логики оценок. М., 1970.
2. Кант И. Критика чистого разума / Пер. и вступ. ст. Р. Плечкайтиса. Вильнюс: Минтис, 1982.
3. Лакофф Дж, Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / Пер. с англ. А.Н. Баранова и А.В. Морозовой; под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. М.; 2004.
4. Горский Д.П. Роль языка в познании // Мышление и язык. М., 1957. С. 73—116.
5. Лакофф, Джонсон. Ук. соч.
6. Там же.
ROLE OF LANGUAGE WITHIN PROCESS OF PERCEPTION I.P. Korotkova
The article is devoted to a role and value of an image in language and thinking, about influence of the subjective factor on the process of perception of the reality, about processes of transformation of the information at linguistic and mental levels. Mechanisms of transformation of sensual and cogitative categories in language structures, and connection of linguistics with the data of some other sciences are under consideration.
Keywords: linguistics, language, thinking cognition.





 CC BY
CC BY 242
242