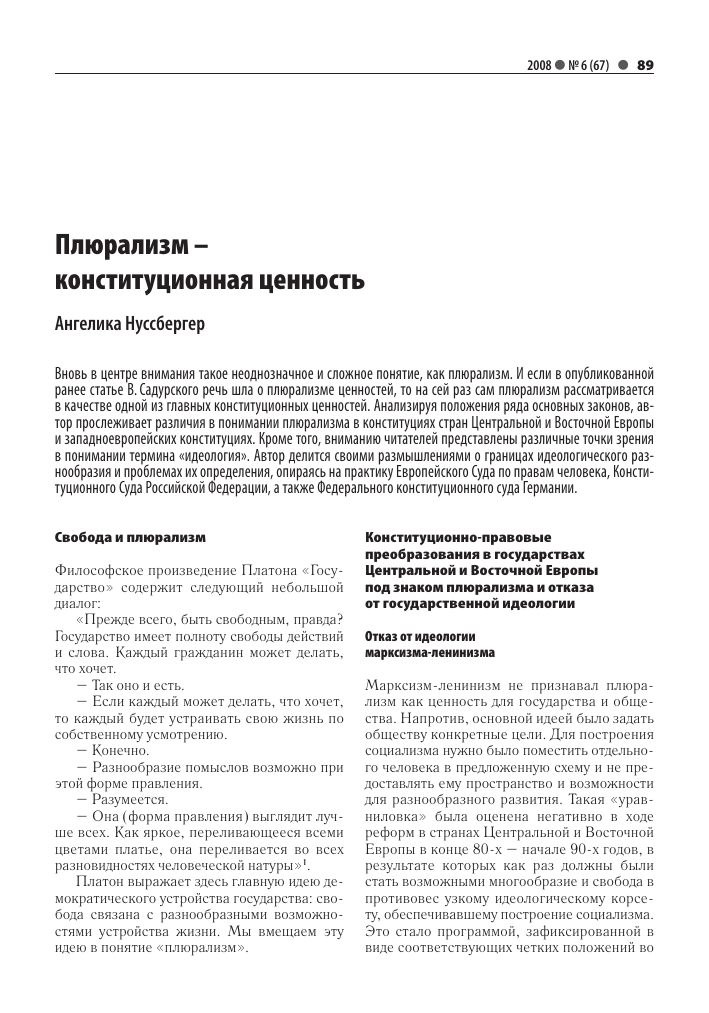Плюрализм -
конституционная ценность
Ангелика Нуссбергер
Вновь в центре внимания такое неоднозначное и сложное понятие, как плюрализм. и если в опубликованной ранее статье В. садурского речь шла о плюрализме ценностей, то на сей раз сам плюрализм рассматривается в качестве одной из главных конституционных ценностей. Анализируя положения ряда основных законов, автор прослеживает различия в понимании плюрализма в конституциях стран центральной и Восточной Европы и западноевропейских конституциях. Кроме того, вниманию читателей представлены различные точки зрения в понимании термина «идеология». Автор делится своими размышлениями о границах идеологического разнообразия и проблемах их определения, опираясь на практику европейского суда по правам человека, Конституционного суда Российской федерации, а также федерального конституционного суда Германии.
Свобода и плюрализм
Философское произведение Платона «Государство» содержит следующий небольшой диалог:
«Прежде всего, быть свободным, правда? Государство имеет полноту свободы действий и слова. Каждый гражданин может делать, что хочет.
— Так оно и есть.
— Если каждый может делать, что хочет, то каждый будет устраивать свою жизнь по собственному усмотрению.
— Конечно.
— Разнообразие помыслов возможно при этой форме правления.
— Разумеется.
— Она (форма правления) выглядит лучше всех. Как яркое, переливающееся всеми цветами платье, она переливается во всех разновидностях человеческой натуры»1.
Платон выражает здесь главную идею демократического устройства государства: свобода связана с разнообразными возможностями устройства жизни. Мы вмещаем эту идею в понятие «плюрализм».
Конституционно-правовые преобразования в государствах Центральной и Восточной Европы под знаком плюрализма и отказа от государственной идеологии
Отказ от идеологии марксизма-ленинизма
Марксизм-ленинизм не признавал плюрализм как ценность для государства и общества. Напротив, основной идеей было задать обществу конкретные цели. Для построения социализма нужно было поместить отдельного человека в предложенную схему и не предоставлять ему пространство и возможности для разнообразного развития. Такая «уравниловка» была оценена негативно в ходе реформ в странах Центральной и Восточной Европы в конце 80-х — начале 90-х годов, в результате которых как раз должны были стать возможными многообразие и свобода в противовес узкому идеологическому корсету, обеспечивавшему построение социализма. Это стало программой, зафиксированной в виде соответствующих четких положений во
многих конституциях стран Центральной и Восточной Европы, принятых после 1990 года.
Нормативное фиксирование плюрализма на конституционном уровне
Так, в Конституции Албании плюрализм назван фундаментом государства наряду с достоинством человека, основными правами, свободным развитием личности, равенством перед законом, социальной справедливостью (ст. 2). В то же время политический плюрализм называется одной из основных предпосылок для демократии (ст. 6). Подобное положение зафиксировано и в Конституции Румынии (ст. 1). Потребность в многообразии политических философий, институтов и идеологий подчеркнута в Конституции Беларуси (ст. 4). В целом ряде конституций особо подчеркивается, что недопустимо установление одной единственной государственной идеологии. Такие положения содержатся, например, в конституциях Болгарии (ст. 11), Молдовы (ст. 5), Словакии (ст. 1) и Украины (ст. 15). Похожая формулировка закреплена также и в статье 13 Конституции Российской Федерации, при этом данная статья входит в главу 1 «Основы конституционного строя», которая не может быть изменена российским парламентом. Указанная статья включает три отдельных положения. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие (часть 1). Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной (часть 2). В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность (часть 3). Со своей стороны Конституционный Суд Российской Федерации подчеркивает, что «идеологическое и политическое многообразие, многопартийность являются содержательной характеристикой демократии»2.
Под этот контекст подходят также положения о религии и отношении между государством и церковью. Конституция РФ четко определяет, что Российская Федерация является «светским государством», в котором не существует государственной или обязательной религии (ч. 1 ст. 14 Конституции РФ). К тому же она устанавливает, что религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом (ч. 2 ст. 14 Конститу-
ции РФ). Подобные положения об отделении церкви от государства можно найти во множестве конституций стран Центральной и Восточной Европы (Азербайджан, Болгария, Латвия, Македония, Словения, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Хорватия). В некоторых государствах даже запрещено устанавливать официальную или доминирующую религию (Албания, Беларусь, Литва, Словакия, Таджикистан, Украина, Эстония). Однако в Болгарии, Грузии и Литве говорится о «традиционной религии», а конституции Македонии и Польши подчеркивают поддержку одной религии.
На этом фоне интересно заглянуть в конституции западноевропейских стран. Как правило, здесь не найти ни запретов государственных идеологий, ни положений, называющих плюрализм конституционной ценностью3. Закреплены свобода религии, свобода совести, свобода слова, свобода создания партий, то есть основы плюралистически организованного общества. Запрета единой и всеохватывающей государственной идеологии нет даже в Основном законе Германии, хотя он и был реакцией на тоталитарную диктатуру, базировавшуюся на государственной идеологии.
Спектр положений, определяющих отношения между государством и церковью в конституциях Западной Европы очень широк. В отличие от стран Центральной и Восточной Европы, существует ряд стран, которые ввели либо, как Греция, одну «господствующую религию», либо, как Великобритания, Дания, Лихтенштейн, Мальта, Монако и Норвегия, одну государственную религию.
Обзор отдельных конституционных положений показывает значительное расхождение между моделями конституций Западной Европы и конституций стран Центральной и Восточной Европы. На первый взгляд, особенно важным для посткоммунистических государств кажется подчеркнуть множество мировоззрений и религиозных убеждений и отвергнуть представление об «авторитарной духовной связи» общества, как и провозглашенную цель, оформить политическую жизнь настолько многообразно, насколько это возможно.
Очевидно, что эта особенность объясняется, прежде всего, той исторической ситуацией, в которой происходило рождение кон-
ституций в конце 80-х — начале 90-х годов. Приблизительно так объясняет это, например, комментарий к российской Конституции, указывая, что статья 13 о нормировании плюрализма отображает особенности общественного сознания и те исторические условия, при которых разрабатывалась и принималась Конституция РФ; ее доминантой являлся «отказ от советской системы, которым практически и юридически... подтверждается, что власть над обществом и государством была сконцентрирована в руках аппарата одной единственной партии, которая опиралась на монополию одной государственной идеологии»4.
Одновременно необходимо задаться вопросом: возможен ли вообще радикальный проект плюралистического общественного порядка без общепринятых приоритетов ценностей или же в основе каждой конституции, как документа, определяющего общественный строй государства, должна лежать определенная идеология, даже если это идеология свободного самоопределяющегося человека, которому должно служить государство? Немецкий правовед Изензее хотя и не говорит в данном контексте об идеологии, но вполне подразумевает основные ценности, поясняя:
«Плюрализм деградирует в анархию, если не имеется минимального стандарта этической гомогенности. Частями свободного (право)порядка являются, таким образом, доля необходимого консенсуса, так же как и доля легитимного разногласия. "Основные ценности" характеризуют в современном словоупотреблении предмет консенсуса. Они формируют собой социально-этический знаменатель плюралистического общества. Консенсус распространяется на основные ценности в целом, а не на их различные, отчасти спорные, ответвления и их философские, теологические или юридические основы действия»5.
Кроме того, следует задуматься о границах плюрализма и о критической оценке плюрализма и идеологии. Решающей при всем этом является роль государства, которое либо выступает активным гарантом общественного и политического плюрализма, либо чем-то, чью задачу можно описать понятием «laissez-faire» (невмешательство, самоустранение от участия [франц.]).
Плюрализм или запрет идеологии
При анализе положений различных конституций о плюрализме в первую очередь бросается в глаза, что они затрагивают две разные сферы: общественную, с одной стороны, и политическую — с другой. На переднем плане находится плюрализм в политической сфере. Но как только плюрализм в общем понимается конституционной ценностью, он сразу охватывает все сферы, включая также и общество; это касается и положений о религии и церкви, которые в дальнейшем из-за их особенности и комплексности будут проанализированы не детально, а только в связи с положениями о плюрализме.
Если требование плюрализма и запрет идеологии параллельно зафиксированы в конституционных нормах, напрашивается вопрос, идет ли речь о двух сторонах одной медали или же оба принципа противоречат друг другу. Ведь если сама идея плюрализма понимается как идеология, то эти положения были бы противоречивыми.
Следовательно, сначала необходимо установить, что означает термин «идеология». В российской литературе встречаются мнения, отождествляющие «идеологию» и «идею» и утверждающие, что, согласно Конституции, государство не может задавать идеи, которые усилят идентификацию общества. Так, Якунин в журнале «Государство и право» пишет: «При очевидной синонимичности категорий "идеи" и "идеологии" в конкретном обсуждаемом нами контексте сие означает, что Российскому государству запрещено иметь государственную идею»6.
Но термины «идея» и «идеология» — понятийная пара, которая встречается в таком же виде во многих других языках, — не являются идентичными. Термин «идея» имеет греческое происхождение и обозначает образец, духовное представление, проявление; это понятие тесно связано с философией Платона. Понятие «идеология» состоит из частей «идея» и «логос», оно сформировалось только в эпоху Просвещения и характеризовало изначально школу, направленную против рационализма Декарта. Противоположно настроенное негативное использование этого понятия Наполеоном продолжает оказывать влияние и по сей день. Так, под «идеологией» понимают, как правило, догму, учение, кото-
рое вытесняет определенные эмпирические данные современности, с целью объяснения всего по определенному образцу. Критическая дискуссия об основных гипотезах была отклонена. Таким образом, это выражение связано с представлением об односторонности, властвовании и манипуляции вместе с подавлением дивергентных идей. В посткоммунистических государствах на содержание данных понятий оказало влияние то, что идеи и идеологии понимались в марксизме всегда как инструмент для достижения материальных целей7. Но все-таки нейтральное использование данного понятия не исключено8.
Если «идеологию» понимать не в негативном, в а нейтральном смысле, то возникает вопрос: действительно ли может существовать государство без идеологии на основе принципиальной равноценности всех взглядов и идей? Даже если убеждения, цели, точки зрения не предписаны, то каждое государство должно определить рамки, в которых должен происходить общественный дискурс, должны быть проведены границы. К тому же должны быть определены задачи и цели государства; именно для этого в конституциях во всем мире закреплено значительное количество положений о «демократии», «правовом государстве» и «социальном государстве». Предписания такого рода можно тоже понимать как своего рода идеологию. Государство, которое по своему определению базируется на достоинстве человека и выдвигает на передний план возможности развития каждого, дистанцируется от тех моделей государства, которые имеют в своей основе конкретную цель, как, например, исламское религиозное государство, призванное утверждать божьи законы на земле9, или государство, призывающее претворять в жизнь марксизм10. Отсутствие идеологии или признание плюрализма — это, в некотором смысле, тоже идеология. Так, Якунин, уже цитировавшийся мною выше, интерпретирует положения статьи 2 Конституции РФ, согласно которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод каждого — обязанностью государства, именно как идеологию: «Данная формулировка есть не что иное, как идеоло-гема. Теория прав человека тесно связана с вполне определенной идеологической позицией»11. Поэтому он подвергает эти пред-
ставления непосредственной идеологической критике: «Но свобода без нравственности, без ее социализированной одухотворенности вряд ли может рассматриваться как абсолютная, конституционного масштаба, тем более высшая ценность. Свободу на растление, порнографию, мордобой и убийство трудно признать высшей ценностью»12.
Если понимать идеологию в обиходном, негативном смысле, то раскрывается суть запрета идеологии без противоречия положениям конституции, провозглашающим определенные основные ценности. В таком контексте общие, формирующие гражданскую идентичность идеи, которые обязательно должны присутствовать в любой конституции, не запрещаются. Запрещается, скорее, ориентация государства и общества на одну единственную вышестоящую абстрактную идею. Поскольку государство существует для человека, а не человек для государства, все доктрины, которые направлены на то, чтобы подчинить государство одной конкретной цели, не допуская ее критической оценки, исключаются. Такое понимание основывалось бы на историческом опыте — нежелание возврата к доминировавшему в обществе и государстве учению марксизма-ленинизма — и обобщало бы его. В поддержку такой интерпретации можно привести пример польской Конституции, которая открыто запрещает и клеймит идеологии, а именно «нацизм, фашизм и коммунизм» как таковые (ст. 13 Конституции Польши)13. В этом случае противоречия не возникало бы, поскольку запрет идеологий можно понимать как обратную сторону плюрализма. Плюрализм истолковывался бы как результат свободного развития личности каждого. Такой подход позволял бы отвергнуть, в том числе, и модель «божественного государства», так как подобное государство было бы подчинено — в данном случае в религиозном понимании — одной цели. Проблематично было бы также установление одной доминирующей религии, а не одновременное существование различных религий, даже если одна религия обозначена как «традиция».
Границы плюрализма
Плюрализм и идеологическое разнообразие нельзя представлять себе безграничными. Ведь если бы допустимым было каждое воз-
зрение, даже то, которое отрицает основные ценности государства, существовала бы опасность капитуляции государства. В Конституции РФ (ч. 5 ст. 13) четко говорится: «Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни». Подобные ограничения относительно свободы слова и общественных объединений содержит и европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Однако обширная судебная практика, касающаяся этих норм, иллюстрирует, как сложно установить границу в каждом конкретном случае. Например, решение Федерального конституционного суда Германии касательно выражения «солдаты являются убийцами»14 является весьма спорным. Суд постановил, что неоднозначные точки зрения в случае сомнения следует толковать таким образом, чтобы они не подпадали под состав преступления «оскорбление». Тем самым Суд призвал к своего рода благоприятному толкованию в пользу свободы слова. Спорным является также и решение Европейского Суда по правам человека, касавшееся некомментировавшегося воспроизведения расистских высказываний на общественно-государственном радио в передаче о документальном закреплении расизма в Дании15. Европейский Суд также пришел к выводу, что не следует привлекать к уголовной ответственности редактора, даже если форма его представления способна вызывать проблематичные недоразумения. Принцип «в случае сомнения — в пользу свободы слова» задает европейский стандарт. По мнению Европейского Суда, свобода слова важна именно тогда, когда «болит», когда выражаются мнения, которые находятся за пределами mainstream (господствующие, общепринятые взгляды [англ.]). Вот что пишет Европейский Суд по правам человека в своем раннем основополагающем решении по делу Хэнди-сайд против Соединенного Королевства:
«Контрольные функции Суда обязывают его уделять наибольшее внимание описанию принципов, характерных для "демократического общества". Свобода самовыражения
создает одну из важнейших основ такого общества и представляет собой одно из важнейших основополагающих условий для его прогресса и для развития каждого человека. Согласно пункту 2 статьи 10, это применимо не только к "информации" или "идеям", которые считаются общепризнанными, безобидными или нейтральными, но также и ко всем тем, которые задевают, шокируют или тревожат государство или любой сектор населения. Это постулаты плюрализма, толерантности и открытости миру, без которых не бывает "демократичного общества"»16.
Реализовать данное требование на практике часто бывает нелегко. Так, в решениях Европейского Суда по делам Гриндберг против Российской Федерации (от 21 июля 2005 года)17 и Красуля против Российской Федерации (от 22 февраля 2007 года) речь идет о демократическом обществе и разнообразии мнений. Критику у Европейского Суда вызвало то, что российское право не проводит различия между мнениями и констатаци-ями и, как следствие, даже для оценочных высказываний требует доказательств истинности. В случае Красули это привело, по мнению Суда, к ограничению политической дискуссии. Главный редактор региональной газеты был приговорен российским судом к одному году лишения свободы условно за публикацию статьи, автор которой подверг критике нечестное влияние, оказанное губернатором на принятие закона об упразднении выборов мэра, и охарактеризовал губернатора как политически непригодного для своей должности. Европейский Суд, напротив, увидел в газетной статье существенный вклад в политическую дискуссию и, кроме того, не подлежащее доказательству оценочное высказывание и признал осуждение несоразмерным обстоятельствам и тем самым нарушающим статью 10 Конвенции. Различие между оценочным высказыванием и суждением о наличии факта находит в России тем временем отражение, по крайней мере частично, в судебной практике Верховного Суда РФ18.
Но при столкновении с экстремистскими идеями, готовящими почву для террора, труднее всего оказывается следовать идеям либерализма. В подобных случаях правовое государство должно четко различать, что является еще допустимым, а что — уже нет. Толерантность здесь серьезно отличается, как пока-
зывает, например, российский Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»19, который содержит настолько широкое определение понятия «экстремизм», что под него может попадать выражение мнения, не представляющего собой реальной угрозы государству20.
Необходимость в проведении границ плюрализма является общепризнанной.
Критическая дискуссия о плюрализме и запрете идеологий
Если заглянуть в историю, то общества, которые могут похвастаться своим идеологическим разнообразием, являются скорей исключением, чем правилом. Лишь в современном государстве стало возможным признание различных ценностей, в особенности различных религиозных убеждений, после того, как в результате религиозных войн было разбито характерное для Средневековья единое ми-ровоззрение21. Эта открытая модель государства противоречит традиционным образцам толкования и формам определения идентичности. Поэтому в России такая «открытая» форма государственности далеко не всегда приветствуется22. Это отражается в современной российской юридической литературе, где звучат крайне критические оценки требования идеологического многообразия и запрет государственной или обязательной идеологии, закрепленного в статье 13 Конституции РФ. Аргументом против служит утверждение о том, что все это, по сути, является инородным телом в духовном развитии России и рассматривается как несовместимое с ним. Особенно подчеркивается противоречие этого требования идее «единства государственной власти» и «единства государства», так как духовное формирование идентичности является для этого непременным. Ведь как раз в этом традиционно и видят силу, величие и особенность российской государственности. Запрет господствующей идеологии характеризуется как реальная угроза, как «смертоносная мина замедленного действия, заложенная под фундамент Российского государства»23. Заключенное в плюрализме отрицание общей моральной оценки со стороны государства также рассматривается как деструктивное24. Немецкая же доктрина, напротив, рассматривает «нейтралитет мнения»
государства как conditio sine qua non (непременное условие [лат.]) для осуществления свободы слова.
Конституционный Суд РФ в своей практике защищает принцип идеологического многообразия и подчеркивает его значение как основной конституционной ценности. Тем не менее Конституционный Суд готов в случае конфликта признать допустимым ограничение общественного и политического плюрализма. Это показывают, например, решение о запрете региональных партий (от 1 февраля 2005 года)25, а также решение, касающееся новых положений Федерального закона «О политических партиях» (от 16 июля 2007 года)26. В последнем случае Суду необходимо было оценить нововведение, согласно которому политическая партия подлежит ликвидации, если она не может подтвердить наличие у нее региональных отделений численностью не менее пятисот членов в каждом более чем в половине субъектов Российской Федерации. Это означало, что с 2007 года небольшие партии, особенно с региональной специализацией, лишались возможности участвовать в политической жизни России. Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба политической партии «Российская коммунистическая рабочая партия — Российская партия коммунистов», решение о ликвидации которой было принято Верховным Судом РФ на основании нового правового регулирования и соответствующего обращения Федеральной регистрационной службы. По мнению заявителя, требование о представлении списка членов регионального отделения политической партии для государственной регистрации в уполномоченный орган государственной власти являлось формой государственного контроля над идеологическим многообразием, над свободой мысли и слова, мнений и убеждений, не совпадающих с официальной позицией в отношении существующей политической, экономической, социальной ситуации в стране. При этом была сделана ссылка на часть 3 статьи 13 Конституции РФ, которая признает политическое многообразие и многопартийность.
Российский Конституционный Суд признал правила, запрещающие партии и ведущие к ограничению политического многообразия, не противоречащими Конституции РФ. В обоснование этого Суд указал, что только
достаточно большие и хорошо структурированные партии в состоянии отображать интересы многонационального народа Российской Федерации: «.установление этих критериев федеральный законодатель правомерно связывает с реальной способностью политической партии выражать интересы значительной части общества и выполнять возложенную на нее публичную функцию»27. Это означает, что защищаются только «интересы значительной части общества», а не все интересы. Политические мнения, даже если они не противоречат Конституции и не являются основанием для запрета партии, оказываются недостойными защиты в конституционно-правовом смысле, если они не представлены в России повсеместно.
Совсем иначе был решен подобный вопрос Федеральным конституционным судом Германии. В своем решении (от 26 октября 2004 года) Суд признал противоречащими Основному закону нормы о финансировании партий, из-за которых ставилась под угрозу возможность образования небольших партий в условиях политической конкуренции. При этом Суд опирался в первую очередь на принцип равенства шансов и принцип открытости политического процесса. В этом решении Суд подчеркнул, что «небольшие партии также важны для политического процесса и политического ландшафта»28.
Роль государства: Laissez-faire или Государство-гарант?
Для определения роли государства ключевым является вопрос о понимании плюрализма в различных национальных конституциях. При этом принципиально различать две концепции.
Первая состоит в том, что на основании природной неоднородности человечества задачей государства является сохранение существующих различий и их поддержка. Это именно та концепция, которая приводится в процитированном выше коротком диалоге Платона: свобода способствует большому разнообразию людей.
В качестве альтернативной концепции выдвигается другая управленческая задача государства, а именно: развивать и регулировать плюрализм. То есть государство обязано, в рамках определенных мероприятий, прово-
димых сверху, создать благоустроенное общество, организовать и структурировать имеющиеся в обществе неорганизованные идеи.
В первом случае государство изначально не должно принимать каких-то определенных мер, во втором оно, напротив, должно вмешаться. Разницу можно охарактеризовать метафорой: согласно первой концепции, государство ведет себя как садовник, который наблюдает за сорняками в саду, и только тогда принимает меры, когда растения отнимают друг у друга воздух и свет. Согласно же второй концепции, должен быть создан парк; государство в качестве садовника выбирает, какие растения являются ценными, а какие нет, и сознательно оформляет весь ансамбль. Формулировки в текстах цитируемых выше конституций производят впечатление выбора первой модели. Государство призвано поддерживать идеологическое многообразие, но не устанавливать его.
Однако именно в западноевропейских государствах, конституции которых, как было отмечено выше, не содержат эксплицитно слов «плюрализм» и «идеологическое многообразие», признается, что из основных прав человека и гарантий свобод берут свое начало позитивные обязательства по защите (оборонительные права граждан от вмешательства государства). Это имеет значение как в целом, для защиты от дискриминирующих высказываний и клеветы, но если речь идет о плюрализме, то и для формирования «противостоящей силы» и «противоположной информации»29. Особенно важны оформитель-ные мероприятия для радио и телевидения; здесь не удается осуществить плюрализм без регулирования и принятия мер государством. На основании особенных условий допуска на «рынок мнений» развитие снизу без регулирования здесь невозможно. В немецкой догматике под свободой радиовещания понимают поэтому «норму, выраженную под влиянием основных прав» (grundrechtsgepragte Norm), что требует для гарантии многообразия мнений особенного оформления посредством материальных и организационных процессуальных норм30.
Вмешательство в естественный общественный плюрализм в форме государственных интервенций может привести к тому, что в свою очередь потребуются ответные меры. И здесь российское право также дает примеры.
Новые положения законов о политических партиях и о выборах привели к тому, что многообразие партий сократилось. Чтобы предотвратить ситуацию, при которой лишь одна партия будет представлена в Государственной Думе, было введено новое правило, в соответствии с которым в случае преодоления барьера для прохождения в Государственную Думу только одной партией обеспечивается обязательная возможность для второй партии тоже быть представленной в парламенте. Таким образом, семипроцентный барьер действует только тогда, когда его преодолели хотя бы две партии, получив при этом как минимум 60 % голосов избирателей.
Государственно-регулятивное вмешательство, в общем, признается Конституционным Судом РФ. Так, Конституционный Суд указывает в своем решении 2007 года: «[Посредством нового законодательного регулирования] стимулировались объединительные процессы и создавались предпосылки для формирования крупных политических партий, реально выражающих интересы тех или иных социальных слоев...»31
«Управляемый плюрализм» виден также и в создании Общественной палаты, которая представляет собой таким же образом «свыше» созданный заменитель для не происходящего «внизу» общественного диалога32. М. А. Краснов говорит в этой связи о «параличе представительства». Под этим он понимает состояние политической системы, при котором невозможно выражать циркулирующие в обществе различные интересы, ценности, мировоззрения и мнения в том объеме, теми средствами коммуникации и в тех формах, которые предоставляются в распоряжение официальным и официально допущенным высказываниям. Кроме того, имеющие значение мнения не могут, как он указывает, легальным способом попадать в публичное политическое пространство или не учитываются при выработке государственных решений33.
Таким образом, можно констатировать, что, если государство вмешивается в естественную неоднородность общества и рассматривает себя в качестве державы-гаранта плюрализма, будут нужны все новые меры для сбалансирования, чтобы обеспечить плюрализм. Такой упорядоченный плюрализм является по сравнению со спонтанным плюрализмом аНШ'от (чем-то иным [лат.]). Чем
менее допускается спонтанный плюрализм, тем более удаляется государство от идеала свободы. Конечная точка — тоталитарное государство: «Формы современного государства отличаются тем, в какой мере они предоставляют пространство особенному и как они определяют пределы действия государственно-организованного общего. Тоталитарное государство стремится подавлять особенное, командной властью и воспитательной силой устранять раскол и полностью интегрировать человека во всеобъемлющее единство государственного общества и политического движения. Конституционное же государство, напротив, признает плюрализм как неизбежную и легитимную данность и приспосабливается к нему в качестве дополняющего общественного порядка»34.
Плюрализм как конституционная ценность: Открытое общество против Закрытого
На этом месте позвольте еще раз вернуться к цитируемой в начале статьи дискуссии Платона о разнообразных формах государства. Для Платона демократия не была той формой государства, которую он оценивал бы позитивно. «Переливающееся платье» он оценивал как оптический обман, иллюзию; он аргументировал это тем, что свобода приведет к тирании, так как в демократическом государстве для нее не будут установлены границы35. Поэтому лучшей формой для него была авторитарно структурированная модель, в которой каждый находил свое место по способностям. Философ Карл Поппер противопоставлял модели «закрытого общества» Платона модель «открытого общества», запланированную не на чертежной доске, а на непрерывном плюралистическом эволюционном процессе развития попыток улучшения и коррекции ошибок36.
Закрытое и открытое общество находятся в итоге на разных концах шкалы соответствующего понятия плюрализма, который существует в обществе. Заданное в конституции нормирование плюрализма возможно и является путевым знаком к открытому обществу. Будет ли проложен путь туда, зависит от соответствующих культурных традиций, которые являются колеями, из которых можно,
разве что сознательно, выбраться. Что касается России, то необходимо преодолеть традицию «единовластия», в соответствии с которой сильная и эффективная власть должна быть сосредоточена в одних руках и не должна терпеть никаких возражений. В противном случае закрепленный в Конституции принцип общественного и политического плюрализма останется нормативно-правовым украшением и сувениром из того времени, когда общественное преобразование представлялось еще иначе.
Ангелика Нуссбергер — профессор Кельнского университета.
Перевод с английского А. Комиссарова.
1 Platon. Der Staat. Stuttgart: Alfred Kröner, 1973.
B.VIII. S.277.
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2007 года № 11-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 30. Ст. 3989.
3 Исключение составляет статья 1 испанской Конституции: «Испания конституируется как правовое демократическое социальное государство, которое провозглашает высшими ценностями своего правопорядка справедливость, равенство и политический плюрализм».
4 Смирнов В.В. Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Под. ред. В. Н. Топорнина. 3-е изд. М., 2003.
C. 161.
5 Isensee J. Verfassungsgarantie ethischer Grundwerte und gesellschaftlicher Konsens. Verfassungsrechtliche Überlegungen zu einer sozialethischen Kontroverse // Neue Juristische Wochenschrift. 1977. S. 545.
6 Якунин В.И. Государственная идеология и национальная идея: конституционно-ценностный подход // Государство и право. 2007. № 5. С. 5-12, 5.
7 Краснов М. А. Онтология разнообразия (К осмыслению статьи 13 Конституции РФ) // Общественные науки и современность. 2006. № 3. С. 40-54.
8 Определение идеологии см.: Смирнов В. В. Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Под. ред. В. Н. Топор-нина.
9 См., например, ст. 1 Конституции Исламской Республики Иран.
10 См. преамбулу советской Конституции 1977 года.
11 Якунин В. И. Указ. соч. С. 7.
12 Там же.
13 См. ст. 13 польской Конституции: «Запрещено существование политических партий и иных организаций, обращающихся в своих программах к тоталитарным методам и практике деятельности нацизма, фашизма и коммунизма, а также тех, программа или деятельность которых предполагает или допускает расовую и национальную ненависть, применение насилия с целью захвата власти или влияния на политику государства либо предусматривает сокрытие в тайне структур или членства». Эта формулировка была включена в Конституцию на основе инициированного консервативными политиками так называемого гражданского законопроекта. См. об этом комментарий Войцеха Соколевича к статье 13, примечание 3: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Komentarz. T. 5 / Pod red. L. Garlickiego. Warsza-wa: Wydawnictwo Sejmowe, 2007.
14 BVerfGE 93, 266 ff.
15 Application no. 15890/89, Jersild v. Denmark, Judgment of 23 September 1994.
16 Application no. 5493/72, Handyside v. the United Kingdom, Judgment of 7 December 1976.
17 Application no. 23472/03, Grinberg v. Russia, Judgment (First Section) of 21 July 2005.
18 См.: Krug P. Internalizing European Court of Human Rights Interpretations: Russia's Courts of General Jurisdiction and New Directions in Civil Defamation Law // Brooklyn Journal of International Law. Vol. 32. 2006. No. 1. P. 1.
19 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3031.
20 См.: Schmidt C. Der Journalist, ein potentieller «Extremist» — der russische Extremismusbegriff seit Juli 2006 // Osteuropa-Recht. 52. Jg. 2006. H. 5-6. S. 409-415.
21 См.: Isensee J. Staat und Verfassung // Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland / J. Isensee, P. Kirchhof (Hrsg.). 3. Aufl. Heidelberg: C. F. Müller Juristischer Verlag, 2003. Bd. 2. § 13. Rn. 50.
22 Для понимания «Новой России» как современного государства, противостоящего постмодернистским государствам современности, см.: Mezhuev B. Modern Russia and Postmodern Europe // Russia in Global Affairs. 2008. No. 1 (http://eng.globalaffairs.ru/printver/1176.html).
23 Якунин В.И. Указ. соч. С. 5.
24 Краснов М. А. Указ. соч.
25 Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 6. Ст. 491.
26 Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 30. Ст. 3989.
27 Там же.
28 BVerfGE 1 11, 382, 404.
29 См.: Denninger E. Staatliche Hilfe zur Grundrechtsausübung durch Verfahren, Organisation und Finanzierung // Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland / J. Isensee, P. Kirchhof (Hrsg.). Heidelberg: C. F. Müller Juristischer Verlag, 1992. Bd. 5: Allgemeine Grundrechtslehren. S. 291 ff., 313.
30 Pieroth B., Schlink B. Grundrechte Staatsrecht. II. 22. Aufl. Heidelberg: C. F. Müller, 2006. S. 142.
31 Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 30. Ст. 3989.
32 См.: Nußberger A., Schmidt C. Zensur der Zivilgesellschaft: Die umstrittene Neuregelung zu den Nichtregierungsorganisationen // Europäische Grundrechte-Zeitschrift (EuGRZ). Jg. 34. 2007. H. 1-5. S. 12 ff.
33 Краснов М. А. Указ. соч.
34 Isensee J. Staat und Verfassung. Rn. 53.
35 См.: Platon. Op. cit. S 284: «Свобода! Только и слышишь, что свобода есть самое прекрасное в демократическом устройстве государства. Ради свободы рожденному свободным стоит разрешать жить только при демократии. Так говорят. Подобное можно часто слышать. Я же хотел сказать: так как демократия не устанавливает для свободы никаких границ и пренебрегает ради нее всем остальным, наступает перелом. Становится необходимой тирания».
36 Popper C. The Open Society and its Enemies. London: Routledge, 1945.





 CC BY
CC BY 46
46