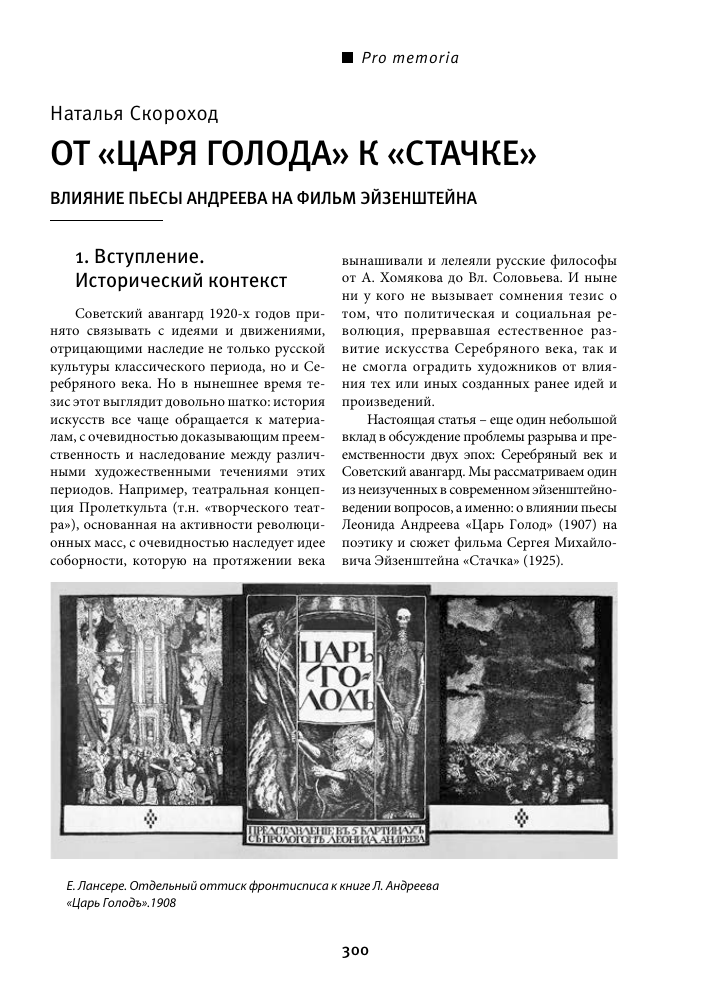Наталья Скороход
от «царя голода» к «стачке»
влияние пьесы андреева на Фильм Эйзенштейна
1. Вступление. Исторический контекст
Советский авангард 1920-х годов принято связывать с идеями и движениями, отрицающими наследие не только русской культуры классического периода, но и Серебряного века. Но в нынешнее время тезис этот выглядит довольно шатко: история искусств все чаще обращается к материалам, с очевидностью доказывающим преемственность и наследование между различными художественными течениями этих периодов. Например, театральная концепция Пролеткульта (т.н. «творческого театра»), основанная на активности революционных масс, с очевидностью наследует идее соборности, которую на протяжении века
вынашивали и лелеяли русские философы от А. Хомякова до Вл. Соловьева. И ныне ни у кого не вызывает сомнения тезис о том, что политическая и социальная революция, прервавшая естественное развитие искусства Серебряного века, так и не смогла оградить художников от влияния тех или иных созданных ранее идей и произведений.
Настоящая статья - еще один небольшой вклад в обсуждение проблемы разрыва и преемственности двух эпох: Серебряный век и Советский авангард. Мы рассматриваем один из неизученных в современном эйзенштейно-ведении вопросов, а именно: о влиянии пьесы Леонида Андреева «Царь Голод» (1907) на поэтику и сюжет фильма Сергея Михайловича Эйзенштейна «Стачка» (1925).
Е. Лансере. Отдельный оттиск фронтисписа к книге Л. Андреева «Царь Голодъ».1908
Повторюсь, подобная связь никогда не обсуждалась ни в истории театра, ни в киноведении. Мысль о возможном влиянии не самой известной пьесы Андреева на прославленный фильм Эйзенштейна была высказана в 2013 году на Всероссийской междисциплинарной конференции «Сергей Эйзенштейн: pro et contra»1 крупнейшим московским исследователем Владимиром Забродиным, говоря о «белых пятнах» эйзенштейновских штудий, одним из таких «пятен» г-н Забродин назвал замысел и сценарий первого полнометражного фильма Эйзенштейна - «Стачка». Мои исследования и работа в архивах подтвердили догадку и выявили ряд интересных фактов.
Действительно, пьеса Андреева и фильм Эйзенштейна посвящены одному событию - поражению русской революции 1905 года: «Царь Голод» изображает бунт голодных рабочих, «Стачка» - восстание угнетаемых рабочих. Однако Леонид Андреев (1871-1919) - выдающийся беллетрист и один из самых репертуарных драматургов Серебряного века - писал о событиях первой русской революции как ее непосредственный свидетель и даже сочувствующий эсерам участник. Известно, что в революционные дни 1905-го писатель выступал на митингах и не раз предоставлял свой дом для собраний запрещенных партий левого толка, одно из таких собраний закончилось арестом самого хозяина, впрочем, вскоре Андреев был отпущен под залог. Именно Первая русская революция и желание громогласно высказаться о ней подтолкнуло известного беллетриста к драматургии. Две первые пьесы Андреева: «К звездам» (1905) и «Савва» (1906) - написаны буквально «по следам» революционных событий.
«Царь Голод» появился позже - в 1907 году, этот текст писался уже на пике андреевской театральной славы как продолжение драматургического цикла «Бог, Дьявол и Человек» - пьес, как полагал сам писатель, «принципиально новой формы», «без ре-
ализма и символизма»2. Открывшая цикл «Жизнь человека» (1906) была уже необычайно популярна в России, ее в один год поставили Станиславский и Мейерхольд. Новую пьесу Андреев обещал отдать театру Комиссаржевской, но цензурный запрет сделал «Царя Голода» недоступным для сцены. Пьеса не была разрешена к представлению драматической цензурой, однако этот запрет не распространялся на ее издание, и отдельной книгой - с иллюстрациями мирискусника Е. Лансере - текст вышел в 1908 году в издательстве «Шиповник», где сам автор исполнял тогда обязанности главного редактора.
Сочувствуя революции 1905 года и приветствуя февральские события 1917-го, Леонид Андреев всеми силами ненавидел большевиков и наутро после Октябрьского переворота (24 октября 1917 года) он уехал из петроградской квартиры на свою виллу в Ваммельсуу (ныне поселок Серово на Карельском перешейке). Вскоре Финляндия отделилась от России, и Леонид Николаевич оказался в эмиграции. Там он изливал желчь на новую российскую власть, там мечтал о скором взятии Петрограда генералом Юденичем, там же и умер от удара в сентябре 1919 года.
Многие пьесы Леонида Андреева ставятся и по сей день, однако судьба «Царя Голода» сложилась иначе. Парадокс, но проект постановки этой пьесы разрабатывался лишь один раз: в Москве на Арене Пролеткульта в 1921 году. Постановка эта так и не состоялась из-за вмешательства цензуры, о чем будет сказано в свое время, однако работа над пьесой продолжалась в течение трех месяцев. Это было первое и последнее обращение театра к «Царю Голоду», а Эйзенштейн - единственный в истории театральный художник, создавший эскизы декораций и костюмов к пьесе. Всего через четыре года он снял свой первый самостоятельный полнометражный фильм «Стачка». Интересно, что «Стачка», как и когда-то «Царь Голод», должна была стать
частью цикла: семисерийной картины о революционной борьбе «К диктатуре». Однако другие части так и не были сняты.
Сергей Эйзенштейн (1898-1948), принадлежавший уже к следующему поколению отечественных художников, встретил первую русскую революцию, будучи еще ребенком, октябрьские же события 1917 года помогли ему - тогда студенту Института гражданских инженеров - связать свой жизненный путь с искусством. «Стачка» была посвящена 20-летию событий 1905 года, отмечавшемуся в условиях победы когда-то проигравшего класса, это была заказная работа, как, впрочем, и все будущие фильмы Эйзенштейна.
Здесь важно подчеркнуть, что «Стачка» биографически и творчески является точкой пересечения Эйзенштейна-кинематографиста и Эйзенштейна-театрального художника и режиссера. Почти все прежние кинематографические опыты Эйзенштейна: и «Дневник Глумова», и монтаж документальных кадров «Тексты чужого» для пьесы Третьякова «Слышишь, Москва?!» - связаны с работой в театре.
Начиная творческую карьеру в Москве в системе «Пролетарской культуры» - организации, объединяющей множество студий, мастерских и союзов, чтобы при поддержке Наркомата просвещения выводить формулы нового искусства, Сергей Эйзенштейн очень быстро приобрел репутацию «звезды Пролеткульта» как дерзкий и скандальный театральный художник и режиссер. Фильм «Стачка» также был создан в тесном сотрудничестве Первой кинофабрики с Пролеткультом, там снималась практически вся труппа Первого Рабочего театра: актеры, воспитанные Эйзенштейном и игравшие в его знаменитом «Мудреце» (1923) по Островскому. В титрах автором сценария значится «Пролеткульт», позже группа авторов была расшифрована так: «С. Эйзенштейн совместно с Г. Александровым при участии В. Плетнева и И. Кравчуновского»3. Примечательно здесь присутствие самого
Валериана Федоровича Плетнева, драматурга и одного из главных идеологов пролетарской культуры.
Был близок к идеологической верхушке Пролеткульта режиссер и педагог Валентин Тихонович, пригласивший двадцатитрехлетнего Эйзенштейна оформить спектакль по пьесе Леонида Андреева «Царь Голод» в сезоне 1920-1921 годов. Спектакль задумывался как большой, щедро финансируемый проект, премьера должна была состояться на Центральной арене Пролеткульта в театре Эрмитаж 1 октября 1921 года. Было бы недобросовестно вовсе не коснуться этой любопытной фигуры, право жаль, что личность Валентина Владимировича Тихоновича постоянно остается за скобками театральных изысканий, а его воспоминания не изданы до сих пор4. А между тем, именно он оставил один из самых серьезных и загадочных словесных портретов юного Эйзенштейна: «Художник большой культуры и эрудиции, "западник" до мозга костей, [...] воспитанный на художественной работе над мертвым материалом, да еще в пору расцвета аналитических постимпрессионистских течений в искусстве, пришедший в театр как художник-конструктивист и импрессионист. Его творческая индивидуальность тесно переплеталась с жизненной - человека рационального и методичного склада, жесткого и сухого воображения, глубокого эгоцентриста, собранного и замкнутого»5.
Пути Эйзенштейна и Тихоновича, вероятно, пересеклись зимой или ранней весной 1921 года; известно, что в сезоне 1920-1921 гг. будущий кинорежиссер много и плодотворно работал в Москве как театральный художник, уже осенью 1921 (после запрета «Царя Голода») на одной из площадок ТЕО, в Доме театрального просвещения им. Поленова состоялась премьера шекспировского «Макбета», режиссером был все тот же Валентин Тихонович, а авторами сценографии и костюмов - Сергей Эйзенштейн и Сергей Юткевич. Если верить воспоминаниям Юткевича, Эйзенштейн
остался крайне недоволен спектаклем (состоялось всего несколько представлений), и после этого пути Эйзенштейна и Тихоновича разошлись.
Здесь небезынтересно вспомнить, что для многих выдающихся режиссеров «театральный конструктивизм» оказался своеобразным полигоном для поиска и осознания новых средств художественной выразительности. В недавней, напечатанной на страницах этого издания статье «Конструктивистская утопия Мейерхольда»6 Вадим Щербаков, анализируя «зону пересечения» пути Всеволода Мейерхольда с конструктивистским театром (результатом чего стали три известные постановки и организация высших режиссерских курсов: ГВЫРМ, позже ГВЫТМ, где учился Сергей Эйзенштейн), справедливо утверждает, что профессионализм Мейерхольда берет верх «в сражении» с философией конструктивизма и конструктивистским взглядом на искусство. Тот же путь прошел и Сергей Эйзенштейн, взяв от Пролеткульта лишь то, что помогло сформировать его профессиональный художественный язык.
Самого же Тихоновича, насколько можно судить по его выступлениям в печати, вовсе не интересовала профессиональная сторона вопроса, напротив, создавая Пролеткульт как питомник нового классового искусства, его отцы-основатели принципиально не желали профессионализации: «Современный профте-атр не способен совершить театральный Октябрь. Его я - и не один я - жду от организаций, подобных Пролеткульту» -писал Тихонович. И подчеркивал: «Театральный Октябрь могут сделать лишь те классы, которые сделали Октябрь по-литический»7. Воспитанный «на мертвом искусстве», Эйзенштейн должен был стать для Тихоновича фигурой неприемлемой, но идеология и практика редко существовали в гармонии у представителей Пролеткульта. Пожалуй, они были последовательны в своей критике, но не в опытах создания
новых театральных произведений. Очевидным было и противоречие между теоретическими призывами к обновлению репертуара и постоянным обращением к «старым» пьесам, будь то Островский или Шекспир. Любимой практикой пролеткультовских идеологов было составление и обновление «списков» старой литературы, «полезной» и «вредной» для нового времени. Одним из следствий такого рода «ревизий» я считаю появление в творческих планах Тихоновича постановки некогда запрещенного к публичному представлению царской цензурой «Царя Голода».
Итак, можем представить историческую последовательность событий:
— 1908 год - издание «Царя Голода» Леонида Андреева с иллюстрациями Евгения Лансере (пьеса запрещена царской цензурой).
— 1921 год - подготовка постановки «Царя Голода» для Арены Пролеткульта, режиссер Владимир Тихонович, художник Сергей Эйзенштейн (постановка запрещена советской цензурой).
— 1924 год - создание фильма «Стачка», режиссер Сергей Эйзенштейн, сценаристы С. Эйзенштейн совместно с Г. Александровым при участии В. Плетнева и И. Кравчу-новского.
Поскольку постановка пьесы не состоялась, упоминаний о «Царе Голоде» в архивах Эйзенштейна немного. Приведем три цитаты из писем: « "Царь Голод", кажется, получается очень интересным»8, - пишет Эйзенштейн матери 26 июля 1921 года. Но спустя месяц интонация меняется: «С "Царем Голодом" очень большие осложнения: в связи с просто "голодом" боятся его идеологической стороны и 90 процентов за то, что он не пойдет. Мою двухмесячную работу, конечно, оплатят, но будет страшно обидно - это был бы колоссальный "бум" и принес бы очень солидные деньги»9 - сообщает он 20 августа 1921 года.
«Ты был живым свидетелем, как и по "Мексиканцу" или по "Царю Голоду" я "гнул"
режиссеров куда надо было», - обращается режиссер к Максиму Штрауху из Мексики, это свидетельство относится уже к началу 1930-х годов10.
Хорошо известно, что осенью 1921 года во многих губерниях на подконтрольных большевикам территориях Поволжья, Казахстана, Урала был страшный массовый голод, я предполагаю, что в этих условиях репертуарная комиссия Пролеткульта посчитала постановку пьесы Андреева нецелесообразной и ее репетиции так и не начинались.
Нам повезло, что большая часть карандашных эскизов Эйзенштейна к пьесе сохранилась в РГАЛИ, и несколько, выполненных гуашью - в архиве Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина. Судя по приведенным цитатам и архивным данным (в описи эскизов в РГАЛИ крайние даты обозначены как 7 мая - июль, самая поздняя дата эскизов из архива Бахрушинского музея - 2 августа), по меньшей мере май и два летних месяца 1921 года Эйзенштейн провел с пьесой Леонида Андреева, как художник он был увлечен "Царем Голодом", хорошо знал материал и его идеи отражали не только сценографический, но и режиссерский взгляд на пьесу. Естественно предположить, что многие из нереализованных в 1921 году идей могли быть использованы Эйзенштейном в будущих работах. В этой связи любопытно привести воспоминания Сергея Юткевича о совместной с Эйзенштейном работе над «Макбетом»: «Наблюдательный исследователь творчества Эйзенштейна, рассматривая эскизы художника к "Макбету", сможет наглядно убедиться, с каким постоянством и последовательностью разрабатывал Эйзенштейн систему образов, взволновавших его фантазию. В набросках шлемов шотландских воителей можно без труда найти сходство с "псами-рыцарями" из "Александра Невского", осуществленного четверть века спустя»11.
Своего «наблюдательного исследователя» ждал много лет и эйзенштейновский
замысел «Царя Голода». На первый взгляд, эстетический разрыв между модернистской пьесой Андреева с ее аллегорическими фигурами, эксцентричными, тяготеющими к футуризму эскизами Эйзенштейна и «Стачкой», воспроизводящей события пролетарской борьбы вполне реалистично, - огромен. К тому же фильм был создан в эпоху немого кино, а пьеса Андреева перегружена словесной материей - объемными репликами и многословными ремарками. Однако изучение материала подтверждает идею о заимствовании и разработке некоторых, найденных при работе над пьесой визуальных идей и решений. Но более всего поражает общее концептуальное созвучие пьесы и сценария фильма.
2. Сюжет
Сам Андреев гордился, что эта пьеса - «сложная, громоздкая, декоративная почти до степени оперы или балета»12 - не отражает персональной истории, это история бунта голодных, жестоко подавленных сытыми. Возможно именно этим формальным признаком и привлек «Царь Голод» Тихоновича: общеизвестно, что хор как действующее лицо был необходимым выразительным средством практически во всех театральных экспериментах Пролеткульта. Возможно, именно под влиянием этих практик Эйзенштейн в 1920-е годы считал фабулу, построенную на судьбе отдельного индивида, устаревшим приемом буржуазного искусства. И надо сказать, что этот принцип он внедряет в кинематографе гораздо более последовательно и выразительно, чем в своих театральных опытах.
Современники «Стачки» посчитали главным свойством картины - кто-то достоинством, а кто-то недостатком - ее «многоголосый стиль», иными словами, тот факт, что действующим лицом был не индивидуум, а класс. «Сюжетом ленты стало взаимодействие масс»13, - писал о «Стачке» Виктор Шкловский. Здесь - помимо опыта
Кадр из фильма «Стачка». 1924
и влияния Пролеткульта - существует прямая параллель с пьесой Андреева, где действует хор голодных, хор сытых, хор воров и убийц.
Вторым интересующим нас фактом является сходство композиций. Действие «Царя Голода» делится на шесть частей, в каждой из которых показана определенная социальная среда: рабочие, аристократы, суд, голодная чернь. Вот как это выглядит:
1/ Царь Голод клянется в своей верности голодным
2/ Царь Голод призывает к бунту работающих
3/ Царь Голод призывает к бунту голодную чернь
4/ Суд над голодными
5/ Бунт голодных и предательство Царя Голода
6/ Поражение голодных и ужас победителей.
Фильм также делится на шесть частей, там можно выделить четыре среды обитания: рабочие, хозяева фабрики, мир криминала, полицейская охранка.
Разумеется, я не оспариваю факты: общеизвестно, что сценарий «Стачки» сочинялся на основании реальных событий рабочего движения в России, авторами была проведена исследовательская работа, материалом для «Стачки» стали в основном воспоминания старых большевиков.
Однако при сравнительном анализе сценария и пьесы, я прихожу к выводу, что в них возникают подчас буквальные совпадения, и нужно чуть-чуть видоизменить андреевские формулировки по-эпизодного плана, чтобы увидеть, как он легко трансформируется в сюжетную схему «Стачки».
Для удобства сравнения объединим оба синопсиса в таблицу.
Можно заметить, что и пьеса и сценарий в качестве сюжетных узлов используют: призыв к бунту, предательство, провокацию,
расправу над восставшими.
Третья и шестая части сюжетов совпадают практически буквально, заметим, что эмоционально это наиболее сильные части «Стачки». И независимо от того, что у Андреева каждое действие привязано к определенной локации и каждая среда обитания развернута в рамках лишь одной части, а Эйзенштейн применяет свой знаменитый параллельный монтаж, запуская несколько сюжетных потоков одновременно - и здесь, и там все четыре социальных слоя участников маркированы совершенно одинаково: угнетенные, угнетаемые, государственная власть, чернь. Различие заключается не только в монтаже, но и в способе построения действия. У Андреева мы видим, как
"Царь Голод" «Стачка»
1 Царь Голод клянется в своей верности голодным Самоубийство обвиненного в краже рабочего
2 Царь Голод призывает к бунту работающих Активисты призывают к стачке рабочих
3 Царь Голод призывает к бунту голодную чернь Хозяева завода призывают Охранку. Охранка призывает к бунту чернь.
4 Суд сытых над голодными Хозяева отказывают рабочим в их требованиях
5 Бунт голодных и предательство Царя Голода Продолжение Стачки и предательство Рабочего
6 Поражение голодных и ужас победителей Провокация черни. Расстрел рабочих
правило, лишь начало или результат события: предательства, восстания или его подавления, тогда как Эйзенштейн разворачивает всю последовательность, от зарождения до финала.
И хотя сам факт заимствования теперь уже не установим, по косвенным признакам я делаю вывод о значительном влиянии пьесы на сюжет фильма. Более того, в пьесе Леонида Андреева впервые художественно отражен механизм зарождения, развития и подавления народного восстания. Эйзенштейн же разработал этот механизм подробно и приблизил его к исторической действительности - России начала ХХ века. Возмущение - восстание - требования -провокации - жестокое подавление.
3. Локации и персонажи
Ремарка первого акта «Царя Голода»: «При раскрытии занавеса глазам представляется, в черном и красном, внутренность
завода. Красное, огненное - это багровые светы из горна, раскаленные полосы железа, по которым, извлекая искры, бьют молотами черные тени людей»14.
В первом варианте сценария "Стачки" действие начиналось так же в сталелитейном цеху:
«Наплыв. Мелко. Работающий завод. (Сверху.) [...] Брызжет раскаленная сталь, наливается в котел. [...] Наплыв на мелкие брызги. Потные лица литейщиков. Крупно. Крупно. [...] Котел с расплавленной сталью проезжает по литейной»15.
На этапе съемок от литейного цеха пришлось отказаться, это не отменяет того факта, что «Стачка» начинается с кадров, показывающих «внутренности завода».
Однако образы рабочих в «Стачке» и в эскизах к «Царю Голоду» отличаются принципиально. Оформляя спектакль, Эйзенштейн стремился следовать подробным ремаркам Андреева и внимательно вчитывался в пьесу. Например, делая наброски и
чистовые эскизы к первому акту пьесы, он следует не только описательным ремаркам, но и вычленяет из хора реплики, принадлежащие тем или иным персонажам. Например, у Андреева мы читаем: «Третий Рабочий - сухой, бесцветный, будто долго, всю жизнь, его мочили в кислотах, съедающих краски»16. Эйзенштейн же берет за основу художественного решения реплику: «Меня плющит железный молот. Он выдавливает кровь из моих жил - он ломает кости - он делает меня плоским, как кровельное же-лезо»17, - согласимся, этот текст воспроизводится художником в эскизе почти буквально. На эскизе мы можем прочесть сделанные рукой Эйзенштейна указания для изготовления костюма: «Очень грубый материал (толстый холст) в буроватых тонах ржавого железа». Здесь можно сделать предположение, что дух андреевской пьесы близок художнику-Эйзенштейну, что его вдохновляет текст «Царя Голода».
Даже если речь не идет о прямых использованиях в фильме образов, найденных в работе над пьесой, мы можем указать приметы косвенного влияния. Например, хор рабочих в первой картине у Андреева имеет трех корифеев: Первый - рабочий-геркулес,
Эскиз костюма Третьего рабочего. С. Эйзенштейн
Эскизы костюмов Рабочих
Эскиз костюма Царя Голода. С. Эйзенштейн
Второй - рабочий-поэт и Третий - уже описанный нами рабочий-старик.
В «Стачке» у Эйзенштейна мы тоже видим рабочую массу, из которой выделены трое: Пожилой рабочий, Молодой сильный рабочий и Рабочий-партиец.
И хотя в фильме, в отличие от художественного замысла пьесы, Эйзенштейн стремился воплотить жизнь завода максимально реалистически, мы понимаем, что типажно он вольно или невольно воспроизводит андреевскую троицу из «Царя Голода».
Здесь есть и еще одна - не очень заметная, однако принципиальная параллель. Протагонистом драмы Андреева является, как известно, сам Царь Голод - аллегорическая фигура, призывающая рабочих к бунту в начале пьесы и предающая их богатым и сытым в ее кульминации. Образ Царя Голода Андреев заимствовал у Некрасова: «В мире есть царь, этот царь беспощаден, голод названье ему.»18, - эти строки из «Железной дороги» были известны драматургу с гимназических времен.
Работая над пьесой, Эйзенштейн, естественно, много размышлял над решением этой фигуры. К сожалению, костюмы и грим Голода дошли до нас только в черновых версиях. Однако один из карандашных эскизов выполнен довольно тщательно: с описанием цветового решения и типа ткани. Общее решение фигуры сделано в близкой к футуризму манере, однако без обычной для Эйзенштейна иронии. Напротив, мы видим, что художник романтизирует эту фигуру: тут и огромные глаза и узкий надменный подбородок и практически балетный костюм, основные цвета которого - серый и серебристый, а материал - газ. Это отчасти зловещий, но все же трагический персонаж. Виденье Эйзенштейном образа главного героя не противоречит описанию Андреева: «Царь Голод движется беспокойно и страстно, так что трудно составить представление о его фигуре. Заметно только, что он высок и гибок»19, - так видит его автор в Прологе. И еще - в Первой картине: «Он высокого роста, худощавый и гибкий; лицо его, с огромными черными, страстными глазами, костляво и бледно; и волосы на точеном черепе острижены низко. До пояса он обнажен, и в красном свете отчетливо рисуется его сильный, жилистый торс.»20. Своеобразной параллелью к этому персонажу в «Стачке» является фигура Молодого рабочего, предавшего и стачку, и своих товарищей, соблазненного и «купленного» агентами царской охранки. Так же, как и
Царь Голод, предатель-рабочий мучается содеянным и презирает своих новых «хозяев» - полицейских и агентов охранного отделения.
Что же касается поэтики «Царя Голода» и «Стачки», то и здесь мы обнаруживаем много общего. На сегодняшний день опубликовано уже немало исследований на тему экспрессионистских корней творчества Леонида Андреева21. Наряду с такими рассказами, как «Стена» и «Красный смех», пьеса «Царь Голод» - произведение, в котором подобные мотивы прослеживаются с очевидностью. Общеизвестно, что русский экспрессионизм не оформился как течение, однако его черты выделяются в творчестве многих выдающихся художников 1910-1920-х гг., в том числе и у Эйзенштейна. Отмечается его восхищение немецким кинематографом Ланга, Мурнау и Вине, и то, что разработанная им поэтика эксцентризма, монтаж аттракционов во многом пересекались с экспрессионистской эстетикой. В первом полнометражном фильме Эйзенштейна «Стачка» и его всемирно известном «Броненосце "Потемкин"» прослеживаются черты немецкого экспрессионизма. Однако я полагаю, что в этом смысле влияние на «Стачку» оказала именно пьеса Леонида Андреева.
Одна из выдающихся сюжетных линий «Стачки» связана показом излюбленных персонажей экспрессионистов - «людей дна». В фильме агент охранки подбивает криминальный элемент - так называемых «ребят Короля» совершить поджог винного магазина в рабочем поселке, и тем самым спровоцировать полицию и оправдать жестокое подавление стачки. Этот сюжетный узел - прямое повторение второй картины андреевской пьесы, только там к «людям дна» приходит сам Царь Голод, предлагая ворам, убийцам, проституткам и сутенерам, - словом, «детям Царя Голода» вложить свою лепту в бунт рабочих, здесь кстати возникает мотив пожара, который потом использует Эйзенштейн в «Стачке»:
Эскиз декорации к второй картине «Царя Голода»
Эскиз декорации к второй картине «Царя Голода» (вариант)
«.Бунт! Горячая потеха! Хо-хо-хо!
- Запасайтесь спичками.
- Спички дешевы! [...] Огонь!
- Будет светло. Хо-хо-хо!»22
Судя по сохранившимся эскизам, художник Эйзенштейн прорабатывал вторую картину пьесы «Царь Голод» самым подробным образом. Несколько эскизов декорации, множество зарисовок костюмов и образов, эскизы грима - все говорит о
том, что эта сцена особенно вдохновляла молодого Эйзенштейна и он не столько рисовал костюмы, сколько выдумывал персонажей. В дальнейшем эпизод «Кадушкино кладбище» во многом опирается на третью картину пьесы Андреева.
Действие картины Андреев предварил ремаркой, подробно описывающей не только пространство, но и атмосферу: чернь обитает в огромном подвале со сводчатыми потолками: «в углах помещения и на дальнем конце его валяется всякая рухлядь: пустые, полурассыпавшиеся бочки без обручей, какие-то доски, деревянные козлы и т. п.»23. Чернь, сидя за столом «на бочонках и досках», проводит собрание. Как мы видим на эскизе, центром композиции у Эйзенштейна становится бочка.
Что ж, именно «кладбище бочек» - «Ка-душкино кладбище» становится в «Стачке»
самым ярким аттракционом, его визитной карточкой, и мы можем предположить, что эта блестящая идея связана с работой над «Царем Голодом».
Эйзенштейн сочиняет персонажей: вот Председатель отребья - прототип будущего Короля Бориса Юрцева, из эскиза костюма вора в фильм войдет идея костюма - штаны с одной брючиной или же штаны, составленные из частей брюк разных фасонов. А вот Любовница Председателя войдет в фильм практически без изменений: ее костюм наденет блистательная Юдифь Гли-зер, играя в «Стачке» «Королеву» воров.
Есть еще одна примечательная деталь. В набросках Эйзенштейна к этой картине навязчиво повторяется один и тот же эскиз - это маленький бочкообразный человечек, в одном из рисунков есть подпись «кретин» - интересно, что этого персонажа Эйзенштейн придумал, в тексте Андреева его нет, но в «Стачке» появится весьма похожий герой - карлик ростом с бочку, паж «Короля».
4. Кульминация
Финальная часть «Стачки» - расстрел рабочих, ассоциативно смонтированный Эйзенштейном с эпизодом забоя быка,
Б. Юрцев - Король. «Стачка»
Экиз костюма Вора. «Царь Голод»
Кадр из фильма «Стачка»
могла бы идти с интертитрами из пьесы Андреева: «Перед жерлом пушки, теряясь в густых сумерках, лежат трупы убитых. Это голодные. И смутно рисуется над мертвым полем острый силуэт Смерти»24. Разница в том, что у Андреева лишь мертвые тела, Эйзенштейн же разворачивает перед нами всю «фабрику бойни». Также эти сцены смонтированы с эпизодом бахвальства Начальника полиции, который вполне мог бы - будь этот фильм звуковым - пользоваться репликами Андреева: «Чего добились? Куда шли? На что надеялись? У нас пушки, у нас ум, у нас сила, - а что у вас, несчастная падаль?»25.
Финальный эффект «Царя Голода», когда трупы голодных начинали шевелиться, поднимали мертвые головы и открывали мертвые рты, вызывая ужас сытых и ликование Царя Голода: «Мы еще придем. Мы еще придем. Горе победителям»26 - этот фирменный андреевский прием, найденный им еще в «Красном смехе», должен был использоваться в «Стачке». В книге «Эйзенштейн: Попытка театра» Владимир Забродин утверждает: эпилог фильма, как он был задуман - первомайская демонстрация 1924 года и выступление Льва Троцкого на Коломенском заводе 12 июля 1924 года27. Доподлинно установлено, что такой финал, запечатлев-
Кретин - эскиз ко второй картине «Царя Голода»
ший победу рабочего движения, был снят Эйзенштейном, но товарищ Троцкий попал к моменту выпуска фильма в большевистский «стоп-лист», и от этих кадров пришлось отказаться. Таким образом фильм вышел с трагическим финалом поражения и гибели восставших, как будто аллегорическая фигура андреевской Смерти разгуливает по усеянной трупами рабочих земле.
6. Выводы
Говоря о сюжетных совпадениях «Царя Голода» и «Стачки», надо учитывать тот факт, что сценарий фильма, опубликованный у нас в 1970-е годы - это отнюдь не художественный текст, а т.н. номерной сценарий, где последовательно перечисляются кадры с техническими подробностями съемки, и по нему очень трудно судить о сюжете и композиции, тем более что Эйзенштейн очень много импровизировал во время съемок. Огромный в записи Пролог так и не был снят. Именно поэтому мы предпочитаем сравнивать пьесу с материей и сюжетом самого фильма.
Маловероятно, чтобы авторы, разрабатывая сценарий под руководством режиссера, хоть раз вспомнили о пьесе Андреева. Полагаю, что, даже смонтировав фильм, Эйзенштейн не осознавал, насколько тесно сюжет «Стачки» соотносится с пьесой, над которой он три года назад работал как художник. Во всяком случае, в доступных нам источниках из его огромного архива таких сопоставлений нет.
Тем не менее, я стремилась доказать, что нереализованный замысел «Царя Голода», где Эйзенштейн подходил к пьесе не только как художник, но и как режиссер, значительно повлиял на его первую полнометражную картину. Пьеса Леонида Андреева во многих аспектах отзывается в сюжете, композиции, атмосфере и персонажах «Стачки» Сергея Эйзенштейна, и историческое невнимание к этому факту произошло, как я думаю, по причине незнакомства большинства киноведов с пьесой «Царь Голод»
1 С. М. Эйзенштейн: pro et contra, антология. Издательство РХГА, 2015.
2 Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка. М.: Наука, 1965. C. 274.
3 Аксёнов И.А. Из творческого наследия:
В 2 т. Т. 1: Письма, изобразительное искусство, театр. М.: RA, 2008. С. 428.
4 См.: Тихонович В.В. 50 лет в театре и около театра. Научная библиотека СТД. Отдел рукописей. Т. 1. C. 46.
5 Там же. Т. 1. С. 210.
6 См.: Щербаков В. Конструктивистская утопия Мейерхольда//Вопросы театра. 2014. № 3-4. С. 148-160.
7 Тихонович В.В. О театральных октябрях // Вестник работников искусств. 1921. № 4-5, январь-февраль. С. 23-24.
8 Цит. по: Забродин В.В. Эйзенштейн: Попытка театра. М.: Эйзенштейн-центр, 2005. С. 99.
9 Там же. С. 101.
10 Цит. по: Эйзенштейн в воспоминаниях современников / Сост.-ред., авт. примеч. и вступит. ст. Р.Н. Юренев. М.: Искусство, 1974. С. 78.
11 Там же. С. 111.
12 Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка. С. 300.
13 Шкловский В. Б. Эйзенштейн. М.: Искусство, 1973.С. 25.
14 Андреев Л.Н. Драматические произведения: В 2-х т. Л.: Искусство, 1989. Т. 1. С. 237.
15 Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в шести томах. М.: Искусство, 1964-1971. Т. 6. С. 38.
16 Андреев Л. Н. Драматические произведения. Т. 1. С. 242.
17 Там же. С. 238.
18 Некрасов Н.А. Стихотворения и поэмы. М.: Худож. лит., 1971. С. 172.
19 Андреев Л.Н. Драматические произведения. Т. 1. С. 235.
20 Там же. С. 238.
21 См.: Филоненко Н.Ю. Становление и развитие поэтики экспрессионизма в твочестве Л.Н. Андреева 1898-1908: дисс. канд. филол. наук. Липецк, 2003; Шестакова М.А. Развитие экспрессионистических тенденций в романистике Л.Н. Андреева// Вестник САМГу. 2014. № 1 (112). С. 146-152; Лахно Е.А. Драматургия Л. Андреева в интерпретации исследователей конца ХХ - начала XXI века // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. №16 (245). С. 66-69. и др.
22 Андреев Л.Н. Драматические произведения. Т. 1. С. 269.
23 Там же. С. 260.
24 Андреев Л.Н. Драматические произведения. Т. 1. С. 298.
25 Там же. С. 301.
26 Там же. С. 302.
27 См.: Забродин В.В. Эйзенштейн: Попытка театра. М.: Эйзенштейн-центр, 2006. С. 233-235.





 CC BY
CC BY 50
50