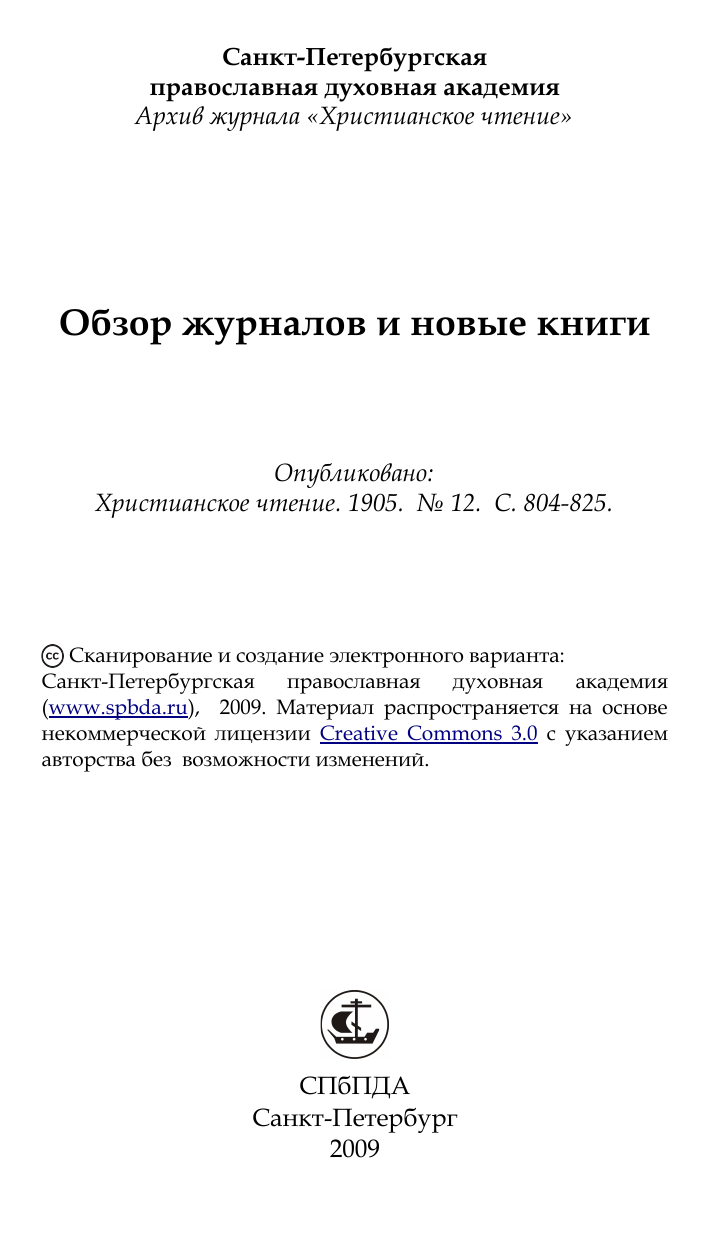Санкт-Петербургская православная духовная академия
Архив журнала «Христианское чтение»
Обзор журналов и новые книги
Опубликовано:
Христианское чтение. 1905. № 12. С. 804-825.
© Сканированій и создание электронного варианта: Санкт-Петербургская православная духовная академия (www.spbda.ru), 2009. Материал распространяется на основе некоммерческой лицензии Creative Commons 3.0 с указанием авторства без возможности изменений.
СПбПДА
Санкт-Петербург
2009
Обзоръ журналовъ и новыя книги.
і.
Статьи по апологетикѣ и догматикѣ въ академическихъ журналахъ за 1905 годъ.
Статьи цроф. Глаголева. II. Свѣтлова, В. Керенскаго, А. Булгакова, II. Пономарева. В. Пѣвницкаго, о. I. Орфанитскаго, И. Четверикова.
Вышедшія доселѣ двадцать четыре книжки трехъ академическихъ журналовъ сравнительно очень небогаты статьями по указаннымъ двумъ отраслямъ богословской науки. „Религія, какъ основа жизни“ проф. С. С. Глаголева; „Старокатолическій вопросъ въ духовной печати за 1904 г., къ вопросу о соединеніи церквей и кгь ученію о Церкви“ прот. IT. Свѣтлова; вызванное этой статьей „Второе вынужденное слово“ г. Z.; „Американская епископальная церковь. Ея происхожденіе н состояніе преимущественно въ вѣроисповѣдномъ отношеніи“, проф. В. А. Керенскаго,. „Законность и дѣйствительность англиканской іерархіи съ точки зрѣнія православной церкви“, проф. А. И. Булгакова; „Ученіе Ѳомы Аквината о таинствѣ Евхаристіи (По поводу письма епископа Графтона. „Церковный Вѣстникъ“ за 1903 г. № 43—44) проф. П. П. Пономарева; „О воскресеніи мертвыхч.“ проф. В. Ѳ. Пѣвницкаго: да двѣ рѣчи предъ защитой магистерскихъ диссертаціи-- свящ. I. А. Орфанитскаго („Гѣчь предъ защитой диссертаціи: „Историческое изложеніе догмата объ искупительной жертвѣ Господа нашего I. Христа“) и И. Четверикова („Ученіе о личномъ Богѣ сгь точки зрѣнія этической цѣнности“),—вотъ и весь перечень всего, что дано въ области апологетическаго и догматическаго богословія.
Проф. С. С. І'лаюлевъ въ своей статьѣ („Бог. В.“, янв.— февр.), написанной со свойственною ему всегда живостью и общедоступностью изложенія, раскрываетъ и обосновываетъ Старую и непреложную истину, что только одна религія можетъ быть основой человѣческой жизни и дѣятельности. Установивъ, что кромѣ необходимости природной и преданія или обычая, жизнью человѣческой управляютъ еще два начала: личныя влеченія, наклонности человѣка и нравственный долгъ, авторъ утверждаетъ, что эти начала необходимо опираются на предположенія существованія свободы и ІІровидѣнія, по-дробнымч> раскрытіемъ коихъ онъ затѣмъ и занимается. Существованіе свободы свидѣтельствуется непосредственнымъ чувствомъ и сознаніемъ. Поэтому ученіе о человѣческой свободѣ имѣетъ чисто опытное происхожденіе, тогда как'ь детерминизмъ—ученіе, отрицающее свободу человѣка, имѣетъ теоретическое происхожденіе, „единственнымъ, основаніемъ его въ дѣйствительности является то, что люди руководятся очень плохою теоріею причинности“, именно понимая ее какъ необходимость. Но при такомъ пониманіи причинности оказывается недопустимымъ и понятіе развитія. „И прогрессъ и регрессъ, въ мірѣ предполагаютъ, что въ причинности заключается свобода... Если бы причинность была необходимостью, то тогда всегда существовало бы одно и то же... Причинность, какъ необходимость, не допускаетъ ни приращенія, ни умаленія: но въ мірѣ постоянно наблюдаются явленія того и другого характера“. Поэтому причину необходимо мыслить, какъ свободную силу, какъ силу той или иной напряженности, которая можетъ свободно располагать собою въ томъ или другомъ пространствѣ, въ то или иное время. Далѣе, теорія детерминизма совершенно не можетъ, дать объясненія многихъ фактовъ и нормъ,, управляющихъ, духовной жизнью человѣка—идей нормальнаго и ненормальнаго, добраго и злого, законнаго и незаконнаго, чувства долга и идеаловъ,. Безъ наличности свободы, судъ, надъ преступникомъ,—жалкая комедія, негодованіе общества на преступника— необходимый, но безсмысленный фактъ, колебанія человѣка предъ извѣстнымъ, рѣшеніемъ походили бы на размышленія пущеннаго изъ пушки ядра, куда ему полетѣть, если бы оно было одарено человѣческими способностями. Детерминизмъ не въ состояніи никогда и защититъ себя, не допуская въ защитѣ внутренняго противорѣчія, потому что во всякой
его аргументаціи „можно десятками подчеркивать тезисы автора о его личной свободѣ и отвѣтственности4*. Не можетъ детерминизмъ никогда ни для кого и стать практическимъ правиломъ жизни. „Если собрать все сказанное въ жизни какимъ-либо упорнѣйшимъ детерминистомъ, то окажется, что въ отношеніи къ этому всему его тезисы и разсужденія о детерминизмѣ представляютъ такую ничтожную величину, которая должна быть выражена дробью, имѣющею знаменатель со многими нулями44. Въ рѣшительномъ противорѣчіи съ детерминизмомъ стоитъ какъ исторія отдѣльныхъ лич • ностей, такъ и исторія обществъ и человѣчества. „Если бы это ученіе было справедливо, то процессъ развитія человѣка и человѣчества долженъ бы была, состоять въ томъ, что фактъ необходимости всего совершающагося все яснѣе и яснѣе представлялся бы развивающимся по необходимости обществамъ и индивидуумамъ, и они все покорнѣе и покорнѣе склонялись бы пред'ь этою несокрушимою силою“. Между тѣмъ, надѣлѣ происходить совершенно обратное. Начальные моменты жизни индивидума характеризуются наибольшей зависимостью отъ окружающаго, и чѣмъ больше онъ растетъ и развивается, тѣмъ меньше становится эта зависимость. Точно также и народъ: чѣмъ ниже онъ въ культурномъ отношеніи, тѣмъ больше стѣснена его свобода—предразсудками, обычаями и под.; чѣмъ выше становится его культура, тѣмъ больше является въ немъ и свободы. Признаніе свободы отнюдь не стоитъ въ противорѣчіи, какъ нѣкоторые полагаютъ, и съ принципами и методами науки. Противное мнѣніе детерминистовъ покоится на томъ неправильномъ предположеніи, что между явленіями существуетъ лишь связь необходимости, что всякая совокупность данныхъ обусловливаетъ лишь одинъ результатъ. Если свободную связь трудно понять, то и связь необходимости понять также трудно. Признаніе свободы требуется и признаніемъ долга. Отсюда же необходимо признать и цѣлесообразность въ процессѣ міровой жизни, признать жизнь служеніемъ добру, и осуществимость идеала добра вгь посмертной жизни, въ вѣчности. Возраженія противъ идеала добра—указаніе на законы борьбы іі взаимопожиранія — не имѣютъ неоспоримой силы; а между тѣмъ безъ вѣры въ полное осуществленіе этого идеала невозможна и разумная дѣятельность человѣка, и прогрессивное движеніе человѣчества лишается всякаго смысла. Вотъ по-
чему у всѣхъ народовъ и древняго и новаго міра существовала вѣра въ безсмертіе, въ продолженіе жизни за гробомъ. Въ связи съ этимъ раскрывается несостоятельность теорій матеріализма, гилозоизма и пантеизма, которыми одинаково отрицается возможность личнаго безсмертія человѣка. Возможность разумной дѣятельности, основывающаяся но вѣрѣ въ достижимость полнаго осуществленія идеала добра, въ свою очередь постулируетъ къ вѣрѣ въ цѣлесообразность мірового процесса и въ бытіе высшаго разума, который управляетъ этимъ процессомъ, указывая человѣчеству путь, по которому нужно идти къ блаженной цѣли, и давая средства къ тому, чтобы люди могли идти по этому пути. Э га дѣятельность Высшаго Разума и называется Провидѣніемъ. Вѣра въ существованіе высшаго міра, который помогаетъ намъ въ нашихъ благихъ стремленіяхъ, находя для себя основанія въ самонаблюденіи и наблюденіи, является и необходимымъ логическимъ выводомъ изъ всякаго міропостроенія, — между прочимъ, и эволюціонной теоріи. Съ точки зрѣнія этой теоріи необходимо долженъ существовать высочайшій разумъ. „Разумъ, какъ и матерія, эволюціонируютъ отъ вѣчности, и слѣдовательно, какъ бы далеко мы мысленно ни отодвигали прошлое—на билліоны и трилліоны вѣковъ,—мы неизбѣжно должны мыслить, что совершенный разумъ уже существовалъ въ то отдаленное время. А между этимъ разумомъ и человѣкомъ эволюціонный процессъ долженъ былъ создать безчисленное количество существъ по своему разуму выше человѣка и ниже высшаго разума. Продуктомъ эволюція долженъ явиться высшій разумный міръ, но такъ какъ эволюціонный процессъ существовалъ отъ вѣчности, то, слѣдовательно, высшій духовный міръ существовалъ всегда“. Эволюціонизму остается только переставить причины и слѣдствія, — признать, что Высшій Разумъ есть не продуктъ мірового процесса, совершающагося, по нему, отъ вѣчности, а причина этого процесса, и т. о. признать то самое, во что всегда вѣрило человѣчество. Вмѣстѣ съ признаніемъ Высшаго Разума должно признать и возможность чуда. Если современныя науки противъ чуда, то дѣлается это отнюдь „не во имя какихъ-нибудь общенаучныхъ принциповъ, а единственно во имя метафизическаго принципа, что сверхъестественнаго не существуетъ“. Понятіе Высшаго Разума не заключаетъ въ себѣ, какъ показывается авторомъ далѣе, никакихъ тѣхъ
внутреннихъ противорѣчій, какія пытается укапать философія. Мыслители, которые стараются найти такія противорѣчія, по его мнѣнію, оказываются „неправы вдвойнѣ: во—1) кт, этимъ понятіямъ необходимо приходитъ мысль и ими необходимо— хотя бы даже и при словесномъ отрицаніи ихъ—регулируется человѣческая дѣятельность. Во—2) утвержденіе о несообразности и противорѣчивости покоится у этихъ мыслителей на той игрѣ понятій безконечности и конечности, абсолютности и зависимости, при помощи которой можно построить какіе-угодно софизмы и отрицать какія-угодно истины".—Изъ всего сказаннаго получается заключительный выводъ: идея Бога, Провидѣнія, долга и свободы не только даютъ намъ разумное міросозерцаніе, истолковываютъ намъ міръ, но имѣютъ и практическое значеніе, указывая именно на то, что человѣку должно дѣйствовать согласно съ Про-видѣніемъ, иными словами—ѵсовершаться самому и усовер-шать другихъ въ познаніи истины и осуществленіи добра. Будучи же основой всей вообще сознательно разумной и нравственной дѣятельности человѣка, религія должна служить, и въ дѣйствительности всегда служитъ, идеальною основою и жизни государственной.
Прот. П. Свѣтловъ, съ взглядами котораго по старокатолическому вопросу читатели нашего журнала отчасти знакомы по краткимъ обзорамъ предшествующихъ двухъ лѣтъ, далъ въ этомъ году на страницахъ „Богосл. Вѣстника“ „длинное обозрѣніе статей о старокатоличествѣ въ духовной печати за 1904 г.“. Это дѣйствительно „длинное“ обозрѣніе состоитъ изъ пяти главъ,. Въ первой авторъ разъясняетъ тѣ условія, которыя создаютъ у насъ неблагопріятную атмосферу для рѣшенія вопроса о соединеніи церквей, этой „насущной задачи нашего времени, начинающаго понимать цѣну мира". Первымъ и главнымъ условіемъ, по его мнѣнію, является узкій конфессіонализмъ, который есть не что иное, какъ „незаконная любовь къ своей вѣрѣ, соединенная съ презрѣніемъ и нетерпимостью ко псякой чужой вѣрѣ, чужому вѣроисповѣданію — только потому, что они чужія, а не свои11. Самое рѣзкое воплощеніе этотъ конфессіонализмъ нашелъ, въ римско-католической церкви, которая учитъ о себѣ какъ единственной представительницѣ и воплощеніи всей вселенской церкви. Но слѣды и отголоски этого ученія не чужды и нашей церкви, и встрѣчаются здѣсь
въ видѣ частнаго мнѣнія отдѣльныхъ лидъ. Пагубнымъ слѣдствіемъ конфессіонализма является затемнѣніе въ сознаніи идеи единства христіанскаго міра, забвеніе о томъ, что всѣ христіанскія церкви согласны въ признаніи всѣхъ основныхъ истинъ христіанскаго откровенія, и что различія между церквами въ пониманіи основныхъ догматическихъ вѣрованій въ общемъ не больше и не меньше тѣхъ, какія наблюдаются внутри отдѣльныхъ церквей и какія неизбѣжно вызываются психологическою природою человѣческаго познанія вообще съ неизбѣжностью въ немъ индивидуальнаго отпечатка познающей личности“. Отсюда, на мѣсто живого, органическаго единства, единства въ многообразіи, ставится единство механическое, внѣшнее, единство мертваго однообразія, требующее признанія всего, чему учитъ церковь, безъ различія существеннаго отгь несущественнаго, важнаго отъ второстепеннаго, подъ угрозой анаоемы за самое наималѣйшее отступленіе. Вторымъ неблагопріятнымъ условіемъ является славянофильское воззрѣніе по церковному вопросу, въ частности воззрѣніе Хомякова, начинающее пользоваться теперь особеннымъ вліяніемъ, поскольку оно признаетъ субстанціальное различіе между христіанскимъ Западомъ и православнымъ Востокомъ и крайне пессимистически смотритъ на западное христіанство. Подъ вліяніемъ указанныхъ двух'ь условій, „въ связи съ другими однородными вліяніями и теченіями“, „горячее стремленіе освободившихся отъ латинскихъ заблужденій старокатоликовъ къ соединенію съ православными не нашло себѣ не только практическаго разрѣшенія, но и выросло въ богословіи изъ дѣла довольно яснаго въ мудреный „старокатолическій вопросъ“, или въ предметъ школьно-богословскихъ пререканій и безконечной полемики въ логомахическомгь направленіи“. Эпизодомъ въ этой „безконечной полемикѣ“ является въ большей своей части и „длинное обозрѣніе“ о. П. Свѣтлова. Въ гл. II о. П. Свѣтловъ подробно передаетъ содержаніе статьи А. А. Кирѣева „Отвѣтъ проф. В. А. Керенскому“, помѣщенной въ март. кн. „Бог. Вѣстника“ за прошедшій годъ; „разбираетъ“ затѣмъ отвѣтную статью на этотъ „Отвѣтъ“ проф. В. А. Керенскаго: „Къ старокатолическому вопросу“, напечатанную въ Христ. Чт. 1904 г. (іюль и сентябрь), находя его полемику по всѣмъ пунктамъ крайне неудачной, и въ частности сужденія о церкви противорѣчивыми и страдающими путаницей вгь
терминологіи ’); передаетъ далѣе сущность статьи игумена Сергія „О старокатоликахъ“ (Церк. В., 1904, №№ 10—11), которая на него „производитъ впечатлѣніе, какъ будто она упала съ луны, гдѣ ничего не вѣдаютъ о нашей старокатолической полемикѣ“, и, наконецъ, излагаетъ содержаніе „Отвѣта о. игумену Сергію“ А. А. Кирѣева.—Въ главѣ III своего „длиннаго обозрѣнія“ о. Свѣтловъ занимается главнымъ образомъ полемикою съ профессоромъ Гусевымъ. Осудивъ покойнаго профессора за то, что въ своемь „Послѣднемъ словѣ о старокатоличествѣ и его русскихъ апологетахъ“ онъ допускаетъ „отступленія въ сторону“, за „многое, не-имѣюіцее никакого отношенія къ старокатолическому вопросу, о. П. Свѣтловъ, видимо считая законы для Казани необязательными для Кіева, предолго распространяется объ условіяхъ, въ которыя у насъ поставлено научно-богословское знаніе, о 8-мъ пунктѣ Высочайшаго Указа отъ 12 декабря 1904 г., даетъ характеристику и оцѣнку трехъ періодовъ литературной дѣятельности проф. Гусева, говоритъ о пришибленности нашего духовенства, увѣдомляетъ о томъ, что онъ, о. Свѣтловъ, по мнѣнію какого-то Л. 2), „представляетъ собою яркій и поучительный образчикъ современныхгь нравовч.“, словомъ, усердно подражая своему противнику, говоритъ „многое, неимѣющее никакого отношенія къ старокатолическому вопросу“. Вслѣдъ за такимъ „порханіемъ" идутъ (опять не имѣющія отношенія къ старокатолическому вопросу) длинныя препирательства съ проф. Гусевымъ по вопросамъ о томъ, въ какомъ смыслѣ рекомендуются церковною властью руководства по догматикѣ, насколько компетентенъ одинъ изъ оффиціальныхъ рецензентовъ о. Свѣтлова, есть ли у о. Свѣтлова противорѣчія въ его писаніяхъ и л и це дѣ й ству етъ ли онъ. Дальше о. Свѣтловъ хочетъ „легко сразу показать разсмотрѣніемъ методологической стороны существенной части «Послѣдняго слова», относящейся къ „церковному вопросу“, что разсу-
') Хотя на самомъ-то дѣлѣ такія отрицательныя качества принадлежатъ полемикѣ самого о. Свѣтлова, а не его противника, какъ ото основатель но доказано и проф. Керенскимъ, и другими лицами. Ред-
-) Если только нс ошибаюсь, о. Свѣтловъ желаетъ считать этого Л. и „того же обозрѣвателя II. Леиорскаго“ за одно и то же лицо. Пусть о. Свѣтловъ обратится, если хочетъ, за раскрытіемъ этого иниціала Л. къ редакціи „Трудовъ К. Д. Академіи“, ибо г. Л. и „со мною незнакомъ".
жденія проф. Гусева и его критика взглядовъ о. Свѣтлова но церковному вопросу „не имѣютъ никакого научнаго значенія“; перечисляетъ три „непозволительныхъ пріема“ проф. Гусева и представляетъ иллюстраціи къ нимъ. Указываются затѣмъ ошибки въ ученіи Гусева о церкви: одностороннеюридическое и матеріальное-чувственное понятіе о церкви, какъ только объ учрежденіи, отожествленіе наличной вселенской церкви съ греко-восточною, доказывается неправильность пониманія Гусевымъ словъ чина присоединенія инославныхъ, а также сужденіи по вопросу объ отношеніи инославныхъ церквей запада къ восточной церкви прот. Сергіевскаго, м. Платона, еп. Ѳеофана, Серафима Саровскаго, м. Филарета московскаго, изобличается механическое пониманіе у Гусева единства церкви въ вѣрѣ, разъясняется, какъ Гусевъ „ополчается на ученіе о любви, какъ важнѣйшемъ и существеннѣйшемъ въ содержаніи христіанства“, и въ заключеніе изрекается приговоръ объ умершемъ профессорѣ, что богословомъ-догматистомъ „онъ не былъ и не могъ быть“, а только „возмнилъ о себѣ“, какъ о таковомъ.—Въ концѣ III гл. разсматриваются полемическая замѣтка Z. „Вынужденное слово“ и статья проф. Д. И. Богдашевскаго „О Церкви“, помѣщенная въ „Трудахъ К. Д. Академіи“. Въ первой о. Свѣтловъ считаетъ достойнымъ вниманія только „обнаруженное у Z стремленіе отдѣлываться отъ живыхъ вопросовъ путемъ скорѣйшей сдачи ихъ въ архивъ, какъ дѣлъ рѣшенныхъ“, да находитъ интереснымъ „сообщеніе разныхъ ужасовъ объ о. Свѣтловѣ“. Кромѣ того, еще эта замѣтка даетъ ему поводъ повторить свое „дурное“ мнѣніе о журналѣ К. Д. Академіи, да переписать то, что „неприлично писали“ о послѣднемъ пять лѣтъ тому назадъ въ „Странникѣ“.—Въ статьѣ проф. Богдашевскаго о. Свѣтловъ находитъ смѣшеніе, „какъ и у проф. В. Керенскаго“, понятія о церкви вселенской съ понятіемъ о частной помѣстной церкви, средневѣковое воззрѣніе на церковь, протестуетъ противъ высказаннаго авторомъ обвиненія, что разсужденія о. Свѣтлова о существованіи единаго христіанскаго міра при видимомъ раздѣленіи частныхъ церквей Востока и Запада есть „уступка времени, стремленіе поддѣлаться подъ разные вкусы“, доказываетъ, что уступка тому, что есть хорошее нашего времени (отрицаніе догматизма) является повиновеніемъ Слову Божію, и говорить „нѣсколько словъ“ на двухъ слишкомъ страницахъ
„о неблагосклонномъ вниманіи“ нроф. Богдашевскаго къ двумъ отдѣльнымъ мѣстамъ статьи „О новомъ мнимомъ препятствіи“ etc.—Въ послѣдней, IV* главѣ, дается пространный разборъ статьи проф. В. А. Керенскаго: „Какъ пишетъ критику проф. П. Свѣтловъ“. И „оборонительную“ и „наступательную“ части отвѣта г. Керенскаго авторъ находит ь совершенно неудачными. Въ первой части, проф. Керенскій нисколько не опровергъ, по мнѣнію о. Свѣтлова, высказаннаго послѣднимъ обвиненія, что раздѣленіе старокатолицизма на прежній и новѣйшій съ наклонностью послѣдняго къ протестантству является просто лишь измышленіемъ проф. Керенскаго. Во второй части проф. Керенскій, по мнѣнію о. Свѣтлова, но доказалъ, что о. Свѣтловъ представилъ „совсѣмъ неправильно не только старокатолическое и протестантское, но даже и православное ученіе о церкви“. Наоборотъ, проф. Керенскій, но мнѣнію о. Свѣтлова, понимаетъ неправильно ученіе о церкви этихъ трехъ исповѣданій. Показавъ подробно, въ чемъ именно состоятъ эти неправильности, о. Свѣтловъ въ заключеніе сильно осуждаетъ критику въ жанрѣ В. Керенскаго, гдѣ „останавливается вниманіе на постороннихъ дѣлу предметахъ“, гдѣ „мало заботятся о дѣлѣ о существенномъ, гоняясь за посторонними мелочами“, и... долго говоритъ по поводу „шума велія“, вызваннаго длиннымъ титуломъ, коимъ была подписана его статья въ „Бог. Вѣсти.“ 1904, № 2.
Нѣсколько критическихъ замѣчаній по поводу „длиннаго обозрѣнія“ о. Свѣтлова сдѣлалъ г. Z., во „Второмъ вынужденномъ словѣ“ (Тр. К. Д. А., іюнь). Г. Z. усматриваетъ „верхъ протестантскаго глубокомыслія“ въ томъ утвержденіи о. Свѣтлова, что протестантство принадлежитъ къ церкви вселенской, поскольку въ немъ дѣйствительно таинство крещенія. Ссылка о. Свѣтлова въ оправданіе своей мысли на Тертулліана и св. Игнатія свидѣтельствуютъ только, какъ показываетъ г. Z., о неглубокомъ пониманіи словъ Тертулліана п незнакомствѣ съ духомъ посланій св. Игнатія. Взглядъ о. Свѣтлова на единство церкви въ разнообразіи какъ на единство въ разнообразіи католичества, протестантства, англиканства и т. п., обнаруживаетъ полное непониманіе апостольскаго ученія о церкви. Тщетны старанія о. Свѣтлова доказать свидѣтельствами Писанія ту мысль, будто въ первенствующей церкви „допускалось разно-
образіе вѣрованій, не затрагивающихъ основъ вѣры“, равно какъ и примѣнимость названій: „заблуждающая церковь“,
„не вполнѣ истинная“, „менѣе здоровая церковь": ссылаясь на тѣ или другія мѣста Писанія, о. Свѣтловъ не понимаетъ надлежащаго ихъ смысла. О. Свѣтловъ смѣшиваетъ человѣческій, измѣняющійся, погрѣіпительный элементъ въ церкви съ элементомъ божественнымъ, который одинъ и тотъ же въ церкви частной и въ церкви вселенской, и потому „чуть ли не отожествляетъ духовную цензуру съ церковью“. Наконецъ, г. Z. не усматриваетъ подкрѣпленія взглядовъ о. Свѣтлова и у тѣхъ авторитетовъ (м. Филаретъ, еп. Ѳеофанъ, прот. Сергіевскій и др.), на которые ссылается послѣдній.
Въ пяти книжкахъ „Прав. Собесѣдника“ на протяженіи около 100 страницъ проф. В. А. Керенскій даетъ повидимому только начало пространнѣйшаго изслѣдованія подъ названіемъ: „Американская епископальная церковь. Ея происхожденіе и состояніе преимущественно въ вѣроисповѣдномъ отношеніи“. Покуда напечатаны три главы: 1) „Происхожденіе американской епископальной церкви“, 2) „Основныя начала вѣроисповѣдной системы амер. епископальной церкви“, и 3) „Ученіе представителей амер. еписк. церкви о Богѣ и его отношеніи къ міру“. Въ первой главѣ авторъ даетъ краткій очеркъ исторіи американской епископальной церкви, сообщаетъ свѣдѣнія объ организаціи ея управленія, объ отношеніи къ государству, о матеріальныхъ средствахъ, миссіонерской дѣятельности, о школахъ, братствахъ, наконецъ о символическихъ книгахъ этой церкви—„Тридцати девяти членахъ церкви Англійской“ и „Книгѣ молитвъ“ и даетъ перечень, съ указаніемъ содержанія, нѣсколькихъ сочиненій, которыя „наиболѣе точно выражаютъ вѣроисповѣдную систему этой церкви. Во второй главѣ авторъ говоритъ о критеріи для оцѣнки истиннаго Христова ученія, коим'ь руководствуются представители американской епископальной церкви (quod ubique, quod semper, quod ab omnibns—Викентія Лиринскаго), далѣе о томъ, какъ послѣдніе понимаютъ догматъ и догматическое развитіе, какъ они „со всею рѣшительностью признаютъ существованіе двухъ источниковъ христіанскаго откровенія, свящ. Писанія и церк. Преданія, и притомъ какъ источниковъ равныхъ по своему достоинству“, какъ властности они понимаютъ богодухновенность Писанія, какъ признаютъ семь вселенскихъ соборовъ и... „Тридцать девять членовъ“ сч> „Кии-
Г)Г)
гой молитвъ“, на почвѣ признанія коихъ „возможно соединеніе другихъ церквей съ церковью англо-американской“. Разсчитывая, повидимому, на кругъ читателей, совершенно незнакомыхъ даже съ догматикой Макарія или Сильвестра, проф. Керенскій подробно доказываетъ далѣе, что изложенное ученіе представителей американской епископальной церкви по всѣмъ пунктамъ ничѣмъ не разнствуетъ отъ ученія православной церкви, и что одной только „ложкой дегтю въ кадкѣ меду“ является „странный“ взглядъ ихъ на „XXXIX членовъ“ и „Книгу молитвъ“. Въ главѣ третьей излагается ученіе американскихъ богослововъ о познаваемости Божества, о свойствахъ Божіихъ, о Троицѣ, подробнѣе о Filioque, о твореніи міра, о происхожденіи отъ Адама всѣхъ людей, объ образѣ и подобіи Божіемъ. За исключеніемъ двухъ пунктовъ: Filioque я подобія Божія въ человѣкѣ, проф. Керенскій и здѣсь усматриваетъ полное единомысліе между представителями америк. епископальной церкви и православной. Противъ Filioque онъ довольно много полемизируетъ, и въ заключеніе, желая разсѣять страхъ представителей амер. еписк. церкви лишиться многихъ членовъ своей церкви чрезъ устраненіе Filioque изъ символа, даетъ совѣтъ „не совершать этого шага вдругъ—ex abrupto, безъ всякой подготовки“, и рекомендуетъ подготовить общество „напр. при посредствѣ публичныхъ чтеній, церковныхъ проповѣдей, изданія спеціальныхъ изслѣдованій, школьнаго воспитанія молодого поколѣнія и проч.“. И проф. Керенскій увѣренъ, что тогда „вопросъ [о Filioque разрѣшится безъ всякихъ печальныхъ послѣдствій“... Относительно подобія Божія въ человѣкѣ ученіе представителей амер. еи. церкви, замѣчаетъ проф. Керенскій, „еще болѣе неопредѣленно“, чѣмъ ученіе объ образѣ Божіемъ, тѣмъ не менѣе они „опредѣляютъ его въ смыслѣ римско-католическомъ, результатомъ чего, какъ извѣстно, въ римскомъ католицизмѣ является господство пелагіанскаго принципа по отношенію къ первородному грѣху и его слѣдствіямъ“...—Содержаніе двухъ послѣднихъ главъ нѣсколько не соотвѣтствуетъ ихъ заголовкамъ: вмѣсто ученія американской епископальной церкви, авторъ излагаетъ на самомъ дѣлѣ воззрѣнія одной лишь крайней правой партіи богослововъ этой церкви. Естественно, что такое смѣшеніе части съ цѣлымъ ведетъ къ путаницѣ и противорѣчіямъ. Гакъ, нанр., акторъ заявляетъ, что „существеннаго отличія“
между вѣроисповѣдными системами амер. епископальной и англиканской церкви нѣтъ, хотя въ „XXXIX членахъ“ и „Книгѣ молитвъ“ нѣкоторыя (несущественныя) измѣненія и сдѣланы, между тѣмъ дальше оказывается, что различія существуютъ весьма крупныя и существенныя, напр., американская церковь „владѣетъ болѣе или менѣе правильнымъ критеріемъ для оцѣнки истиннаго Христова ученія въ отличіе отъ ученія ложнаго“, между тѣмъ какъ англиканская церковь „не въ состоянія опредѣлить того, какое ученіе въ христіанствѣ должно быть признано истиннымъ и какое ложнымъ“; или еще: американская церковь „со всею рѣшительностью“ признаетъ два равныхъ по достоинству источника христіанскаго откровенія—Писаніе и Преданіе, а ані'ликаи-ская церковь „въ разсмотрѣніи и даннаго пункта не чужда довольно существенныхъ противорѣчій“, съ одной стороны придерживаясь „чисто протестантскихъ воззрѣній“ на Писаніе, какъ единственный источникъ откровенія, съ другой-приходя къ „діаметрально-противоположному выводу, что церковное Преданіе нисколько не ниже свящ. Писанія“.
ІІроф. А. И. Булгаковъ послѣ почти трехлѣтняго перерыва даетъ въ янв. кн. Трудовъ К. Д. А. „Продолженіе“ статьи: „Законность и дѣйствительность Англиканской іерархіи съ точки зрѣнія Православной Церкви“. Содержаніе статьи составляетъ анализъ ученія о церкви, resp. іерархіи, содержащагося въ памятникахъ христіанской письменности, ближайшихъ къ апостольскому вѣку, именно: въ „Ученіи Двѣнадцати Апостоловъ“, посланіи ап. Варнавы, посланіяхъ Климента, еп. римскаго, „Пастырѣ“ Эрмы, посланіяхъ Игнатія еи. антіохійскаго и Поликарпа еп. смирнскаго.
Статья проф. П. II. Пономарева „Ученіе Ѳомы Аквината о таинствѣ евхаристіи“ (Прав. Собес., іюль и сент.) имѣетъ цѣлью объяснить, „почему англикане, отвергая воззрѣнія представителей такъ назыв. романской доктрины, однако пользуются ученіемъ Ѳомы Аквината“. Причина, какъ оказывается, заключается въ томъ, что ученіе этого богослова возвышеннѣе воззрѣній богослововъ „романской доктрины“. Во-первыхъ, Ѳомѣ Аквинату совершенно чужда мысль харак • торизовать евхаристическое тѣло Христа признаками тѣла естества, онъ не смѣшиваетъ явленія тайны съ явленіями естества, какъ то замѣчается у „романистовъ“. Во-вторыхъ, онъ „рельефнѣе“, чѣмъ послѣдніе, „выдвигаетъ значеніе
вѣры въ отношеніи къ таинству евхаристіи“, въ томъ смыслѣ, что „вѣра является главнѣйшимъ условіемъ для исповѣданія или принятія такой тайны, какъ евхаристія“. Указывая на согласіе англиканъ съ Ѳомою Аквинатомъ въ этихъ двухъ пунктахъ, проф. Пономаревъ находитъ уже непослѣдовательностью со стороны первыхъ отвергать и терминъ transsub-stanliatio, употребляемый Ѳомою для обозначенія не чего иного, какъ только идеи о непостижимости преложенія хлѣба и вина въ тѣло и кровь Христовы, для выдѣленія этого преложенія какъ акта, безусловно Сверхъестественнаго, а не для низведенія его къ явленіямъ естественнаго порядка. Данному разъясненію причинъ особеннаго отношенія англиканъ къ ученію объ евхаристіи Ѳомы Аквината авторъ предпосылаетъ обстоятельное изложеніе самаго ученія послѣдняго.
Статья проф. В. О. Пшницкаго въ простой, общедоступной формѣ излагаетъ ученіе „О воскресеніи мертвыхъ“ (Тр. К. Д. А., янв.), рѣшая вмѣстѣ съ тѣмъ многочисленные вопросы, возраженія и недоумѣнія, возникающіе по поводу этого ученія. Духъ искренней и глубокой вѣры автора — старца, приблизившагося, какъ онъ говоритъ о себѣ, „къ краю могилы“, проникая статью, сообщаетъ ей особенную жизненность и поучительность.
Въ рѣчи свящ. 1. А. Орфанипіскаго (В. В., март.), занимающейся въ большей своей части разъясненіемъ мотивовъ, побудившихъ его взяться за изслѣдованіе исторіи догмата объ искупительной жертвѣ Христа, интересно отмѣтить развѣ лишь одно наблюденіе, сдѣланное автором'ь при изученіи иностранной литературы по данному вопросу, именно то, что всѣ западныя исторіи этого догмата страдаютъ тенденціозностью, не представляютъ „картины подлиннаго святоотеческаго ученія“, а ищутъ у отцовъ церкви слѣдовъ Ан-зельмова ученія объ удовлетвореніи, почему и останавливаютъ преимущественно вниманіе на тѣхъ отцахъ, у которыхъ находятъ больше такихъ слѣдовъ.
Г. И. Четвериковъ въ своей статьѣ-рѣчи: „Ученіе о
личномъ Богѣ съ точки зрѣнія этической цѣнности“—даетъ отвѣтъ на вопросъ, какое понятіе объ абсолютной личности можетъ служить основой для нравственности, или вѣрнѣе— какое понятіе объ абсолютной личности отвѣчаетъ требованіямъ цѣлостнаго знанія, т. е. удовлетворяетъ какъ запросамъ разума, такъ и стремленіямъ воли и требованіямъ чув-
ства. Критически разсматривая существующіе четыре основные типа въ опредѣленіи даннаго понятія, авторъ приходитъ къ выводу, что абсолютная личность только „какъ объективное бытіе трансдедентно-имманентное въ отношеніи къ міру, является необходимымъ принципомъ нравственной жизни человѣка,—условіемъ всесторонняго развитія его личности, и потому только это понятіе имѣетъ дѣйствительную этическую цѣнность1*. П. Лепорскій.
Октябрь 1905.
II.
Новыя книги.
Нѣсколько словъ по поводу критической замѣтки на нашу книгу «Возвращеніе іудеевъ изъ плѣна вавилонскаго и первые годы ихъ жизни въ Палестинѣ».
Въ сентябрьской кн. „Хр. Чт.“ за текущій годъ помѣщена критическая замѣтка г-на Поснова на наше сочиненіе: „Возвращеніе іудеевъ изъ плѣна вавилонскаго и первые годы ихъ жизни въ Палестинѣ до прибытія Ездры въ Іерусалимъ“.—Мы не намѣренія входить въ обсужденіе всѣхъ положеній рецензіи, такъ какъ и самъ критикъ сознаетъ субъективность своего исходнаго критическаго пункта (391), но считаемъ необходимымъ высказаться по поводу принципіальныхъ возраженій критика.
Анализируя „заглавіе“ сочиненія, г-нъ Посновъ приходитъ къ заключенію, что „нельзя никакъ оправдать и доказать законность и важность первой половины темы и сочиненія“ (384). ^Съ этимъ положеніемъ мы совершенно несогласны, и видимъ въ немъ какъ односторонне-буквалистическій анализъ термина „возвращеніе“, такъ и игнорированіе (если не недостаточное знакомство) критикомъ западной литературы. Аргументація критика вовсе не такъ вѣска и очевидна, чтобы могла устранить „законность и важность“ первой половины темы и сочиненія“. „Непонятно“, пишетъ рецензентъ, „почему это автору вздумалось выдвинуть вч> качествѣ головного предмета своего изслѣдованія возвращеніе изъ плѣна. Вѣдь въ библіи этому предмету посвящено только нѣсколько стиховъ“ (Езд. I, 5 и 2 Езд. У, 1—8). Позволяемъ себѣ думать, что количество библейскаго матеріала не является еще главными условіем'ь такоіі или иной постановки вопроса, и
одинъ стихъ библейскаго текста можетъ служить предметомъ цѣлаго изслѣдованія, въ нашемъ же распоряженіи, по мнѣнію самаго критика, находятся цѣлыхъ 9 стиховъ—матеріалъ, можно сказать, весьма достаточный особенно по относительному сравненію вообще историческихъ данныхъ для послѣплѣннаго періода. Однако, сознаемся, что не потому мы выдвинули возвращеніе іудеевъ на головное мѣсто, а потому же, почему и западная наука выдвигаетъ очень рельефно этотъ фактъ возвращенія, давая ему преимущественное положеніе въ своихъ трудахъ по разработкѣ послѣплѣннаго періода за послѣднее время. Голландскій ученый Ко-стерсъ, выступившій съ попыткой смѣлаго отрицанія факта возвращенія іудеевъ при Кирѣ, заставилъ западную науку перенести центръ тяжести въ изслѣдованіи послѣплѣнной исторіи именно на фактъ возвращенія. На Западѣ въ настоящее время никто не оспариваетъ „законность“ постановки проблемы о возвращеніи іудеевъ, и никто не выражаетъ удивленія или недоумѣнія по поводу того, что этому вопросу придается очень важное центральное значеніе. Западные библеисты считаютъ своимъ долгомъ оттѣнить эту проблему о возвращеніи. Гуанаккеръ въ своемъ трудѣ Nouvelles etudes sur la restauration juve apres le'xil de habylone. Paris 1896 r. вопросу о возвращеніи даетъ „головное“ мѣсто. Изъ двухъ главъ этой работы, обнимающихъ собой послѣплѣнный періодъ до Ездры и Нѳеміи—150-ти страницъ, 1-ая глава съ 18 по 103 стр. трактуетъ о возвращенія іудеевъ: 1. е retour des eaptifs sous Cyrus. А. Велльгаузекъ озаглавливаетъ свою статью спеціальнымъ Die Rücker der juden aus dem babylonischen Exil. Nachr. Gotting. 1895 г. 0 Heimker и даже Ankunft der exu-lanten подробно говоритъ и Никель (41—88), а Вертолетъ возвращеніе изъ плѣна считаетъ однимъ изъ главныхъ сюжетовъ первой части 1 кн. Ездры: Das Buch Esra. Erster Teil. Die Rücker aus dem Exil nnd die ihr unmittelbar folgenden Ereignisse. Cap. 1—6 (Die Buchr Esra nnd Nehemia, Tubingen 1902, V).
Полагаемъ, что серьезное положеніе вопроса о возвращеніи іудеевъ само по себѣ и свидѣтельство „отъ внѣшнихъ“, показывающее его важное значеніе въ наукѣ библейской исторіи, даютъ достаточно основаній не только къ возможности видной постановки этой проблемы о возвращеніи, hl> и къ необходимости и законности именно такой—„головной“ ея постановки въ современной библейской наукѣ.
Правда, термину „возвращеніе“ мы придаемъ болѣе широкое понятіе, чѣмъ это заключается въ его этимологіи; мы не понимаемъ подъ нимъ самого освобожденія, какъ это думаетъ критикъ (383), но ставимъ его въ тѣсную связь съ фактомъ освобожденія (см. 1 стр.), какъ необходимымъ prius’oMb возвращенія и послѣдующихъ лѣтъ жизни іудеевъ въ Палестинѣ. Предметъ работы — послѣплѣнный періодъ съ начальнаго его момента и до Ездры. Допуская, повидимому, болѣе широкое пониманіе термина „возвращеніе“, критикъ и на этой точкѣ зрѣнія не соглашается признать за нашей работой цѣлостнаго характера и даже видитъ въ ней прямое нарушеніе единства. ..Всякая тема“, пишетъ критикъ, „предполагаетъ что нибудь какъ нѣчто цѣлое или, по крайней мѣрѣ, сравнительно полное, законченное. Такими темами по отношенію къ разсматриваемому времени еврейской исторіи могутъ быть, напр., Плѣнъ Вавилонскій, который предполагаетъ начало, продолженіе и конецъ, первые годы жизни іудейскаго народа по возвращеніи изъ плѣна, Дѣятельность Ездры и Нееміи и т. п. Между тѣмъ нашъ авторъ почему-то разрываетъ эту естественную цѣлостность предметовъ, отрываетъ отъ плѣна конецъ его и соединяетъ съ послѣдующимъ временемъ“. Трактовать объ освобожденіи іудеевъ отъ плѣна въ изслѣдованіи послѣплѣнной эпохи, по мнѣнію критика, значитъ вторгаться „въ чужую область“, такъ как’ъ здѣсь нѣтъ и внутренней зависимости между актомъ освобожденія и дальнѣйшимъ развитіемъ жизни.
Соглашаясь съ тѣмъ, что каждая тема должна вводить въ свои границы нѣчто цѣлостное, законченное, мы не считаемъ справедливымъ мнѣніе критика о незаконности и раздѣленіи цѣлостности предмета нашей темой. Взглядъ критика, что освобожденіе отъ плѣна можетъ относиться только къ періоду конца плѣна, очень односторонен-ь. Освобожденіе отгь плѣна несомнѣнно есть конецъ плѣна, но въ то же время оно само по себѣ въ логическомъ смыслѣ и въ періодѣ историческаго хода событій является началомъ, исходнымъ пунктомъ послѣплѣнной эпохи, а если мы возвращеніе іудеевъ поставляемъ въ тѣсное соотношеніе съ ихъ освобожденіемъ, то отсюда цѣлостность сюжета нашей работы — внѣ сомнѣнія, потому что такимъ сюжетомъ является именно послѣплѣнная эпоха отъ ея начала ('освобожденія) и до Ездры. Вмѣстѣ съ указомъ объ освобожденіи израиль юридически уже вступаетъ
въ права послѣплѣннаго существованія, здѣсь конецъ прежней жизни и начало новой. Писатель кн. Паралипоменонъ заканчиваетъ плѣнную эпоху указомъ Кира объ освобожденіи іудеевъ (2 Пар. ХХХУІ, 22 — 23), писатель кн. Ездры начинаетъ повѣствованіе о послѣплѣнной эпохѣ тѣмъ же указомъ (1 Езд 1 — 6), здѣсь и тамъ съ логической и фактической точки зрѣнія указъ объ освобожденіи не нарушаетъ цѣлостности сюжета и одинаково умѣстенъ. Возьмемъ аналогичный примѣръ: 19 февраля 1861 г. считается днемъ окончанія крѣпостного права, но этотъ же день разсматривается справедливо какъ начальный пунктъ новой жизни. Историкъ крѣпостного періода русской жизни можетъ остановиться на этомъ днѣ включительно, какъ пунктѣ окончанія крѣпостного права, а историкъ послѣкрѣпостного періода съ одинаковымъ правомъ можетъ отправиться отъ этого же пункта, какь terminus "а а quo своей работы. Насколько намъ извѣстно ни одинъ изъ западныхъ изслѣдователей в'ь возстановленіи послѣплѣнной эпохи не упускаетъ изъ вниманія акта освобожденія, хотя и посвящаетъ свои работы возстановленію израиля nach dem babylonischen exil, apres Гехіі (Никель, Ko-стерсъ, Гуанаккеръ), не имѣя спеціальнаго намѣренія говорить о концѣ плѣна.—Мы глубоко сомнѣваемся въ возможности надлежащаго и цѣлостнаго раскрытіи темы: первые годы жизни іудейскаго народа по возвращеніи изъ „плѣна''' безъ разсмотрѣнія акта освобожденія іудеевъ, поскольку онъ не является голымъ, формальнымъ понятіемъ, но выражается въ извѣстныхъ, опредѣленныхъ положеніяхъ эдикта (см. 18 стр. нашей работы), имѣющихъ очень тѣсное отношеніе кт. жизни іудеевъ въ Палестинѣ (см. Holzhey. Die Bucher Е. и N. München 1902, s. 11).
Ит акъ, если возвращеніе іудеевъ изъ плѣна можетъ быть выдвинуто въ качествѣ головного вопроса изслѣдованія, какъ оно выдвигается и въ западной наукѣ, если оно стоитъ въ тѣсной и необходимой связи съ освобожденіемъ, какъ termi-inis'a, а quo для послѣплѣннаго періода, то первая половина нашей работы имѣетъ сама въ себѣ законное оправданіе и цѣлостный характеръ сюжета *).
') Впрочемъ, критикъ въ защиту своихъ положеній выставляетъ еще слѣдующій аргументъ: „и чѣмъ только замѣчательно это возвращеніе': Коли бы оио было бы подобно извѣстному печальному возвращенію іо
Выходя пзъ ^типологическаго пониманія термина „возвращеніе“ и довольно узкаго взгляда на „освобожденіе“, критикъ естественно подъ этимъ угломъ зрѣнія находитъ и недочеты въ планѣ нашей работы, которые при нашемъ воззрѣніи на дѣло являются лишь недочетами мнимыми. 1-я глава трактуетъ. объ освобожденіи—prins l; возвращенія и началѣ послѣп-лоннаго періода, II гл. центръ тяжести сосредоточиваетъ на вопросѣ о предводителѣ каравана, попутно влекущаго за собой рѣшеніе вопроса и объ областеначальникѣ Іудеи. Какимч. образомъ эта глава не относится кч. дѣлу, если возвращеніе каравана предполагаетъ мысль о предводителѣ, и если проблема о ПІешбацарѣ и Зоровавелѣ—проблема очень серьезная въ наукѣ? Четвертая гл. нашей работы дѣйствительно нарушаетъ формальную стройность сочиненія, но за то послѣднее получаетъ подъ собой значительный вѣсъ въ матеріальномъ смыслѣ, въ виду серьезности проблемы о возвращеніи іудеевъ изъ плѣна. Данная глава поставлена нами „не по ошибкѣ“, а вполнѣ сознательно (137), именно послѣ III главы.
Послѣ краткаго, недающаго объективнаго представленія о дѣлѣ, пересказа второй части сочиненія, критикъ пытается дать общую оцѣнку работы и указать болѣе подходящій планъ для сочиненія на нашу тему. „По нашему мнѣнію“, пишетъ онъ, „содержаніе сочиненія не отвѣчаетъ смыслу темы. Главное значеніе послѣпленнаго времени заключается въ томъ, что оно знаменуетъ новую поступательную фазу въ развитіи идеи теократіи, это есть время происхожденія іудейства, и именно содержитъ въ себѣ эмбріологію новой жизни. Поэтому вниманіе изслѣдователя должно быть направлено, главнымъ образомъ, на внутреннюю сторону жизни. Необходимо было, по возможности, всесторонне изслѣдовать данный періодъ. И сдѣлать это, невидимому, не представляло
тысячъ грековъ, полному трагическихъ приключеній, столь трогательно описанному Ксенофонтомъ—или освобожденію евреевъ изъ рабства египетскаго и f олТ.е чѣмъ 40-лѣтнему странствованію но вустынѣ, гдѣ совершилось начальное возрожденіе и обновленіе народа, тогда бы, конечно. оно могло быть предметомъ даже цѣлаго сочиненія, но теперь“...— \1ы думаемъ, что интересъ изслѣдованія не долженъ обязательно мотивироваться „тр агическими приключеніями“, длитрлі ноеті ю событія и его значеніемъ. Научное изслѣдованіе цѣнно само по себѣ, а въ данномъ случаѣ важность постановки ѵказанпой проблемы, какъ мы видѣли.— ' налицо.
непреодолимаго труда. Періодъ небольшой, всего какихъ либо 80 лѣтъ. Источники на лицо“.—Буквальная формулировка нашей темы сч. нашей точки зрѣнія вовсе не выдвигаетъ на первый планъ внутренней жизни іудеевъ, задача темы—раскрыть, возстановить послѣплѣнный періодъ, какъ историческую -эпоху, со стороны внѣшней и внутренней вообще. Притомъ, по отношенію къ начальному—80-ти лѣтнему періоду, составляющему сюжетъ нашей темы, центръ тяжести долженъ падать, по нашему мнѣнію, именно на внѣшнія событія, какъ наиболѣе подвергающіяся сомнѣнію въ ихъ исторической дѣйствительности и перетасовкѣ въ хронологическомъ распорядкѣ. Во всякомъ случаѣ работа, претендующая на значеніе научной работы, серьезно должна считаться прежде всего съ такимъ или инымъ положеніемъ извѣстной проблемы въ наукѣ, а не руководиться соображеніями аргіогі, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ проблемамъ наиболѣе выдающимся легко можно придать второстепенное значеніе я наоборотъ. Значеніе проблемъ внѣшней жизни іудеевъ въ начальный 80-ти лѣтній періодъ несомнѣнно превосходитъ значеніе вопросовъ внутренней жизни въ это время подъ угломъ зрѣнія современной библейской науки, этимъ и объясняется наша „неохота“ „къ изслѣдованію внутренней стороны жизни“ и наше „направленіе“, заставившее насъ сознательно дать „довольно полную исторію, главнымъ образомъ внѣшней жизни народа еврейскаго разсматриваемаго времени“. Когда же мы говоримъ „о происхожденіи іудейства“ въ это время, то вгь понятіе іудейства вносимъ прежде всего этнографическій и географическій смыслъ (1, 13), въ техническомъ же значеніи думаемъ терминъ „іудейство“ въ примѣненіи къ палестинской общинѣ приложимо уже со времени Ездры, времени лежащаго за предѣлами нашей работы. (Точка зрѣнія критика для насъ въ данномъ пунктѣ— неясна: въ цитованномъ нами сужденіи, повидимому, онъ іудейство въ техническомъ значеніи поставляетъ въ связь съ начальной эпохой послѣплѣннаго періода и первой палестинской общиной, нѣсколько же выше въ своей замѣткѣ онъ говоритъ: „развитіе іудейства главнымъ образомъ происходило среди вавилонскихъ іудеевъ“ (384). Если критикъ принимаетъ послѣднюю точку зрѣнія на происхожденіе іудейства, то упрекъ его но отношенію къ намъ, историку послѣплѣнной палестинской общины, совсѣмъ неумѣстенъ).
Съ мнѣніемъ критика о томъ, что „повидимому не представлялось непреодолимаго труда всесторонне изслѣдовать данный періодъ“(какъ „небольшой всего какихъ либо 80 лѣтъ“) и что „источники“ къ этому на лицо“, мы также не согласны. Дѣло вовсе не въ томъ, что здѣсь „какихъ либо 80 лѣтъ“ а въ томъ, что источники изъ этого періода освѣщаютъ лишь немного болѣе двухъ десятилѣтій, проходя 'совершеннымъ мо.лчаніемъ около 58 лѣтъ (5,<i/sis—458), можно ли при такихъ условіяхъ говорить о легкости и возможности всесторонняго освѣщенія періода? Недостатокъ источниковъ къ всестороннему возстановленію послѣплѣннаго начальнаго періода засвидѣтельствованъ всѣми (см. Henstenberg Gesch. d. R.... Berlin 1871 II H. s. 309. Sellin. Stud. I Leipzig 1901 s. 6). Да и непонятно, если возможно всесторонне освѣтить данный періодъ, и если „источники на лицо“, то почему же критикъ, эпоху первыхъ лѣтъ жизни іудеевъ въ Палестинѣ считаетъ временемъ „темнымъ“ (384).
По мнѣнію критика, сочиненіе лучше было бы построить по слѣдующему плану: а) введеніе, в) первая часть и с) вторая. Во введеніи слѣдовало бы обстоятельно разсмотрѣть вопросъ о подлинности I кн. Ездры, „происхожденіи ея и исторической достовѣрности легшихъ въ основу ея персидскихъ (?) документовъ“ (388), „необходимо было разобрать“ возраженія противъ 1 ч. кн. пр. Захаріи и кн. Малахіи, „подробнѣе коснуться вопроса о 2-й кн. Ездры, необходимо было сказать и о псалмахъ“. Первая часть работы должна бы обнимать исторію внѣшней жизни іудеевъ, а вторая самая важная (?)—уясненіе внутренней религіозно-нравственной жизни народа.—-Внѣшніе и внутренніе недостатки подобнаго плана въ данномъ случаѣ, по нашему разумѣнію, на лицо. Введеніе — органическая часть сочиненія, а не свободная кладовая, куда можно слагать все что угодно, оно не должно занимать преимущественнаго положенія предъ остальными частями работы, подъ угломъ же зрѣнія критика оно несомнѣнно заслонило бы собой зданіе сочиненія. Положительное изложеніе внѣшнихъ событій въ 1-й части по сравненію съ введеніемъ составило бы ‘/а ч. Восполнять же пробѣлъ гипотезой Оеллина и тѣмъ увеличить 1-ую часть, по крайней мѣрѣ, лично мы не согласились бы, такъ какъ гипотеза Селлина не имѣетъ для себя несомнѣнныхъ данныхъ и мы считаемъ ее фантастичной. Вторая часть вмѣстѣ со всѣми повидимому очень серьезными
вопросами критика, относящимися къ внутренней жизни, ненастолько обширна, чтобы хотя до нѣкоторой степени приблизиться къ введенію. Внѣшній строй плана непропорціоналенъ. Съ внутренней стороны рекомендуемый критикомъ планъ нельзя признать удачнымъ потому, что онъ разрываетъ единство темы, вноситъ повтореніе въ изложеніе 1-й части работы и искусственно разрываетъ органическій процессъ жизни. Введеніе, которое обняло бы подробно и обстоятельно вопросы о подлинности упомянутыхъ источниковъ, могло бы быть выдѣлено въ самостоятельныя части, съ спеціальными заглавіями: 1-ая кн. Ездры“, „2-ая кн. Ездры“ и т. д. и несомнѣнно стояло бы особенно отъ сочиненія, его ]-й и 2-й части.—Вопросъ о подлинности предполагаетъ не только литературную критику документовъ, но и историческую, при разсмотрѣніи послѣдней въ примѣненіи къ 1 кн. Ездрѣ во введеніе мы необходимо внесли бы все то, что но схемѣ плана должно войти и въ 1-ю часть работы. Повтореніе здѣсь неизбѣжно. При томъ можно ли внѣшнюю жизнь такъ строго различать и раздѣлять отъ внутренней. Внѣшнія событія жизни народа въ большинствѣ случаевъ показываютъ и внутреннее его настроеніе (разительный фактъ въ послѣплѣнное время—постройка храма). Конечно, планъ—дѣло личнаго творчества, быть можетъ и вкуса, но мы раздѣляемъ прежнее мнѣніе о большей цѣлесообразности „изслѣдованія послѣплѣннаго періода іудейской исторіи неразрывно съ литературной и исторической критикой источниковъ“ (XIX), какъ это сдѣлалъ въ свое время Шрадеръ, и какъ это видимъ теперь въ большинствѣ трудовъ западныхъ, современныхъ ученыхъ.
Считаемъ необходимымъ сказать нѣсколько словъ о нѣкоторыхъ пріемахъ критики. Рецензентъ посредствомъ искусственной мозаики иногда приписываетъ намъ то, чего мы не раздѣляли и не раздѣляемъ, напр. въ опредѣленіи нами задачи вовсе не содержится указанія на то, что эта задача есть только „концепція внѣшнихъ событій“ (386) (cp. XIX, XX): мнѣніе, приписываемое намъ критикомъ, о гипотезѣ Костерса какъ „совершенно не оригинальной“, не принадлежитъ намъ на самомъ дѣлѣ. Въ своей работѣ эту гипотезу мы считаемъ „оригинальною и смѣлою“ (136), „новою“ (137), а критику Шрадера называемч» ближайшею почвою для вывода Костерса въ такомъ же смыслѣ, въ какомъ
напр., воззрѣнія Дарвина являются посылкою для міровоззрѣнія Геккеля, т. о. въ процессѣ генетическаго развитія Шрадеръ подготовилъ Костерса, какъ радоначальникъ отрицательной критики по отношенію къ послѣплѣнному періоду.— Вмѣсто фразъ, претендующихъ на остроуміе, когда, напр., критикъ говоритъ о нашемъ вниманіи къ вопросу о сосудахъ и ставитъ въ этомъ отношеніи нашу тщательность выше тщательности ІПешбацара (3S2), или когда сравниваетъ насъ съ Нееміей (389), въ рѣчи критика мы съ большимъ удовольствіемъ прочитали бы дѣлыю-объѳктивпыя положенія. Удивляетъ насъ нѣкоторая горячность сужденій и докторально-аподиктическій тонъ, претендующій на непогрѣшимость, аргументація критики вовсе не такъ несомнѣнна, во всякомъ случаѣ съ нѳй можно не соглашаться и спорить.
Отсутствіе подробнаго анализа внутренней жизни общины въ нашей работѣ мы признаемъ; сдѣлали мы это по основаніямъ, указаннымъ выше, но выяснять значеніе начальной эпохи послѣплѣннаго времени въ жизни „народа Божія*4 въ виду теократическаго характера источниковъ (XI, XII) считаемъ излишнимъ, такъ какъ провиденціально-теократическая точка зрѣнія связываетъ ясно и неразрывно всѣ внѣшнія событія послѣплѣнной исторіи—во всѣхъ событіяхъ видна религія и внутренняя жизнь послѣплѣннаго іудейства. Наличность и фаза теократіи — здѣсь очевидны и безъ поясненій.
Препод. Воронеж. дух. семинаріи В. Половъ.
1905, октябрь.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ
Санкт-Петербургская православная духовная ака-демия Русской Православной Церкви - высшее учебное заведение, целью которого является подготовка священнослужителей, преподавателей духовных учеб-ных заведений и специалистов в области богословских и церковных наук. Подразделениями академии являются: собственно академия, семинария, регентское отделение, иконописное отделение и факультет ино-странных студентов.
Проект по созданию электронного архива журнала «Христианское чтение»
Проект осуществляется в рамках процесса компьютеризации Санкт-Петербургской православной духовной академии. В подготовке электронных вариантов номеров журнала принимают участие студенты академии и семинарии. Руководитель проекта - ректор академии епископ Гатчинский Амвросий. Куратор проекта - проректор по научно-богословской работе священник Димитрий Юревич. Матери-алы журнала подготавливаются в формате pdf, распространяются на компакт-диске и размещаются на сайте академии.
На сайте академии
www.spbda.ru
> события в жизни академии
> сведения о структуре и подразделениях академии
> информация об учебном процессе и научной работе
> библиотека электронных книг для свободной загрузки





 CC BY
CC BY 9
9