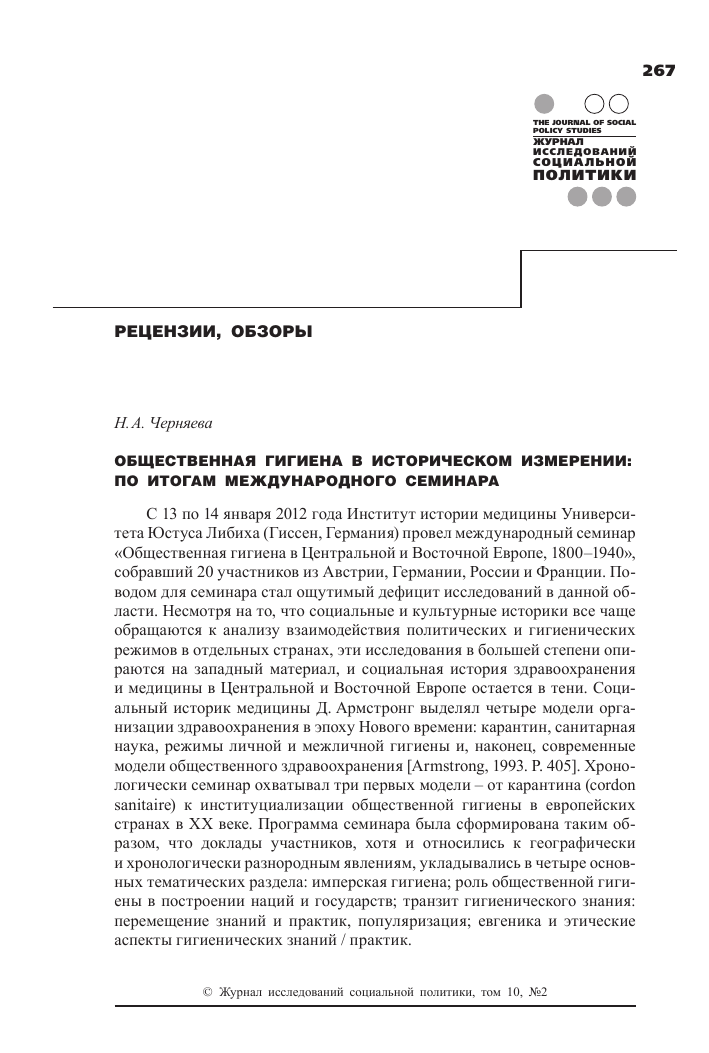оо
THE JOURNAL OF SOCIAL POLICY STUDIES_
ЖУРНАЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ • ••
РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ
Н.А. Черняева
ОБЩЕСТВЕННАЯ ГИГИЕНА В ИСТОРИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ: ПО ИТОГАМ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА
С 13 по 14 января 2012 года Институт истории медицины Университета Юстуса Либиха (Гиссен, Германия) провел международный семинар «Общественная гигиена в Центральной и Восточной Европе, 1800-1940», собравший 20 участников из Австрии, Германии, России и Франции. Поводом для семинара стал ощутимый дефицит исследований в данной области. Несмотря на то, что социальные и культурные историки все чаще обращаются к анализу взаимодействия политических и гигиенических режимов в отдельных странах, эти исследования в большей степени опираются на западный материал, и социальная история здравоохранения и медицины в Центральной и Восточной Европе остается в тени. Социальный историк медицины Д. Армстронг выделял четыре модели организации здравоохранения в эпоху Нового времени: карантин, санитарная наука, режимы личной и межличной гигиены и, наконец, современные модели общественного здравоохранения [Armstrong, 1993. P. 405]. Хронологически семинар охватывал три первых модели - от карантина (cordon sanitaire) к институциализации общественной гигиены в европейских странах в XX веке. Программа семинара была сформирована таким образом, что доклады участников, хотя и относились к географически и хронологически разнородным явлениям, укладывались в четыре основных тематических раздела: имперская гигиена; роль общественной гигиены в построении наций и государств; транзит гигиенического знания: перемещение знаний и практик, популяризация; евгеника и этические аспекты гигиенических знаний / практик.
© Журнал исследований социальной политики, том 10, №2
Доклады, вошедшие в первый раздел, рассматривали гигиенические знания и практики, производимые и транслируемые в Османской империи, Российской империи и империи Габсбургов в XIX и начале XX веков, а также сложные взаимодействия санитарных практик колоний и метрополий. Так, доклад К. Промитцера «Миазмы без границ: роль Западной "медицинской разведки" на территории Балканского полуострова в добактериологическую эпоху, 1800-1870» был посвящен описаниям западными путешественниками гигиенических привычек народов Балканского полуострова (нередко называемого «Турцией в Европе»). Создавая образ не вполне европеизированного в гигиеническом отношении пространства, путевые заметки западных авторов обнажали промежуточный статус Балкан в Европейском сознании XIX века, чей геополитический статус еще предстояло определить. Выступления А. Афанасьевой (Ярославль) «Вызов Имперским властям: эпидемии в Казахской степи в XIX веке» и Р. Нахтигаля «Карантин как основной способ медицинской профилактики в России, 1800-1860» объединила тема эпидемий в России в XIX веке. Суммируя богатый материал по истории эпидемий, Нахтигаль формирует свой вывод в духе той парадигмы, согласно которой для России вплоть до конца XIX века была характерна «централистско-бюрократическая» модель борьбы с эпидемиями, когда основные решения принимались в столицах, а затем с опозданием и с искажениями доходили до пораженных эпидемиями территорий, и где главным методом борьбы с эпидемиями был карантин. Доклад Афанасьевой, напротив, проблематизи-рует один из историографических штампов, согласно которому история борьбы с эпидемиями в колониальном контексте есть всегда история жесткого государственного вмешательства и подавления. Борьба с эпидемиями холеры в 1830-х и 1890-х годах в Казахской степи скорее опровергает данную модель, демонстрируя более сложный характер взаимодействия между агентами государственного вмешательства - царскими чиновниками и российскими медицинскими работниками - и казахским населением.
М. Браун в своем докладе «Колониальные культуры, национальные ландшафты, этнические лаборатории: Наука и политика в борьбе с малярией на Северном Кавказе» проанализировал изменение практик исследования малярии в XIX и первой половине XX века на Северном Кавказе и последовавшую за ним эволюцию в восприятии заболевания среди населения и государственных чиновников.
Часть докладов рассматривала роль общественной гигиены и медицинского знания в построении наций и государств после 1918 года. Доклад Н. Черняевой «Обучая деревенских матерей уходу за ребенком: циви-лизационный дискурс в советской санитарной пропаганде» был посвящен популярной медицинской литературе, созданной в позднеимперский и ранний советский периоды, и той роли, которую она играла в модернизацион-ных проектах царского и большевистского правительств по улучшению практик родовспоможения и ухода за детьми на селе. В центре внимания
Рецензии, обзоры
выступления Л. Ференбах «"Туберкулез - враг рабочего класса": Политическое использование антитуберкулезной кампании 1920-х в Советском Союзе» находился тот раздел советской санитарной пропаганды 1920-х годов, который был посвящен борьбе с туберкулезом. Советская санитарная пропаганда причудливым образом смешивала медицинские, прагматические и идеологические смыслы: туберкулез позиционировался как «наследие царского режима» и «враг» новой власти. Доклад Г. Дюфо «Забота или контроль? Психиатрическая помощь в Советской России в межвоенный период» был единственным по истории психиатрии. Автор рассказал о советском эксперименте по замене традиционной инкарцерации в психиатрические больницы так называемой «психогигиеной» - профилактикой душевных болезней. Психогигиена работала в режиме «подозрения», когда врачи должны были выискивать потенциальных больных, и не могла быть популярна среди традиционно настроенных психиатров. Конец этому эксперименту, как и многим другим, пришел в 1936 году. К. Штеффен выступила с докладом «Общественная гигиена в Польше в первой половине XX века и дебаты о модернизации нации». В своем выступлении она рассмотрела процесс институциализации национального медицинского знания в независимой Польше после 1918 года и сложную систему взаимодействий между нарождающимися структурами государственной власти и формирующимся классом национальных экспертов, чей авторитет, вопреки идеологии национальной независимости, тем не менее, базировался на международном признании.
Раздел «Транзит гигиенического знания: перемещение знаний и практик, популяризация» был открыт докладом А. Штробель «Оздоровление России: всероссийские гигиенические выставки в Санкт-Петербурге в 1893 и 1913 годах», которая проанализировала усиление роли государства в российском здравоохранении в позднеимперский период. В докладе Т. Штеллера «Коллективное тело: Коллекции и выставки немецкого музея гигиены в Центральной Европе в 1920-х годах» было показано, что экспозиции музея, включая знаменитую выставку «Человек» демонстрировали интригующее пересечение политической, национальной и научной повесток дня своего времени, создавая образ коллективного тела - биополитического инструмента, направленного на просвещение населения и на достижение социальных и политических результатов. Выступления Ю. Турковской «Во имя гигиены: Институт гигиены в Познани между политическими ожиданиями и научными стандартами» и А. Хюнтельмана «Множественные отношения. Инструкции и исследования, кооперация и сотрудничество: Институт экспериментальной терапии в Восточной Европе, 1899-1933» были посвящены исследовательским учреждениям, гигиеническим институтам в Германии и Польше, а также взаимодействию их сотрудников для общей цели: не допустить распространения инфекций, в особенности в направлении
с востока на запад, превратить восточно-европейские страны в защитный барьер для Западной Европы.
Раздел «Евгеника и этические аспекты гигиенических знаний / практик» включил выступления о судьбе евгеники в царской России и Советском Союзе: доклад Б. Фельдера «Расовая гигиена как новое средство "очищения" общества: Евгеника и ее обсуждение в царской империи и в Советской России, 1890-1930» и Б. Кётц «Новый человек от макушки до пяток: русская / советская евгеника между гендером и этносом». Фель-дер доказывал, что популярность евгеники как медицинской и политической теории в России не ограничивается, как это принято думать, дореволюционным периодом, и что исследования в сфере социальной гигиены и евгеники, равно как и евгенические практики, были распространены в России вплоть до начала Второй мировой войны. Советское законодательство о семье и браке, включая закон о запрете абортов 1936 года, несут на себе черты «евгенического мировоззрения», поддерживаемого на государственном уровне. Кётц рассказала о массовом исследовании в сфере наследственности и антропогенетики, предпринятом в конце 1920-х годов профессором Серебровским, целью которого было изучить и впоследствии использовать закономерности, отвечающие за появление высоких интеллектуальных способностей в индивиде.
Е. Бороздина в своем докладе «Советская медицинская деонтология: генеалогия морального порядка в советском здравоохранении» проанализировала эволюцию деонтологии, сформировавшейся в Советском Союзе в 1940-е годы в ответ на необходимость обсуждать внутри медицинского сообщества этические проблемы, избегая при этом категории «этика», якобы отсылающей к буржуазному сознанию. Согласно Бороздиной, деонтология легитимизировала дискуссии в сфере медицинской этики, которые шли с начала 1920-х годов, одновременно обнажив многообразие акторов, участвовавших в создании советского медицинского этического канона. К этому же блоку относился доклад Н. Каменева «Антиалкогольная кампания и социальная гигиена в Болгарии, 1890-1940», в котором автор связал борьбу за трезвость с другими акциями нарождающегося гражданского общества и национальным движением за социальные реформы.
Оперируя материалом, принадлежащим географически и исторически разнородным контекстам, докладчики были близки в понимании того, что гигиенические практики и дискурсы редко бывают нейтральными, ведь им принадлежит заметная роль в конструировании социального и расового «другого», маркируемого как «недостаточно чистый». Как показали обсуждения на семинаре, государства далеко не всегда занимали ведущую роль в институциализации режимов общественной гигиены в европейских странах. Авторы выявили разнообразие социальных субъектов и акторов, вовлеченных в установление
Рецензии, обзоры
тех или иных режимов гигиены: профессиональные медицинские сообщества, влиятельные международные фонды, законодатели, правительственные органы, бизнес, различные социальные группы.
Список литературы
Armstrong D. Public Health Spaces and the Fabrication of Identity // Sociology. 1993. № 27. P. 393-410.
Наталья Анатольевна Черняева
канд. филос. наук, PhD (Women's studies, University of Iowa), доцент кафедры философской антропологии Уральского федерального университета (Екатеринбург),
электронная почта: n. a.chernyaeva@gmail.com
К. Хартблей
МОБИЛИЗАЦИЯ ИНВАЛИДНОСТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Phillips S. D. Disability and Mobile Citizenship in Postsocialist Ukraine. Bloomington: Indiana University Press, 2010. 318 p. ISBN 978-0-253-22247-3.
Появление сборника статей «Новая история инвалидности» под редакцией Лонгмора и Умански в 2001 году инициировало новый научный проект - пересмотр того исторически сложившегося канона, в котором жизнь людей-инвалидов и метафоры инвалидности больше не рассматриваются как маргинальные, а являются важными элементами нашего прошлого. Это направление, существующее не только в истории, но и во множестве других дисциплин, началось с формирования междисциплинарного направления исследований инвалидности (disability studies), в рамках которого стали проводиться соответствующие конференции, разрабатываться учебные программы и создаваться профильные кафедры. В своей книге «Инвалидность и мобильное гражданство в постсоциалистической Украине» американский антрополог Сара Филлипс анализирует возникновение критической теории инвалидности в рамках англо-американских исследований постсоветского пространства и появление постсоветских теорий инвалидности. Эта работа получила признание Американской ассоциации славистских, восточно-европейских и евразийских исследований, а также была награждена почетным призом Центра Дэвиса в области политических и социальных наук.





 CC BY-NC-ND
CC BY-NC-ND 44
44