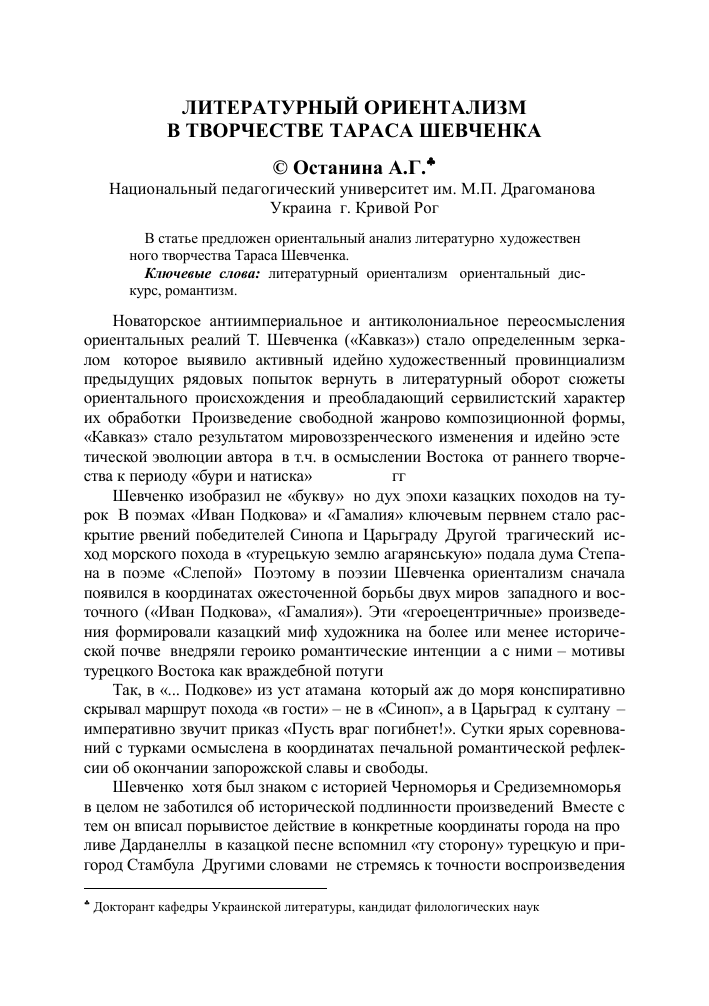ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОРИЕНТАЛИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
© Останина А.Г.*
Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова, Украина, г. Кривой Рог
В статье предложен ориентальный анализ литературно-художественного творчества Тараса Шевченка.
Ключевые слова: литературный ориентализм, ориентальный дискурс, романтизм.
Новаторское антиимпериальное и антиколониальное переосмысления ориентальных реалий Т. Шевченка («Кавказ») стало определенным зеркалом, которое выявило активный идейно-художественный провинциализм предыдущих рядовых попыток вернуть в литературный оборот сюжеты ориентального происхождения и преобладающий сервилистский характер их обработки. Произведение свободной жанрово-композиционной формы, «Кавказ» стало результатом мировоззренческого изменения и идейно-эстетической эволюции автора, в т.ч. в осмыслении Востока, от раннего творчества к периоду «бури и натиска» 1843-1847 гг.
Шевченко изобразил не «букву», но дух эпохи казацких походов на турок. В поэмах «Иван Подкова» и «Гамалия» ключевым первнем стало раскрытие рвений победителей Синопа и Царьграду. Другой, трагический, исход морского похода в «турецькую землю агарянськую» подала дума Степана в поэме «Слепой». Поэтому в поэзии Шевченка ориентализм сначала появился в координатах ожесточенной борьбы двух миров, западного и восточного («Иван Подкова», «Гамалия»). Эти «героецентричные» произведения формировали казацкий миф художника на более или менее исторической почве, внедряли героико-романтические интенции, а с ними - мотивы турецкого Востока как враждебной потуги.
Так, в «... Подкове» из уст атамана, который аж до моря конспиративно скрывал маршрут похода «в гости» - не в «Синоп», а в Царьград, к султану, -императивно звучит приказ «Пусть враг погибнет!». Сутки ярых соревнований с турками осмыслена в координатах печальной романтической рефлексии об окончании запорожской славы и свободы.
Шевченко, хотя был знаком с историей Черноморья и Средиземноморья, в целом не заботился об исторической подлинности произведений. Вместе с тем он вписал порывистое действие в конкретные координаты города на проливе Дарданеллы, в казацкой песне вспомнил «ту сторону» турецкую и пригород Стамбула. Другими словами, не стремясь к точности воспроизведения
* Докторант кафедры Украинской литературы, кандидат филологических наук.
реалий других миров, художник заботился прежде всего о репрезентативности национального взгляда на историю с ее яркими страницами, буйство духа в столкновениях с турками и татарами. Собственно, ориентальный локус поэмы формируется изначально. Так, песня невольников аттестует Порту как чужую и далекую страну, откуда не доходят с Украины ни ветер, ни волна, откуда не слышно совета как «на турка стать».
Патриотическое сознание песни-плача, что всколыхнула широким Босфором, усиливает перекличка освободительных акцентов казацкой походной песни «У турчанки, по ту сторону...». Она выступает символическим кодом естественной защищенности оттоманского «дома на помосте» бурным морем, турецкой казной, богатой на «талеры-дукаты», мощными вооруженными силами («у турчанки янычары / И паша на скамье» [1, с. 235]) -но все это не пугает казаков.
Композиционно-стилевую структуру произведения подчинено константам состояний, изменениям темпоритма. Ко времени «дремлет в гареме - в раю Византия»-турчанка, ленивый султан, до поры дремлет и Скутар. По-романтически возмущенным рисуется только Босфор, и «союзное» казакам море не дает ему разбудить Византию. Батальная кульминация явила смертельную борьбу двух миров во всей силе звука (рев пушек, врагов), динамике действия.
Жестокость кровопролития в духе «романтики ужаса» и «переднатура-листического» письма (Византия «на ножах в крови немеет», Скутар пылает в аду) в определенной мере снимается благородным освободительным образом. Гамалия хурдигу и цепи разбивает, из турецкой неволи «братьев освобождает», а казаки разрушают стены. Цель похода на Царьград постигнуто, одержаны внушительные трофеи, соответствующие восточному направлению похода.
Финальный аккорд показывает Византию пусть и истерзанной, но еще способной угнаться за победителями. Сдерживает ее отмеченный Шевченком страх османов. Но при всей условности сюжетного фактажа произведений, они остаются искренним художественным и человеческим документом, обобщенным историческим свидетельством свободолюбия казацкого народа, его военных умений, полученных в противостоянии турецкому обладателю Востока. В этой манифестации свободолюбия и кроется ответ на нериторический вопрос стихотворения «Чигрин, Чигрин...» - «За что мы резались с ордами?».
Воспроизведение Оттоманского Востока в стилевой манере кобзарских дум «невольничьего цикла», в который так органично вписался Шевченко как автор «Гамалии», нашло продолжение в поэме «Невольник». В частности, во вставленной в ее текст «Думе» - одновременно приветствии Степана с родными и «песни-судьбе» кандальников в тяжелой турецкой неволе. С реалиями дум о борьбе казаков с татарами и турками эту мастерскую стилизацию объединяет образ агарянской турецкой земли, куда попадают уце-
левшие в волнах. Вообще, по совместных фольклорно-литературных loci communes пение молодого незрячего кобзаря воспроизвело драму запорожцев, которых «турки-янычары» забивали в кандалы - простым казакам по три пуда, атаманам по четыре.
Соответствующей исторической правде показан тяжелый подневольный труд пленников, которые под «землей камень ломают», и его последствия -многочисленные смерти без исповеди («как собаки, дохнут») или лютая турецкая погоня за беглецами, динамическое описание которой сопоставим с думой о побеге трех братьев азовских. Оттоманская Порта изображена в произведении той военной силой, которая определяет судьбы не одного поколения украинцев, ведь «гулял» когда-то в турецкой неволе и старый отец Ярины. Рассказ Степана выяснил обстоятельства приобретения свободы: турки согласно восточной традиции выпустили слепого Степана, как раньше византийцы - ослепленных болгарских воинов.
Ориентальный дискурс Т. Шевченка включил, кроме турецко-татарских, и монгольские проекции. Пусть эпизодически, но в послании «И мертвым, и живым...» представлены один из концептов немецкой науки по поводу этногенеза жителей России как «моголов» («туранцев» в терминологии Ф. Ду-хинского). Автор, подчеркнем, с симпатией охарактеризовал их контрастным образом «Золотого Тамерлана внучата голые», построенном на той же, что произведения об истории Украины, антитезе «славное прошлое - нищенское современное». Сочувствие к обездоленным народам Востока у Шев-ченка поэта и художника впоследствии укрепилось - после знакомства с этносами Средней Азии в местах их обитания. В послании же образ задействован в полемически-критической плоскости неприятия модных теорий, которые к тому же взаимно противоречивы.
Настоящей вершиной литературного ориентализма Тараса Шевченка стал «Кавказ» (1845). Произведение оформилось на перекрестке географического (в греческой мифологии боги наказали Прометея, приковав его к горам Кавказа), военно-политического и личностного факторов. Последние два - это кавказская война 1817-1864 гг, на которой в год написания произведения погиб при Даргинском походе Я. де Бальмен. «Кавказский» текст актуализировал миф о Прометее в новом семантическом поле, соединил ориентальный дискурс с антиколониальным, возвеличил борьбу горцев в ее проекциях на долю родной Украины. Это стало переосмыслением истории освоения Востока Западом (уже Дагестана, Чечни и Северо-Западного Кавказа) Россией, связей современности и прошлого, взаимоотношений колониальной метрополии и колонизированных окраин, жители которых насильно впрягались в колесницу войны, решением философской проблематики судеб людей и наций.
Эпиграф из Иеремии, словно камертон, обозначил широту общечеловеческих интенций поэта и его произведения - плача за «побиенными» на во-
сточной войне. Он определил в зачине тональность анафоричного образа высокогорного края, заоблачного горем и политого кровью. «Кавказ как текст» экспрессивно очерчен как земля, где когда-то непременно победит Божья правда и воля (профетического предвидения), а пока «текут реки, / кровавии реки!» [1, с. 344]. Образ кавказского Ориента формируется из-за изменения субъектов нарратива. Пародируя официозно-этикетные формулы самодержавия, автор «рассаживает» их изнутри ироничным и саркастическим письмом, показывая войну как травлю «бедной свободы» горцев.
Величие интернационализма Шевченка в ориентальном дискурсе обнаруживает противопоставление его российскому шовинистическому нарра-тиву «Смирись, Кавказ: идет Ермолов» Пушкина, частично Лермонтова. У него наряду с сочувствием к уничтоженным аулам есть нотки «исторической необходимости» «Смирись, черкес!» с грозным пророчеством такой же участи для остальных стран и народов Востока и Запада.
Кобзарь вдохновенно опоэтизировал славу синих ледяных гор, ее приумножили кавказские «рыцари большие» вроде Шамиля, - защитники родных гор, народа, его традиций, веры, свободы и правды. Хотя, следует признать, единичные российские литераторы все же противились колониально культуртрегерской риторике имперского центра - это отчасти Лермонтов в поэме «Измаил-Бей», О. Бестужев-Марлинский в «кавказских» повестях, О. Полежаев в стихах и поэмах и особенно Л. Толстой в повести «Хаджи Мурат» и др. прозаических вещах. Но и в этом литературном ряду Т. Шевченко уникальный прометеевским подъемом духа планируемо уничтожаемых, однако не освоенных малочисленных народов Кавказа, причудливым своей художественной формой идейного демонтажа российского имперского мифа.
«Славословие» свободолюбия Кавказа и необузданных горцев приобретает почву в следующем нарративе рассказчика. Он объективирует реалии местного колорита как присущие другому, ориентальному, пространству Кавказа с его собственной, исторически сложившейся цивилизацией, совершенно не ущербной, со своими традициями и обычаями: Чурек и сакля - все твое, / Оно не прошенное, не данное, / никто и не возьмет за своё, / не поведет тебя в кандалах [1, с. 344] (перевод - А.О.).
Обращение на «ты» к горцу означает не превосходство псевдоцивилизатора из России, а равноправное, братское отношение к свободному горному человеку. Етранжизмы «чурек» на определение вида местного хлеба и «сак-ля»-жилье воспринимаются в контексте целого не как обычные детали бытовой жизни кавказских этносов, а как философские символы. Они знаменуют собой духовные и материальные основы бытия горцев Кавказа, отличающегося от мира колонизаторов тем, что у них не было несвободы человека, всевозможных кандалов и воровского присвоения чужого добра, захвата в собственность чужих территорий после уничтожения защитников своей земли, рода, деревни.
Психологически-ментальным основанием такой великодержавной точки зрения является обгрунтованная незнанием Востока мифологема неполноценности других рас и наций по сравнению с «богоизбранным» российским народом, якобы дает право «усмирить» «диких» и буйных горцев, нести им «свет передовой культуры» (а в такое миссионерство верили и порядочные российские интеллигенты). В действительности же на Кавказе и в Закавказье с древних веков существовала давняя и богатая культура, связанная с персидским, эллинистическим, византийским, мусульманским Востоком, когда российского еще и близко не было.
Аналитик и «обличитель» имперских язв, Шевченко инвективно вывел зугрозу существования народов внутри и вокруг империи, в частности ориентальных, с длительных морально-этических искажений в России христианской морали. Мотив прислужничества православной церкви захватническим планам царей, освящение ней именем Божьим экспансии на Восток и другие стороны света в «Кавказе» выделено аллитерацией такими строками: «За кражу, за войну, за коров, / Чтобы братскую кровь пролить, просят / И потом в дар тебе приносят / С пожара краденный покров!»[1, с. 346] (перевод - А.О.).
Эпизод из истории кавказского Востока, первая война России с горцами в гуманистической рецепции Тараса Шевченка по канонам романтического прометеизма, обновляющего украинское писательство и всю мировую традицию, стала разностилевым развенчанием империализма Запада, его захватническим попыткам овладеть или ликвидировать горные народы. «Кавказ» также - взволнованные подъемом идеи всенародного вооруженного сопротивления колонизаторам вдоль Кавказа, Карпат, Альп, историософское утверждение непоборности народов, которые унаследовали свободолюбие от предков и лучших традиций родной земли.
Библейский вектор ориентализма поэзии Шевченко до заслания раскрылся в направленности критического острия против лукавого фарисейства пастырей, которые со «святой Библии» выхватывают как примеры для подражания сюжеты о каком-то царе (речь о правителе израильской Иудеи Давида), когда-то свинопаса, который «женщину друга взял к себе, / А друга убил. Теперь на небе » (перевод - А.О.). Принимаем во внимание и отсылки в начале поэмы «Слепая» в истории продажи братьями «за злато / От стад, Элея и вина» [1, с. 207] родного брата Иосифа в рабство к иноплеменникам: сюжет получил метафорическую глубину. А «Псалмы Давида» ценные философским развитием семантики неволи (псалом 136 «На реках круг Вавилона» с патриотическим подъемом родного Иерусалима), концепта радости после освобождения в псалме 52, где Украина мыслится ассоциативным соответствием Израиля.
Смежный с антиколониальным пафосом «Кавказа», антидеспотический дискурс Шевченка полностью определился в композиции «Цари». Произве-
дению предшествовало оформление авторской иерархии исторических коронованных владык согласно их поступков в «МЫ» («О думы мои! о слава злая!»). Шевченко был уверен: слава не должна быть злой и поровну увенчать восточного тирана, названного «кесарем-палачом», вавилонского Сар-данапала или иудейского Ирода, с одной стороны, - и «грека хорошего» Сократа, с другой, братоубийцу Каина одного - и Христа с другой.
В первой - третьей частях «Царей» темперамент Шевченка привел к инвективным протестам против аморальных поступков Давида, «правителя» древнего Израиля, и его сына Амона. В момент, когда иерусалимцы бились в поле, хозяин кедровых палат после кинвы «хорошего сикеру» отобрал у своего военачальника Урии-хеттеянина жену Вирсавию, а его убил. В этом же разоблачительном ряде - изнасилование Амоном родной сестры Фамари и сластолюбивость Давида. Его в старости грели телами молодые девушки, царь знай «когти протягивает / К Самантянине» [2, с. 85] - красавице Ависаги из племени сунамитян. Библейские и летописные сюжеты «Царей» Т.Шевченко проработал в богатом спектре языковых интонаций, но неизменно в гуманистическом аспекте неприятия безнравственности коронованных «палачей человеческих».
Экспликация ориентальных реалий в поэме «Иржавец» касается событий истории Украины XVIII в., когда Мазепа с Орликом и Гордиенко оказались в султановых Бендерах, а казаки основали Олешковскую Сечь на землях татарского хана. Восточная тема произведения пионерная в творчестве Т. Шевченка, в «Иржавце», именно художественным моделированием протектората Крымского ханства над запорожцами. Позиция автора определена попыткой переиграть в произведении ход истории начала XVIII в.: что, мол, было бы, если бы украинцы единодушно стали бы на стороне Мазепы и Гор-диенко? Тогда, подсказывает ответ, не пришлось бы им дожить до овладения запорожцами «татарином», что, в который раз в украинской литературе XIX в. указанный эпитетом «плохой». Возникновение по милости хана новой Сечи на крымских песках, однако, не сопровождалось разрешением построить церковь - хан «заказал». Поэтому потомки победителя Кафы и Стамбула Са-гайдачного на чужбине могли только молиться пресвятой в палатке, и то украдкой.
Для Шевченка, который был в казацком селе Иржавец и видел там чудотворную икону, запрет хана стал неприемлемым унижением для восточного народа. Поэтому в поэме создан миф о вечных слезах Божьей матери из образа «и за казаками», пролитые или из Крыма, или в Гетманщине. Поэт избежал любого сглаживания межнациональных противоречий, подчеркнул истязания на чужбине казацких сиромах, которые страдали от несправедливости татарских мурз. Именно по этой причине пролила святые слезы Ир-жавецкая божья мать, и на эту несправедливость в романтическом произведении взглянул Бог. Он наказал Петра, «побил» наглой смертью (при воз-
вращении из Прутского похода на турков!). Таким был приговор поэта чужим властителям и недружественным землякам.
Судьба, что завела другого ссыльного, Кобзаря, за Кос-Арал, впервые позволила изобразить жизнь восточных этносов России («киргиз-кайсак», как называли казахов) из собственного опыта и аутопсии. Он полностью воспользовался ею как мастер пера и кисти. Пребывание Шевченка в пустыне за Уралом, среди «безводной и безлюдной степи», изображено тяжело. Ведь психодрама ссыльного разворачивалась среди рыжих, красных степей, так не похожих на родные зеленые. Закаспийский образ был чужим для лирического героя еще и тем, что среди казахских степей было не за что зацепиться взглядом - в отличие от усеянных могилами украинских. Чернило красное поле также пребывание в казарменном «вонючем доме», «позор» солдатской муштры, неуверенность в освобождении из плена. Все это определяло идейно-эстетические регистры литературного ориентализма Тараса Шевченка.
В этой психоэмоциональной ситуации оформилось «казахское» произведение «У Бога за дверью лежал топор...» (Косарал, 1848). В центр которого, уникального своей фабулой, поставлено народное предание о святом дереве. Его почитают «кайзаки» как единое уцелевшее после Божьей кары за кражу топора - лесного «сенокоса» семилетнего пожара. На восьмой год после пожара, как мастерски обыграл краски художник, святое солнце осветило пустыню, что «цыганом чернела». Во всевластии этого цвета в пейзаже диссонирует только зелень уцелевшего Божьего дерева и еще «красная глина». Образ глиняной пустыни Шевченко «очеловечил» фигурой кайзака на верблюде, причем унылым взглядам сына степей в сторону речушки Кара-Бутака соответствует крик-плач верблюда. Как заметка краеведа-этнографа оформлено описание обрядового дествия автохтонов вокруг святого «сингичагача».
Поэтому поэт снарядил казахскую легенду собственной идейно-художественной обработкой емпатийниго проявления интереса к восточному краю, его природы, быта и нравов жителей, создал канон украинской литературы в эстетическом освоении действительности азиатских народов царской России, обреченных на вымирание.
Народолюбец и демократ до мозга костей, Шевченко в медитации «Думы мои, думы мои...» отсылал мысли в степь погулять с детьми природы «киргизами убогими» [2, с. 118]. Таким образом, концепты емпатической мысли, единства коренных жителей Востока с родной природной средой, преодоление екзистенциалив одиночества новой коммуникацией с пасынками восточной степи и расширением взаимодействия лирического рассказчика с непривычным для него ориентальным миром, азиатской цивилизацией показали в интерпретации Т. Шевченка его гуманизм, философичность и «интернационализм».
Другой экзотический для украинского читателя топос, степь «бескрайняя за Уралом», - пространство, эстетически освоенное в поэме «Москалева
криниця». Известная в двух редакциях, она, согласно авторскому обрамлению последней, основана на истории, услышанной от каторжника Варнака над Элеком. Герой произведения Максим вернулся из русского войска домой искалеченным духовно, на что намекает его русифицированная речь, и кривым на костылях, потерпев увечья в битве. В таком контексте выкопанный Максимом в поле «колодец» прочитывается как источник чужих духовых ценностей, об опасности присоединения к которым предостерегает сильный национальный дух Шевченка.
Как художник и поэт Шевченко впервые воспроизвел далекое Аральское море, Каспий, «Дарью». В пейзажном стихотворении «И небо неумытое и заспанные волны...» поэту это удалось с опережением литературных достижений своего времени. Это произведение удивительного сознательного пейзажа, в котором осунувшееся состояние природной среды - «ничтожное» море, пожелтевшая трава, как «пьяный камыш» - соответствуют апокалиптической скуке души ссыльного. В русской поэзии такой пейзаж имеет аналогию только в стихотворении «Прощай, немытая Россия...».
Наконец, прощанием с «синей волной», Сырдарью стала суммирующая постбайронические мотивы «Кобзаря» вещь «Готово! Парус распустили...». Эмоции этого произведения невозмущенные, нотки сердечной приязни к «другу»-морю, который два года развлекал скуку, присутствуют в произведении. Он показал в составе экзотического художественного целого подвижность диалектики «чужое - свое». Так Т. Шевченко в предпоследнем периоде творчества почувствовал и воспроизвел те благородные эмоции, о которых уже в ХХ в. швейцарский философ-панидеалист Р. Гольцапфель высказался в таком духе: чужбины нет нигде, достаточно только человеку открыть глаза и сердце вокруг себя.
Балладный стих Шевченка «У той Катерины...» разминулся с исторической правдой в деталях (на кол сажали казаков не так татары в Козлове-Евпатории, как ляхи и свои же оборотни, как Ярема Вишневецкий), но все же воссоздал настоящую освободительную причину появления запорожцев в татарском Крыму. Так, славный Иван Ярошенко сумел с «лютой неволи» в Бахчисарае освободить того земляка, которого несправедливо считал братом лукавой Екатерины.
Таким образом, Т.Шевченко разнообразно построил украинский литературный ориентализм, раскрыл еще в молодости, «за что мы резались с ордами...». Свободолюбивый «тренд» ориентализма Кобзаря в следующих периодах творчества испытал идейное и эмоционально-эстетическое обновление прежде всего антиколониальным дискурсом «Кавказа», индивидуальной интерпретацией тем давности, а также современности - новаторским рисованием Средней Азии и ее обездоленных царизмом жителей. Поэт ввел гуманистический интернационалистский ракурс осмысления мотивов и образов Востока, продемонстрировав разнородные возможности их «воспро-
изведения», создав этим высокий канон и заложив основы рафинированной культуры художественного ориентализма.
Список литературы:
1. Шевченко Т. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 1. Поэзия 18371847 гг. / Тарас Шевченко [ред. Н.Г. Жулинский]. - К.: Наук. думка, 2001. -784 с.
2. Шевченко Т. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 2. Поэзия 18471861 гг./ Тарас Шевченко [ред. Н.Г. Жулинский]. - К.: Наук. думка, 2001. -784 с.





 CC BY
CC BY 55
55