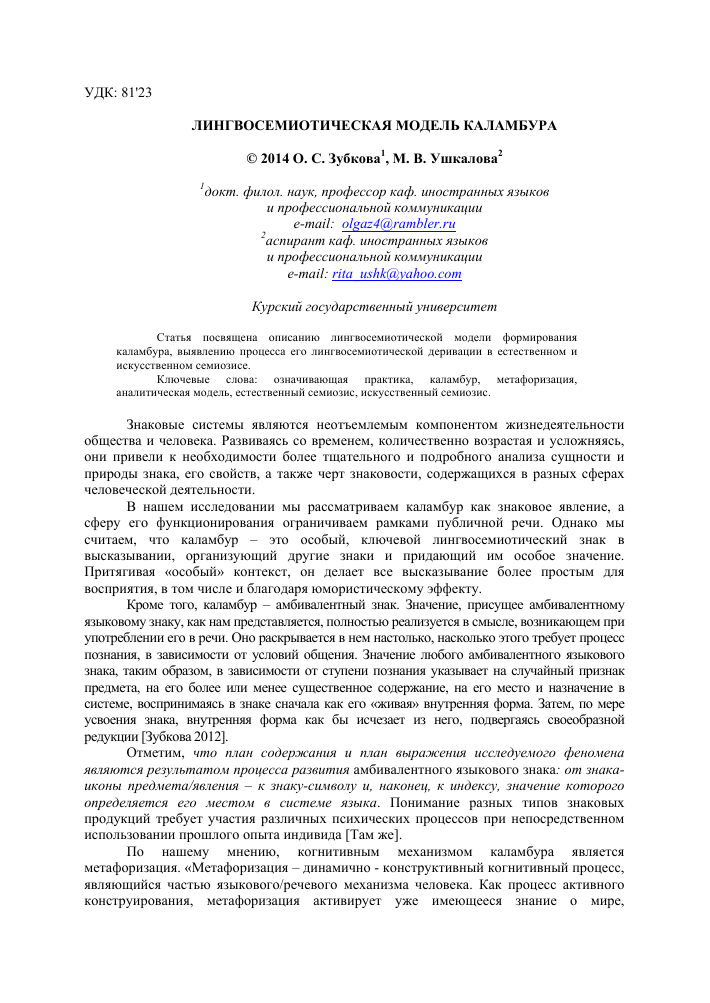УДК: 81'23
ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАЛАМБУРА © 2014 О. С. Зубкова1, М. В. Ушкалова2
1докт. филол. наук, профессор каф. иностранных языков и профессиональной коммуникации e-mail: olgaz4@rambler.ru 2аспирант каф. иностранных языков и профессиональной коммуникации e-mail: rita ushka, yahoo. com
Курский государственный университет
Статья посвящена описанию лингвосемиотической модели формирования каламбура, выявлению процесса его лингвосемиотической деривации в естественном и искусственном семиозисе.
Ключевые слова: означивающая практика, каламбур, метафоризация,
аналитическая модель, естественный семиозис, искусственный семиозис.
Знаковые системы являются неотъемлемым компонентом жизнедеятельности общества и человека. Развиваясь со временем, количественно возрастая и усложняясь, они привели к необходимости более тщательного и подробного анализа сущности и природы знака, его свойств, а также черт знаковости, содержащихся в разных сферах человеческой деятельности.
В нашем исследовании мы рассматриваем каламбур как знаковое явление, а сферу его функционирования ограничиваем рамками публичной речи. Однако мы считаем, что каламбур - это особый, ключевой лингвосемиотический знак в
высказывании, организующий другие знаки и придающий им особое значение. Притягивая «особый» контекст, он делает все высказывание более простым для восприятия, в том числе и благодаря юмористическому эффекту.
Кроме того, каламбур - амбивалентный знак. Значение, присущее амбивалентному языковому знаку, как нам представляется, полностью реализуется в смысле, возникающем при употреблении его в речи. Оно раскрывается в нем настолько, насколько этого требует процесс познания, в зависимости от условий общения. Значение любого амбивалентного языкового знака, таким образом, в зависимости от ступени познания указывает на случайный признак предмета, на его более или менее существенное содержание, на его место и назначение в системе, воспринимаясь в знаке сначала как его «живая» внутренняя форма. Затем, по мере усвоения знака, внутренняя форма как бы исчезает из него, подвергаясь своеобразной редукции [Зубкова 2012].
Отметим, что план содержания и план выражения исследуемого феномена являются результатом процесса развития амбивалентного языкового знака: от знака-иконы предмета/явления - к знаку-символу и, наконец, к индексу, значение которого определяется его местом в системе языка. Понимание разных типов знаковых продукций требует участия различных психических процессов при непосредственном использовании прошлого опыта индивида [Там же].
По нашему мнению, когнитивным механизмом каламбура является метафоризация. «Метафоризация - динамично - конструктивный когнитивный процесс, являющийся частью языкового/речевого механизма человека. Как процесс активного конструирования, метафоризация активирует уже имеющееся знание о мире,
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НА УКИ
сопоставляя “готовые” значения при расшифровывании культурного кода и вызываемые ими ассоциативные представления, а также кажущиеся несовместимые на первый взгляд внеязыковые сущности. Результатом же метафоризации будет семантически амбивалентное высказывание» [Зубкова 2001: 97-98], то есть в данном случае каламбур. Полагаем, что процесс, о котором идет речь, происходит в когнитивом поле индивида, и реализуется в устной или письменной речи. В процессе метафоризации в рамках социальной коммуникации индивид соединяет ономасиологические, семасиологические, концептуальные категории в
лингвистических единицах, выраженных каламбурами. Вместе с тем рефлексивность языковой единицы как результата метафоризации связана с потенциалом действия выражаемой в ней мысли или интенции человека и согласуется с основной коммуникативной стратегией, находящейся в основе её создания, - аппеляцией к чувственному восприятию индивида, сопряженной с эмоциональными переживаниями.
Исходя из основных постулатов лингвосемиотической теории О.С. Зубковой, «бесконечность процесса означивания может частично лимитироваться означивающими практиками, регламентирующими знаковую активность в коммуникации и ограничивающими процессуальную природу знака в его переходе от интерпретанты к интерпретанте, от репрезентамента к репрезентаменту и от формы к форме. Означивающие практики устанавливают правила и порядок действий со знаками в коммуникативных процессах, что предполагает необратимый распад и переструктурирование бесконечного семиотического потока, возникновение отдельных флуктуаций, трактуемых в качестве профессиональных метафор, метафорических эпитетов, каламбуров, ономатопей, перифраз и др.» [Зубкова 2011: 213] В контексте изучаемого юмористического языкового феномена значительный интерес вызывает последовательность механизмов осмысления семиотической реальности и их манифестация посредством знаков в индивидуальной, культурной, профессиональной и дискурсивной означивающих практиках, предложенных этим исследователем (см. подр: [Зубкова 2013]).
На основании вышесказанного мы предлагаем следующую аналитическую структуру каламбура (см. схему):
Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2014. № 4 (32)
Зубкова О. С., Ушкалова М. В. Лингвосемиотическая модель каламбура
Данная схема иллюстрирует лингвосемиотическую структуру каламбура. В центре находится само понятие изучаемого лингвистического феномена. На первом уровне на него оказывает влияние доминантная практика, которая в свою очередь влияет на восприятие исследуемого феномена. На втором уровне находится формулировка юмористического высказывания, которая и оказывает влияние на понимание каламбура. Необходимо отметить, что формулировка высказывания происходит в естественном семиозисе, что в нашей работе понимается как «процесс означивания, то есть знакового представления информации и использования знаков, имеющих естественное происхождение, в некотором семиотическим пространстве» [Зубкова 2011: 31]. Полагаем, что отличительной особенностью естественного семиозиса является номинационный семиозис (термин Ю.М. Лотмана), когда знаки не приписываются, а узнаются и сам «акт номинации тождественен акту познания» [Лотман 2000: 537], а «объект приобретает функцию, которую ему приписывают» [Там же]. Поскольку каламбур является частью языкового континуума, то нам кажется возможным говорить о «естественном генезисе исследуемого феномена, включающем процессы понимания и декодирования каламбура, с учетом формирования его означающего и означаемого» [Зубкова 2011: 31].
Что касается уровня понимания каламбура, то полагаем, что он реализуется в искусственном семиозисе, который в нашей работе понимается как «процесс культурного означивания, то есть знакового представления информации и использования знаков в семиотическом пространстве культурно-социальной жизни» [Там же: 41]. Отметим, что в рамках искусственного семиозиса осуществляется вторичное означивание каламбура посредством культурного кода, реализующегося главным образом с помощью естественного языка.
Таким образом, в приведенной нами аналитической модели формирования исследуемого нами лингвистического феномена все стороны взаимосвязаны, поскольку каламбур - сложное языковое образование, формирующееся и воспринимающееся на разных уровнях.
По нашему мнению, когнитивным механизмом каламбура является процесс метафоризации. Последний нами понимается как «динамично-конструктивный когнитивный процесс, являющийся частью языкового/речевого механизма человека» [Там же: 29]. Как отмечалось выше, каламбур чаще всего, особенно если это лексический каламбур, основывается на смешении значений того или иного слова или выражения. Именно поэтому мы считаем метафоризацию процессом
лингвосемиотической деривации каламбура. В нашей модели метафоризация как когнитивный процесс формирования каламбура существует и в естественном, и в искусственном семиозисе. Иными словами, при формулировании исследуемого феномена в соответствии с доминантной практикой происходит процесс метафоризации, благодаря которому образуется юмористическое высказывание. Однако и при восприятии и понимании каламбура также доминирует процесс метафоризации, который помогает адресату интерпретировать сказанное или прочитанное в соответствии со своим личным опытом.
Метафоризация начинается с допущения о подобии (или сходстве) формирующегося понятия о реалии и некоторого в чем-то сходного с ней «конкретного» образно-ассоциативного представления о другой реалии. Это допущение, которое мы считаем основным для метафоризации и основанием ее антропометричности, является модусом, которому можно придать статус кантовского принципа фиктивности, смысл которого выражается в форме «как если бы» [Телия 1988: 173].
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НА УКИ
Допущение на основе принципа фиктивности гипотетического подобия «раскрепощает» адресанта, и он переходит на тот уровень соизмерения нового и уже известного, где возможными оказываются любое сопоставление и любая аналогия, соответствующие представлению о действительности в личностном тезаурусе носителя языка. Как пишет Ю.Н. Караулов, «употребляемое иногда для обозначения способа упорядочения знаний сочетание “картина мира” при всей кажущейся метафоричности очень точно передает сущность и содержание рассматриваемого уровня: он
характеризуется представимостью, перцептуальностью составляющих его единиц, причем средством придания “изобразительности” соответствующему концепту (идее, дескриптору) служат самые разнообразные приемы. Это может быть создание индивидуального образа на базе соответствующего слова-дескриптора или включение его в некоторый постоянный, но индивидуализированный контекст, или обрастание его определенным набором опять-таки индивидуальных, специфических ассоциаций, или выделение в нем какого-то особого нестандартного, нетривиального признака, и т. п.» [Караулов 2006: 132]. Заметим, что по существу здесь выделены как раз те единицы, которыми оперирует каламбур как образно-ассоциативным богатством,
принадлежащим носителю языка. Соотнесенность каламбура с индивидуальным уровнем языковой способности и объясняет роль в нем человеческого фактора и его ориентацию на антропометрическое построение, оперирующее аналогией.
Особое внимание хотелось бы обратить на обязательное наличие в процессах метафоризации некоторой важной для субъекта речи номинативной или номинативнопрагматической интенции. Всякая речь начинается с определенной цели (интенции) ее субъекта. Однако тот, кто создает каламбур, идет на преодоление автоматизма в выборе средств из числа уже готовых. Намеренная затрата речевых усилий всегда на что-то нацелена. В случае метафоризации имеет место достижение какой-либо речевой задачи, которая имплицирует три целеполагающих по своему характеру компонента: мотив, цель и тактику, вместе подготавливающих иллокутивный эффект высказывания, содержащего метафору [Телия 1988: 186].
Кроме того полагаем, что процесс метафоризации характеризуется:
- универсальностью, обеспечивающей креативную мыслительную деятельность;
- оязыковлением нового знания о мире путем уже имеющихся в языке наименований;
- выявлением общих моментов в сравниваемых предметах;
- динамичностью при активном взаимодействии имеющегося значения и вызванного им ассоциативного представления [Зубкова 2011: 29].
Все это вполне справедливо не только для метафоры, но и для каламбура. Мы полагаем, что рассматриваемый процесс отражает взаимодействие человека с окружающим миром, процесс познания и преобразования им действительности. Индивид воспринимает мир через призму личного опыта, эмоциональных переживаний и т. д. Очевидно, что за разным применением лексических средств юмористической направленности стоят сложные психические процессы, протекающие в естественном семиозисе. Соответственно, при интерпретации этих средств, адресат пользуется собственными психическими ресурсами таким образом, что сказанное приобретает новый метафорический смысл, в результате чего слово или выражение становится многозначным. Иными словами, процесс метафоризации двухсторонний: адресант вкладывает метафорический смысл в высказывание, а адресат в свою очередь воспринимает его в соответствии со своим внутренним состоянием.
Таким образом, «метафорическое осмысление нового факта производится путем корреляции его семантических связей с познанием, поскольку основу процессов метафоризации образуют процедуры обработки структурных знаний. Последнее
Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2014. № 4 (32)
Зубкова О. С., Ушкалова М. В. Лингвосемиотическая модель каламбура
включает в себя не только широкий спектр теоретических представлений, но и не менее значимые результаты опыта повседневной жизни», а также экстралингвистические аспекты [Зубкова 2011: 30].
Библиографический список
Зубкова О.С. Диалектика амбивалентного языкового знака с позиции лингвосемиотической деривации // Теория языка и межкультурная коммуникация: научный журнал. Курск, 2012. № 2 (12). URL: http://tl-ic.kursksu.ru/pdf/012-004.pdf (дата обращения: 12.08.2014).
Зубкова О.С. Метафора в профессиональной семиотике. Курск: Курск. гос. ун-т, 2001. 334 с.
Зубкова О.С. Лингвосемиотика профессиональной метафоры: дис. ... докт. филол. наук. Курск, 2011. 460 с.
Зубкова О.С. Роль медицинской метафоры в формировании профессионального знания // Актуальные проблемы теории и методологии науки о языке: международ, научн.-практич. конф. 24-25 мая 2008 г. СПб.: ЛГУ им. A.C. Пушкина, 2008. С. 236-239.
Зубкова О.С. Специфика объективации означивающих практик в рамках интегрированного лингвосемиотического пространства // Теория языка и межкультурная коммуникация: научный журнал. Курск, 2013. № 1 (13). URL: http://tl-ic.kursksu.ru/pdf/013-005.pdf (дата обращения: 12.08.2014).
Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 5-е, стер. М: КомКнига, 2006. 261 с.
Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки (1968-1992). СПб.: Искусство-СПБ, 2000. 704 с.
Телия В.Н. Метафоризация и её роль в создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М, 1988. С. 173-203.





 CC BY
CC BY 101
101