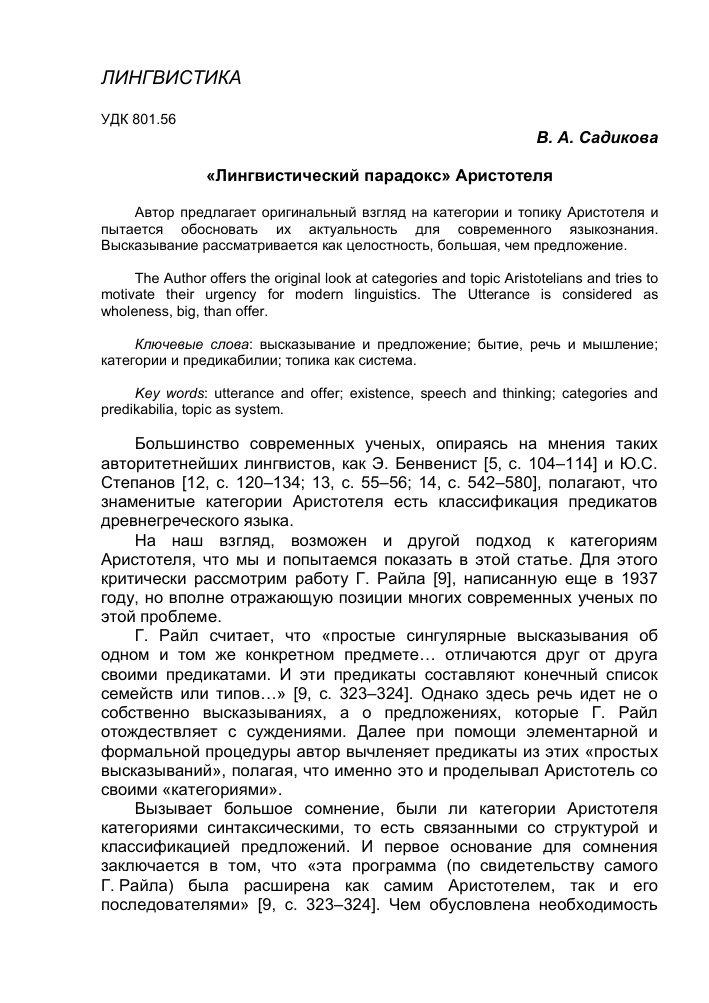ЛИНГВИСТИКА
УДК 801.56
В. А. Садикова «Лингвистический парадокс» Аристотеля
Автор предлагает оригинальный взгляд на категории и топику Аристотеля и пытается обосновать их актуальность для современного языкознания. Высказывание рассматривается как целостность, большая, чем предложение.
The Author offers the original look at categories and topic Aristotelians and tries to motivate their urgency for modern linguistics. The Utterance is considered as wholeness, big, than offer.
Ключевые слова: высказывание и предложение; бытие, речь и мышление; категории и предикабилии; топика как система.
Key words: utterance and offer; existence, speech and thinking; categories and predikabilia, topic as system.
Большинство современных ученых, опираясь на мнения таких авторитетнейших лингвистов, как Э. Бенвенист [5, c. 104-114] и Ю.С. Степанов [12, с. 120-134; 13, с. 55-56; 14, c. 542-580], полагают, что знаменитые категории Аристотеля есть классификация предикатов древнегреческого языка.
На наш взгляд, возможен и другой подход к категориям Аристотеля, что мы и попытаемся показать в этой статье. Для этого критически рассмотрим работу Г. Райла [9], написанную еще в 1937 году, но вполне отражающую позиции многих современных ученых по этой проблеме.
Г. Райл считает, что «простые сингулярные высказывания об одном и том же конкретном предмете... отличаются друг от друга своими предикатами. И эти предикаты составляют конечный список семейств или типов.» [9, c. 323-324]. Однако здесь речь идет не о собственно высказываниях, а о предложениях, которые Г. Райл отождествляет с суждениями. Далее при помощи элементарной и формальной процедуры автор вычленяет предикаты из этих «простых высказываний», полагая, что именно это и проделывал Аристотель со своими «категориями».
Вызывает большое сомнение, были ли категории Аристотеля категориями синтаксическими, то есть связанными со структурой и классификацией предложений. И первое основание для сомнения заключается в том, что «эта программа (по свидетельству самого Г. Райла) была расширена как самим Аристотелем, так и его последователями» [9, c. 323-324]. Чем обусловлена необходимость
такого расширения, если Аристотель ограничивается исследованием древнегреческого предложения?
Г. Райл предлагает свой метод, вводя в исследование «сентенциональный фактор», под которым понимает «любое выражение, входящее в состав предложений, которые без этого вхождения были бы различны» [9, с. 326]. Но и его собственный метод не укладывается в предложение-суждение, в рамках которого он полагает возможным вести исследование. С одной стороны, ему приходится обратиться к частям предложений, потому что «очевидно, что предложения в определенном смысле состоят из частей» [9, с. 326]. С другой стороны, хотя «сентенциональные факторы не могут быть вычленены из всех сочетаний», «в роли сентенциональных факторов могут, очевидно, выступать не только отдельные слова, но и сколь угодно сложные сочетания слов, а также целые предложения» [Курсив везде мой. - В.С.] [9, с. 326].
Спрашивается: относительно чего целое предложение может выступать в качестве сентенционального фактора? Наш ответ: только относительно целого текста или высказывания, которое состоит больше, чем из одного предложения. Автор не придает этому обстоятельству никакого значения, хотя такое допущение явно расшатывает его концепцию, основанную на предложении-высказывании. Предлагая метод подстановки сентенциональных факторов и вводя понятие «знак пропуска», что есть «всего лишь указание на то место, на котором должен находиться тот или иной (либо те или иные) из бесконечного множества сентенциональных факторов» [9, с. 326], автор приходит к необходимости определенного рода абстракций. И его дальнейший вывод представляется закономерным, важным, но недостаточным для той задачи (относительно категорий Аристотеля), за выполнение которой изначально он взялся: «Следовательно, от возможных подстановок требуется не только соответствие определенным грамматическим типам, но они должны также выражать пропозициональные факторы определенных логических типов». Категории же нужны автору только для того, чтобы отличать абсурдные предложения от неабсурдных [9, с. 327]. Дальнейшая попытка Г. Райла все-таки выйти на связь с категориями Аристотеля представляется искусственной, обусловленной очень ограниченным, в основном, грамматическим, пониманием этих категорий самим Г. Райлом, которые он связывает исключительно с умением строить вопросительные предложения: «Ведь вопросительные предложения, если отвлечься от их практических функций в качестве просьб или команд, суть те же схемы предложений, а вопросительные слова в них - знаки пропуска» [9, с. 328]. Отсюда и выводы Г. Райла относительно метода Аристотеля, который, как считает Г. Райл, «пытается классифицировать типы лишь небольшого подмножества пропозициональных факторов»; «не дает
критериев, позволяющих определять, когда какой-либо сентенциональный фактор выступает, а когда не выступает в роли термина», «полагается только на здравый смысл и повседневное словоупотребление в тех случаях, когда надо решить, подходит ли данный фактор для заполнения данного пропуска»; «не осознает, что типы факторов определяют собой логическую форму высказываний, в состав которых они входят, и сами зависят от последней» [9, с. 328]. Нам кажется, что Аристотель не ставил тех задач, в невыполнении которых Г. Райл его обвиняет.
Эти выводы Г. Райла, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что невозможно ни выявить критерии, на которые опирался Аристотель, ни построить их адекватную классификацию, если: 1) анализировать «Категории» Аристотеля в отрыве от его других произведений; 2) не учитывать современную ему философскую традицию, а также исследования его предшественников и последователей; 3) ограничиваться предложением как наивысшей коммуникативноречевой единицей (подробнее об этом см. в: [11]).
Прежде чем перейти к выяснению того, в чем же, собственно, заключается «лингвистический парадокс» Аристотеля, приведем высказывание Я. Лукасевича, которое можно взять за этический образец: «У Аристотеля нет ясной идеи кванторов, и он не использовал их в своих работах; следовательно, мы не можем вводить их в его силлогистику» [7, с. 135]. И еще одно замечание Я. Лукасевича полагаем важным для лингвистических исследований: «Каждый аристотелевский силлогизм состоит из трех предложений» [7, с. 36]. Уже этого достаточно, чтобы задуматься, действительно ли Аристотель вычленял свои категории из простого сингулярного предложения-высказывания.
Работа по систематизации категорий Аристотелем не была завершена, и в разных трактатах он дает несколько различные перечни категорий. Например, в трактате «Категории», в переводе 1978 года, Аристотель пишет: «Из сказанного без какой-либо связи каждое означает или сущность, или «сколько», или «какое», или «по отношению к чему-то», или «где», или «когда», или «находиться в каком-то положении», или «обладать», или «действовать», или «претерпевать» [2, с. 55]. А.В. Кубицкий приводит (в собственном переводе) другое высказывание Аристотеля о категориях, из его «Метафизики»: «.самостоятельное существование в себе
приписывается всему тому, что обозначается через различные формы [категориально] высказывания: ибо на сколько ладов эти различные высказывания производятся, столькими путями они [здесь] указывают на бытие. А так как одни из высказываний обозначают суть вещи, другие - качество, некоторые - количество, иные отношение, иные действие или страдание, иные отвечают на вопрос «где», иные на
вопрос «когда», то в соответствии с каждым из этих (родов) высказываний те же самые значения имеет и бытие» [1, с. 78].
Лингвисты небезосновательно придают большое значение замечанию Аристотеля о «сказанном без какой-либо связи» (первая цитата). По сути дела, именно на этом основывалось не только мнение о категориях Аристотеля как классификации предикатов, но и предшествующая ей классификация категорий как типология частей речи, т.к. этой якобы «изоляцией» категорий от собственно речи Аристотель как бы предопределил способ их анализа и интерпретации. Реже упоминается второй вариант этой мысли Аристотеля - «самостоятельное существование в себе» (вторая цитата). Полагаем, что это выражение, употребленное в близком контексте в обеих цитатах, подчеркивает некоторую самостоятельность, отдельность от предложения (точнее - от конкретного употребления), именно категориальность некоторых (вполне определенных для Аристотеля) понятий.
Переход от понимания категорий Аристотеля как классификации частей речи к толкованию их как типологии предикатов совершенно очевидно был связан с осознанием предложения как ведущей языковой единицы. Другими словами, он связан с изменением ракурса рассмотрения языковых явлений в глобальном масштабе. Сегодня лингвисты все больший интерес проявляют к речевому высказыванию как целостности, более пространной, чем отдельное предложение. Не есть ли это повод еще раз пересмотреть отношение к «Категориям» Аристотеля?
Первые комментаторы Аристотеля дополняют этот перечень весьма важными категориями, без которых невозможно представить ни современную науку, ни современное бытовое общение. Например, род и вид, хотя и анализируются еще в диалогах Платона и активно используются в логических трактатах самого Аристотеля, не входят в его знаменитый список «числом десять». На них пристальное внимание обращает Порфирий, но не решается, видимо, прямо дополнить ими список десяти категорий Аристотеля: «.чтобы научиться аристотелевским категориям, необходимо знать, что такое род и что - различающий признак, что - вид, что собственный признак и что - признак привходящий» [1, с. 53]. Выделенные Порфирием категории показаны им во взаимозависимости и взаимодействии. В то же время очень определенно и убедительно показана специфика каждой категории, основания, по которым каждая из них выделяется. Например: «.одни из различающих признаков вносят <в вещь> изменения, другие - делают <ее> другой» [1, с. 60]; «с упразднением рода или различающего признака упраздняется все, что стоит под ними» [1, с. 66]. Наивысшим родом является субстанция, «потому что раньше ее не было ничего»; разделяя ее на «промежуточные звенья», на роды и виды, мы приходим к «индивидуальным вещам» [1, с. 57]. В
то же время «сущее не является одним общим родом для всего, и все существующее не является однородным на основе одного наивысшего рода» [1, с. 58]. Другими словами, категории диффузны, подвижны и не могут рассматриваться как некие застывшие данности. В то же время они неотделимы от самих вещей. Порфирий подчеркивает закономерность изменений речи в зависимости от ракурса рассмотрения предмета и характера «сказывания» (т.е. речи).
С первого взгляда может показаться, что Аристотель действительно анализирует язык. Он активно пользуется грамматическими терминами; или тем, что сегодня воспринимается как грамматический термин; или при переводе (точнее, многочисленных переводах на разные языки) могло быть переведено как грамматические термины. Даже трактат «Категории» начинается «языковой» главой, которая имеет подзаголовок: «Одноименное, соименное, отыменное». Категорию «имя» Аристотель еще не выделяет, потому что имя связано. с языком, но выделяет категорию «сущность», потому что она связана с бытием. Имя в качестве категории, по сути дела, выделит только М.В. Ломоносов, включив его в свои «общие места риторические», исключив при этом категорию сущность [6, VII, с. 102], хотя аналог имени, «обозначение», появляется уже у Цицерона [15, с. 58].
Вторую главу трактата Аристотеля «Категории», которая начинается словами «из того, что говорится, одно говорится в связи, другое - без связи», можно было бы считать «речевой». Однако вряд ли такой вывод правомерен, хотя дальше в этой же главе используются уже просто «школьные» грамматические термины: «Из существующего одно говорится о каком-нибудь подлежащем, но не находится ни в каком подлежащем, например, человек; о подлежащем - как отдельном человеке говорится как о человеке, но человек не находится ни в каком подлежащем; другое находится в подлежащем, но не говорится ни о каком подлежащем (я называю находящимся в подлежащем то, что, не будучи частью, не может существовать отдельно от того, в чем оно находится); например, определенное умение читать и писать находится в подлежащем - в душе, но ни о каком подлежащем не говорится как об определенном умении читать и писать.. А иное и говорится о подлежащем, и находится в подлежащем, как, например, знание находится в подлежащем - в душе - и о подлежащем - умении читать и писать - говорится как о знании» [2, II, с. 54].
Как видим, «подлежащее» Аристотеля ничего общего не имеет с современным грамматическим термином. Для Аристотеля подлежащее - некое «вместилище» определенных качеств и признаков - душа, тело - то, что существует отнюдь не в языке, а в бытии. Язык же - это то, посредством чего можно это бытие «высказать» и высказать по-разному: можно говорить об объектах
бытия, поименованных и связанных между собой; можно говорить об отдельных объектах бытия вне связи их с другими объектами. Говорить о подлежащем можно только в том случае, если речь идет о связях, о связанном бытии. Причем, это бытие связано не только внутри себя, но и с человеком как частью бытия и субъектом, воспринимающим это бытие, потому что «сказывать» может только человек. У Аристотеля же - всегда - бытие дается через «сказывание». Например: «Когда одно сказывается о другом как о подлежащем, все, что говорится о сказуемом, применимо и к подлежащему» [2, с. 54]; «... у того, что говорится о подлежащем, необходимо сказывается и имя и понятие» » [2, с. 56]); «.если нечто находится в подлежащем, то ничто не мешает, чтобы его имя иногда сказывалось о подлежащем, но определение не может сказываться о нем» [2, II, с. 58]. «Сказываемое» и даже «сказуемое» Аристотеля тоже нельзя отождествлять с современным грамматическим термином. У Аристотеля это не сказуемое, не предикат, не член предложения, не часть его, а речь, соотнесенная с бытием, и он нигде не указывает, что речь (высказывание) должна равняться предложению.
К подобному выводу приходит и З.Н. Микеладзе. В примечаниях ко второй главе «Категорий» переводчик и комментатор Аристотеля пишет: «Выражение «то, что говорится в связи» употребляется Аристотелем в том же значении, что и «высказывающая речь», «высказывание» в трактате «Об истолковании» [8: 600]. Здесь же он подчеркивает несовпадение грамматического термина «подлежащее» с понятием подлежащего у Аристотеля, ссылаясь на его «Аналитики»: «Подлежащее. обозначает здесь не грамматическое подлежащее, а реальное под-лежащее., каковым может быть только сущность.» [8, с. 600-601].
Очевидно, что Аристотель не занимается собственно языком, его интересует Бытие и Речь, т.е. адекватное употребление языка относительно бытия, поскольку бытие осознается через язык и посредством него высказывается. Это станет еще очевиднее, если обратиться к другой работе Аристотеля, его «Топике».
В пятой главе первой книги «Топики» Аристотель дает характеристики четырем классам понятий, четырем «общим местам», четырем «точкам зрения», четырем аспектам рассмотрения «вещи»: «определение . есть речь, обозначающая суть бытия [вещи]»; «собственное - это то, что хотя и не выражает сути бытия [вещи], но что присуще только ей и взаимозаменяемо с ней»; «род есть то, что сказывается в сути о многих и различных по виду [вещах]»; «привходящее - это то, что.одному и тому же может быть присуще и не присуще.» [2, II, с. 353-354]. Аристотель называет их предикабилиями и полагает принципиально отличными от категорий «числом десять». Если в «Категориях» Аристотель заботится о том,
чтобы установить связь между вещами и речью (он все время поверяет «сказываемое» соответствием «первым сущностям»), то в «Топике» он предлагает еще одну систему категорий, которую так не называет. (Именно его предикабилии, полагаем, послужили основой для исследований Порфирия)
Вряд ли правомерно думать, что Аристотелю просто понадобилась еще одна типология предикатов. Правдоподобнее полагать, что, во-первых, Аристотель сам находил недостаточной систему категорий «числом десять», во-вторых, он осознавал связь «сказываемого» не только с бытием, но и с мышлением. Именно поэтому не объединил предикабилии в одну систему с категориями: предикабилии больше связаны с мышлением, чем с бытием, хотя, безусловно, взаимодействуют с категориями. Этому взаимодействию специально посвящена в «Топике» девятая глава первой книги, где совершенно очевидно определена приоритетность бытия относительно мышления, зависимость мышления от бытия: «Ведь привходящее, и род, и собственное, и определение всегда
V V п
принадлежат к одной из этих категорий. В самом деле, все положения, образованные посредством их, означают или суть [вещи], или количество, или качество, или какую-нибудь из остальных категорий» [2, II, с. 358].
Таким образом, система предикабилий выделялась и формировалась Аристотелем по другому основанию. На первом месте здесь определение, то есть не бытие, а «сказывание» о нем, не сущность (она в категориях,), а «речь, обозначающая суть». Собственное и привходящее - это признаки, которые следует различать посредством мыслительной операции. (Не случайно Порфирий вводит различающий признак). И род, «то, что сказывается.», для Аристотеля явно связан с мышлением: он относит род ко «вторым», хотя и «сущностям». Видимо, эта двойственность заставила Порфирия сомневаться относительно родов и видов: «.Существуют ли они самостоятельно, или же находятся в одних только мыслях, и если они существуют, то тела ли это, или бестелесные вещи, и обладают ли они отдельным бытием, или же существуют в чувственных предметах и опираясь на них: ведь такая постановка вопроса заводит очень глубоко и требует другого, более обширного исследования» [1, с. 59].
Сам Аристотель считает своей целью в «Топике» «найти способ, при помощи которого мы в состоянии будем из правдоподобного делать заключения о всякой предлагаемой проблеме и не впадать в противоречие, когда мы сами отстаиваем какое-нибудь положение» [2, II, с. 349]. Другими словами, на первом месте в этом сочинении Аристотеля мыслительная деятельность, реализованная в речи, мышление относительно бытия - в общении, т.е. тогда, когда «отстаиваем какое-нибудь положение».
Своему термину «топ» Аристотель не дает определения, но по тому, как он его использует, понятно, что топы Аристотеля - это разновидности того самого «способа»: «Один топ состоит в
рассмотрении того, не выдали ли за привходящее то, что присуще каким-то другим образом» [2, II, с. 374]; «Другой топ состоит в рассмотрении [вещей], о которых утверждают, что нечто присуще им всем или ни одному не присуще» [2, II, с. 375]; «Следующий топ состоит в том, чтобы дать определение привходящего и того, для чего оно есть привходящее» [2, II, с. 375]. Другими словами, под топами у Аристотеля совершенно очевидно понимаются определенные мыслительные операции посредством категорий и предикабилий относительно «вещей», аспектов их бытия. Эта совокупность способов рассмотрения объектов действительности с разных сторон и с разных точек зрения и представляла собой собственно топику Аристотеля или его диалектику [2, II, с. 349-352] и имела прямое отношение к диалогу, была древней теорией диалога.
По нашему наблюдению, в «Топике» Аристотеля явственно прослеживаются три уровня абстракции.
1. Способы, посредством которых общающиеся размышляют над предложенной проблемой, и от которых в основном зависит грамотный поиск доказательств истинности мнения. Это высший уровень абстракции. Например: «То, что нечто есть в существе своем, лучше и предпочтительнее того, что не принадлежит к роду.. И то, что желательно ради него самого, предпочтительнее того, что желательно ради другого» [2, II, с. 395].
2. Общие понятия, актуальные для человеческого существования, относительно которых можно упражняться в освоении способов изобретения содержания: человек, благо, зло, душа, тело, любовь, здоровье, счастье и т.д. Этот уровень можно условно назвать средним уровнем абстракции.
3. Собственно примеры применения способов изобретения (1) содержания к общим понятиям (2). Эти примеры представляют собой «этикомемы», основанные на жизненном опыте. Они приводятся в «Топике» исключительно для пояснения первого уровня абстракций, «способов», описание которых и является главным содержанием «Топики» Аристотеля. Например: «А то, что само по себе есть причина блага, предпочтительнее того, что есть причина его привходящим образом, как, например, добродетель предпочтительнее удачи (ибо первое само по себе есть причина блага, а второе - привходящим образом)» [2, II, с. 395].
На протяжении веков категории, предикабилии и топы Аристотеля не только исследовались, но и видоизменялись. С течением времени их объединяют в одну общую систему. Трактат Цицерона под тем же названием «Топика» [15, с. 56-81] - типичный образец объединения категорий, предикабилий и топов Аристотеля и переломный этап в
развитии этой системы. Это объединение происходит как бы помимо желания самого Цицерона, потому что в начале своего произведения он выражает намерение всего лишь «преподать» некоему Гаю Требатию «Топику» Аристотеля. Однако, в отличие от Аристотеля, для Цицерона диалектика и топика далеко не одно и то же. К первой он относит «пути суждения», ко второй - «искусство приискания» [15, с. 58]. Разделив диалектику и топику и скалькировав термин Аристотеля «топы» как «места», он утверждает, что «этим словом Аристотель назвал как бы хранилища, откуда извлекаются доказательства» [15, с. 58]. В числе этих «как бы хранилищ» он называет и категории Аристотеля, и его предикабилии, и собственно «способы». В последнем случае он все же привлекает «диалектиков», но полагает их умозаключения избыточными [15, с. 68-69]). При этом у него получается уже другая система топов.
Для лингвистических исследований важно, что Цицерон совершенно определенно разграничивает предложение и речь, высказывание: «предложение - это только часть законченной речи» [15, с. 76]. «Топика» Цицерона изобилует примерами, которые совсем не ограничиваются предложениями. Это всегда ситуация, и Цицерон стремится исчерпать ее в речевом отношении, не заботясь о том, будет ли это одно предложение или несколько. Сегодня можно было бы сказать, что Цицерон обнаруживает дискурсивный подход к речи.
Однако, поскольку с диалектикой топика Цицерона никак не связана, он полагает возможным использовать «места» именно как хранилища для конкретных ситуаций и понятий: «Когда спрашивают о справедливости и несправедливости, следует обратиться к местам, имеющим отношение к справедливости» [15, с. 78]. В этом качестве «общие места» прочно обосновались в риторике. Никак не связываемые с категориями и предикабилиями Аристотеля, они неоднократно осуждались людьми весьма глубокими и авторитетными: «Не стоит задаваться вопросом, когда следует рассматривать общие места: это не важно. Быть может полезнее разобраться, не лучше ли было бы не рассматривать их вовсе» [3, с. 236].
Таким образом, из сказанного следует:
1) И Аристотель, и Порфирий, и другие ученые древности занимались не столько речью, сколько категориями бытия и мышления, не вполне представляя разницы между ними, но осознавали ее и стремились выявить.
2) Необходимым выделять, описывать, классифицировать и осваивать категории они полагали сугубо в научных целях, для того, чтобы опираться на них в других науках и не рассматривали их как необходимую составляющую любой речи, хотя дали серьезные основания для того, чтобы рассматривать их исключительно с позиций языка.
3) В «Топике» Аристотель поставил по сути дела невозможную задачу: описать все возможные способы мышления и «сказывания» относительно типичных, с его точки зрения, глобальных человеческих проблем. При этом он совершенно очевидно не мыслил предложениями.
4) Если в «Метафизике» и «Категориях» Аристотель имеет в виду одно и то же, то «самостоятельное существование в себе. через различные формы (категориально) высказывания» уже никак нельзя отождествить ни с частями речи, ни с типами предикатов, но только с моделями высказываний о бытии как о вещном мире. При этом под «вещами» понимаются не только предметы, но и нравственноэтические понятия, и чувства, потому что Бытие древних неотделимо от его восприятия Человеком.
5) Описывая возможности «сказывания» (речи), Аристотель конструирует высказывания, а не наблюдает живую речь современников. Материал для его изысканий, описаний и обобщений в «Органоне», особенно в «Топике», «Об истолковании», «О софистических опровержениях», безусловно, диалоги Платона, которые тоже не есть подлинная речь, но ее имитация.
6) Обобщения Аристотель производит на уровне абстрактного высказывания, т.е. стремится проникнуть в глубину языка, а в бытии полагает важнейшими «первые сущности», т.е. индивидуальные вещи. Логичнее было бы и в высказываниях о бытии идти от «индивидуальных» высказываний, т.е. от реальной спонтанной речи.
Перечисленные выводы, на наш взгляд, есть основные положения «лингвистического парадокса» Аристотеля. О них можно было бы не говорить, если бы дело шло только о глубоком историческом прошлом, однако проблемы, поставленные Аристотелем, не исчерпаны и сегодня. Нас по-прежнему занимают отношения языка и мышления; мы по-прежнему недооцениваем живую спонтанную речь, хотя однозначно полагаем ее первичной относительно письменной речи; и сегодня в большинстве лингвистических исследований высказывание, суждение и предложение не разграничиваются, при этом предложение полагается высшей языковой единицей. И сегодня материал для лингвистического анализа якобы живой подлинной речи часто или конструируется, или берется из художественного текста.
Нам представляется вполне закономерным ход размышлений Ю.С. Степанова, который предлагает дополнить список десяти категорий Аристотеля категорий «факт» [13, с. 46-56]. На наш взгляд, только одно это убедительное дополнение исключает возможность сведения системы категорий Аристотеля к типологии предикатов: предиката «факт» не существует ни в одном конкретном языке.
Если «предложение соотносительно с логическим суждением, но не тождественно ему» [10, с. 227], а «высказывание - единица сообщения, обладающая смысловой целостностью» [10, с. 49; 4,
с. 94], то топ - это структурно-смысловая модель высказывания в самом обобщенном - категориальном - смысле. Система категорий, предикабилий и топов Аристотеля, исторически трансформировавшись, не утратила своей актуальности и сегодня. Однако для того, чтобы она заняла адекватное место в современных исследованиях, необходимо преодолеть «лингвистический парадокс» Аристотеля.
Список литературы
1. Аристотель. Категории (с приложением «Введения» Порфирия) / пер. и примечания А.В. Кубицкого. - М., 1939.
2. Аристотель. Сочинения: в 4 т. - М., 1978.
3. Арно А., Николь П. Логика, или Искусство мыслить, где помимо обычных правил содержатся некоторые новые соображения, полезные для развития способности суждения. - М., 1991
4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. - М., 2007.
5. Бенвенист Э. Общая лингвистика. - М., 1974.
6. Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. - М.; Л., 1952.
7. Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. - М., 1959.
8. Микеладзе З. Н. Основоположения логики Аристотеля. Примечания // Аристотель. Соч.: в 4 т. - М., 1978. - Т. 2. - С. 5-50; 594-598, 601-668.
9. Райл. Г. Категории // Райл Г. Понятие сознания / пер. с англ. - М., 1995. -С.323-338.
10. Розенталь Д.Е., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. - М., 1985.
11. Садикова В.А. Топика: истоки и перспективы // Филологические науки. -2009. - № 1. - С. 47-56.
12. Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения. - М., 1981.
13. Степанов Ю.С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Язык и наука конца 20 века. - М., 1995. - С. 35-73.
14. Степанов Ю.С. Язык и метод. К современной философии языка. - М., 1998.
15. Цицерон Марк Туллий. Избранные произведения. - М., 1975.





 CC BY
CC BY 158
158