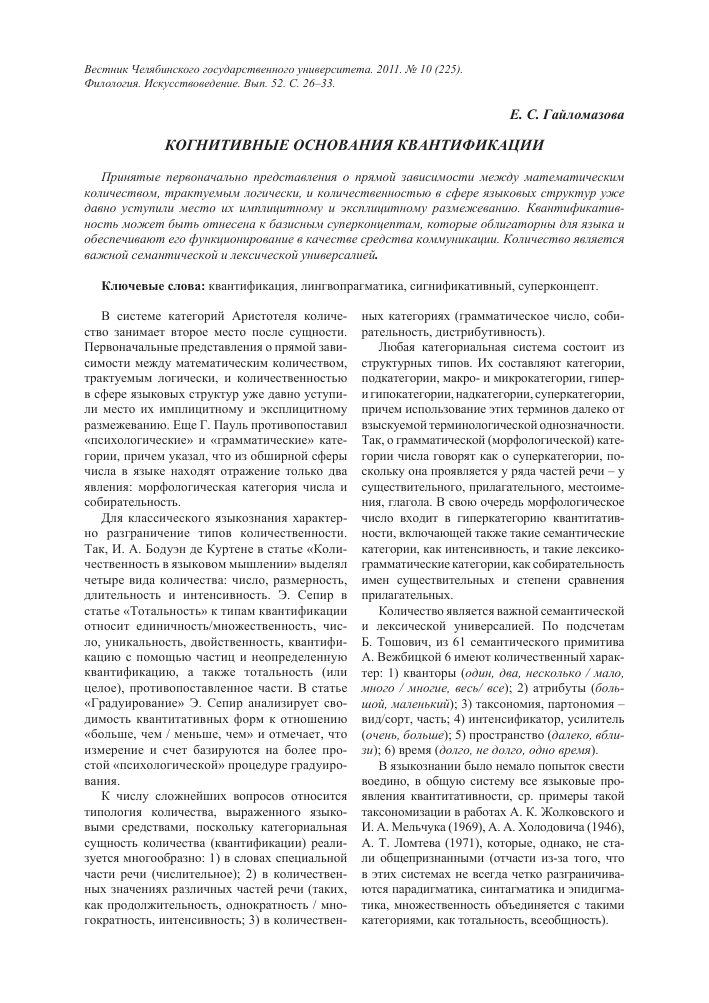Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 10 (225).
Филология. Искусствоведение. Вып. 52. С. 26-33.
Е. С. Гайломазова КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ КВАНТИФИКАЦИИ
Принятые первоначально представления о прямой зависимости между математическим количеством, трактуемым логически, и количественностью в сфере языковых структур уже давно уступили место их имплицитному и эксплицитному размежеванию. Квантификатив-ность может быть отнесена к базисным суперконцептам, которые облигаторны для языка и обеспечивают его функционирование в качестве средства коммуникации. Количество является важной семантической и лексической универсалией.
Ключевые слова: квантификация, лингвопрагматика, сигнификативный, суперконцепт.
В системе категорий Аристотеля количество занимает второе место после сущности. Первоначальные представления о прямой зависимости между математическим количеством, трактуемым логически, и количественностью в сфере языковых структур уже давно уступили место их имплицитному и эксплицитному размежеванию. Еще Г. Пауль противопоставил «психологические» и «грамматические» категории, причем указал, что из обширной сферы числа в языке находят отражение только два явления: морфологическая категория числа и собирательность.
Для классического языкознания характерно разграничение типов количественности. Так, И. А. Бодуэн де Куртене в статье «Коли-чественность в языковом мышлении» выделял четыре вида количества: число, размерность, длительность и интенсивность. Э. Сепир в статье «Тотальность» к типам квантификации относит единичность/множественность, число, уникальность, двойственность, квантификацию с помощью частиц и неопределенную квантификацию, а также тотальность (или целое), противопоставленное части. В статье «Градуирование» Э. Сепир анализирует сводимость квантитативных форм к отношению «больше, чем / меньше, чем» и отмечает, что измерение и счет базируются на более простой «психологической» процедуре градуирования.
К числу сложнейших вопросов относится типология количества, выраженного языковыми средствами, поскольку категориальная сущность количества (квантификации) реализуется многообразно: 1) в словах специальной части речи (числительное); 2) в количественных значениях различных частей речи (таких, как продолжительность, однократность / многократность, интенсивность; 3) в количествен-
ных категориях (грамматическое число, собирательность, дистрибутивность).
Любая категориальная система состоит из структурных типов. Их составляют категории, подкатегории, макро- и микрокатегории, гипер-и гипокатегории, надкатегории, суперкатегории, причем использование этих терминов далеко от взыскуемой терминологической однозначности. Так, о грамматической (морфологической) категории числа говорят как о суперкатегории, поскольку она проявляется у ряда частей речи - у существительного, прилагательного, местоимения, глагола. В свою очередь морфологическое число входит в гиперкатегорию квантитатив-ности, включающей также такие семантические категории, как интенсивность, и такие лексикограмматические категории, как собирательность имен существительных и степени сравнения прилагательных.
Количество является важной семантической и лексической универсалией. По подсчетам Б. Тошович, из 61 семантического примитива А. Вежбицкой 6 имеют количественный характер: 1) кванторы (один, два, несколько / мало, много / многие, весь/ все); 2) атрибуты (большой, маленький); 3) таксономия, партономия -вид/сорт, часть; 4) интенсификатор, усилитель (очень, больше); 5) пространство (далеко, вблизи); 6) время (долго, не долго, одно время).
В языкознании было немало попыток свести воедино, в общую систему все языковые проявления квантитативности, ср. примеры такой таксономизации в работах А. К. Жолковского и И. А. Мельчука (1969), А. А. Холодовича (1946), А. Т. Ломтева (1971), которые, однако, не стали общепризнанными (отчасти из-за того, что в этих системах не всегда четко разграничиваются парадигматика, синтагматика и эпидигма-тика, множественность объединяется с такими категориями, как тотальность, всеобщность).
В языкознании ХХ века общим местом стало противопоставление понятийных и языковых категорий (или, в другой терминологии, глубинной семантики и языковых семантических функций). На целесообразность описания языка при помощи понятийных категорий указывали И. И. Мещанинов, Б. А. Серебреников, Г. В. Колшанский, Г. А. Климов, С. Д. Кацнель-сон и мн. др. Основные понятийные категории образуют ядро универсального компонента языковой структуры. Истоки этой универсальности - в закономерностях отражения объективной действительности в сознании людей, то есть в единстве мира и общем устройстве когнитивно-перцептивного аппарата человека.
Онтологически квантификация является универсальным звеном концептуальных картин мира, наблюдаемых в различных языках. Она входит в основу единой логико-мыслительной базы, отражаемой в языковой системе разных народов: «.. .во всех языках выражены отношения между субъектом и предикатом, категории поссесивности, оценки, определенности/неопределенности, множественности» [7. С. 535]. В любом естественном языке вербализуются кванторы один, два, много, многие, весь, все, детерминаторы несколько, немного. Идея количества, писал А. П. Рифтин, пронизывает по сути всю семантическую сферу языка. При этом количественные характеристики всегда находятся в диалектически противоречивой связи с качеством, выступающей, в частности, как закон перехода количественных изменений в качественные и наоборот.
Сравнительно-историческое языкознание доказало, что каждый язык образует единство универсального, всеобщего и уникального, присущего только данному языку. Причем главный фактор уникального проявляется как различие в способе концептуализации действительности.
Лингвистику середины ХХ века характеризует стремление применить к языку естественнонаучные методы, и совершенно очевидно, что этот подход привел к большим успехам. Со временем, однако, стали очевидны и ограничения такого подхода, поскольку язык - не только естественный природный объект, но также объект психической, социальной, культурной природы. «Традиционный метод лингвистического исследования может быть назван формальным в том смысле, что форма, как вещь известная, постоянно бралась за отправной пункт исследования, тогда как значение, или
функция, формы рассматривалось как то, что должно быть обнаружено. Это явилось естественным следствием из факта, что филология долгое время основывалась главным образом на интерпретации старых текстов и, следовательно, делала точку зрения читающего своей собственной. В противоположность традиционной интерпретации форм, современная лингвистика принимает значение, или функцию, за свой отправной пункт и пытается обнаружить, какими средствами оно выражено» [19. P. 12].
Альтернатива формально-описательной лингвистике - когнитивно-ориентированная типология, которая исходит из того предположения, что «пределы межъязыкового варьирования в конечном счете обусловливаются особенностями человеческого интеллекта и коммуникации, то есть когнитивной способностью человека» [11. С. 44]. Сегодня общепризнанными являются успехи когнитивной лингвистики в интерпретации явлений категоризации и концептуализации мира человеком: «...исчерпывающее описание языка не может быть дано без полного описания человеческой когниции» [17. P. 63]. Когнитивная грамматика учитывает «субъективный» взгляд на значение. Семантическое содержание (value) языкового выражения определяется не только присущими объекту или ситуации, которые оно описывает, свойствами, но и, прежде всего, способом их представления [18. P. 6-7]. Современная когнитивная наука отказалась от господствовавшей прежде трактовки грамматики как чисто формальной структуры, отделенной от семантики, когда происходил либо полный отказ от анализа значений, либо значение фактически приравнивалось к набору свойств, присущих денотату.
Хорошо изучены и детально представлены в грамматических описаниях системные отношения количественных слов, к которым относятся:
1) слова, выражающие определенное количество:
а) единичность (each, any, one, every some either);
б) двойственность (two, both, a pair);
в) слова со значением количества (a dozen, a score) и количественные числительные;
2) слова со значением неопределенного количества:
а) передающие тотальное количество (all, every, each, any);
б) обозначающие неточное количество (some, few, several, a lot, a score, a number, a dozen);
в) со значением меры недискретных величин (much/more, some, a part, a piece);
3) количественные слова, характеризующие действие:
а) со значением темпоральной характеристики (always, often, anywhere);
б) со значением локативной характеристики (everywhere, anywhere, at any place);
в) со значением неоднородного действия (once, twice, thrice, four times, many times).
Для квантификаторов характерен процесс грамматикализации. Если лексикализация приводит к образованию окаменелых грамматических форм, употребляющихся в качестве лексических уточнителей (как русская форма бывало, представляющая собой лексикализованную форму от глагола быть), то грамматикализация
- это обратный процесс. Если при лексикали-зации значение сужается и специализируется, то при грамматикализации расширяется и абстрагируется. Так, числительные первого ряда приобретают паукальное значение, а числительные, обозначающие большие количества, начинают передавать недифференцированное большое количество, особенно в форме множественного числа (тысячи, миллион и под.).
Как правило, в языке есть длинный ряд слов и фразеологизмов с доминантой «много» или «мало», которые допускают взаимную замену. Однако, поскольку каждая единица вносит тот или иной экспрессивно-эмоциональный, стилистический оттенок, то взаимная замена, индифферентная для общего смысла, обычно ограничена. Ср. наблюдение И.К. Марковского: можно сказать ‘много малины, пропасть малины, бездна малины, море малины, тьма малины, масса малины, прорва малины’, но нельзя - ‘буря малины, град малины, лес малины, орава малины’. Уже эти факты иллюстрируют, насколько детально представлены фрагменты квантификации в языковой картине мира. Рассмотрим подробнее, каковы общелогические и национально-специфические особенности отражения количественных характеристик в языковой картине мира.
Формирование феномена, называемого «картиной мира», совпадает во времени с процессом антропогенеза, однако сама реалия, называемая данным терминологическим сочетанием, стала изучаться сравнительно недавно. Предтечей глобального интереса к «языковым картинам мира» было открытие и глубокое обоснование В. фон Гумбольдтом языкового идиоэтнизма. Каждый язык, по Гумбольдту, заключает в себе особое мировидение, облада-
ет присущим ему космосом понятий и мыслительных форм. Любой язык отображает мир с определенной точки зрения - точки зрения народа, создавшего этот язык. Поэтому в любом языке представлен универсально-объективный аспект, связанный с отражением в языке объективной реальности как таковой, и субъективнонациональный (идиоэтнический), который отражает именно специфический, особый взгляд на мир носителей конкретного языка.
Критическое отношение к универсализму в языкознании назрело еще в Новое время, в трудах Ф. Бэкона и Й. Гердера, когда различия между языками перестали представляться только различиями в звуках и их конвенциональных сочетаниях. Идиоэтнический взгляд на содержательную сторону языка, не отрицая универсального компонента, сосредоточивает внимание на том, что делает каждый язык носителем определенного мировидением. Но именно Гумбольдт предвосхитил концепции языковой картины мира Л. Вайсгербера, Э. Сепира и Б. Уорфа, а в отечественном языкознании - Г. А. Брутяна и Ю. Н. Караулова (ср. гумбольдтовское понятие «внутренней формы языка»). Понятие «языковой картины мира» коррелирует с гумбольдтовским «языковым кругом», с идеями основоположников и сторонников гипотез «лингвистической относительности и дополнительности». Впрочем, у идеи языковой картины мира были другие предтечи. Как известно, Л. Вайсгербер опирался на положения Й. Г. Фихте, стремившегося показать, «какое неизмеримое влияние на все человеческое развитие конкретного народа может иметь характер (Beschaffenheit) его языка, который сопровождает каждого вплоть до сокровенных глубин его духа в размышлениях и желаниях и ограничивает либо окрыляет, который соединяет всю человеческую массу, говорящую на нем, на ее территории в единый общий разум, который есть воистину точка обоюдного соприкосновения мира чувственного и мира духовного, сплавляющего края этих миров воедино». Цит. по: [13. С. 145]. Для неогумбольдтианства вообще и концепции Л. Вейсгербера было характерно представление об особой роли языка в формировании человеческих сообществ, которое не сводимо ни к природным обстоятельствам, ни к феноменам человеческой воли. Этнические силы языкового сообщества коренятся в том, что язык есть вход в мир духа: «человек - по сути своей одаренное языком существо и на его
языковых способностях основана возможность большинства его духовных свершений» [20. Р. 435]. Характерно его определение языкового сообщества через понятие «картины мира»: «Языковое сообщество - это люди, спаянные вместе картиной мира общего родного языка, а именно в тройном смысле: в смысле совладения (Те^аЬе), в том отношении, что они все вместе несут картину мира, каждый формируется путем врастания в родной язык и так обретает членство в родном сообществе; в смысле исчерпания (Ausschбpfen), когда совладение мыслительным миром родного языка создает ту основу, на которой возможно совместное творчество во всех областях жизни <...>; в смысле дальнейшего строительства, когда результат духовного труда, получая длительную форму, должен войти в общее достояние, чтобы быть понятным, воспринятым, закрепленным и оцененным» [20. Р. 135-136].
Исключительно популярным, даже модным, термин ‘языковая картина мира’ стал в конце ХХ века. Как пишет В. Ф. Васильева [9. С. 23], на страницах статей, диссертаций, монографий много рассуждений о различных «языковых картинах мира»: русской, славянской, немецкой, английской, при этом само понятие языковой картины мира, «его статус как лингвистического феномена остается размытым и неопределенным», что позволяет авторам лингвистических сочинений трактовать его в высшей степени произвольно (в упомянутой работе приводятся впечатляющие примеры из публикаций последних лет, где «языковая картина мира» отождествляется с функционированием лексико-семантических разрядов имен, преднамеренные нарушения лексической и грамматической сочетаемости в художественном тексте и т. д. и т. п.). Пафос анализируемой статьи (эпиграфом к которой взяты слова А. Т. Кривоносова «Я бы посоветовал лингвистам, логикам, психологам и философам - не писать больше о теории “лингвистической относительности” и о теории “языковой картины мира”, не ломать понапрасну копья») в том, что идея «языковой картины мира» возвращает лингвистическую мысль к известному положению В. Гумбольдта «Язык есть орган, образующий мысль», в то время как язык не является мыслящей материей и, следовательно, не может формировать представление о мире.
Думается, однако, что семантическая диф-фузность и метафоричность термина ‘языковая картина мира’ сами по себе не могут стать
причиной его неприемлемости. Отношение к метафоре в научной (доказательной) речи всегда было неоднозначным. Однако от резко отрицательной оценки метафоры в языке науки философов-рационалистов (ср. мысль Т. Гоббса о том, что во всех случаях, когда серьезно ищут истину, метафоры должны быть исключены) научная рефлексия пришла к признанию не просто важной, но даже ключевой роли метафоры. В языкознании XIX века такую ключевую роль играли метафоры «язык
- живой организм», «генеалогичское дерево» (в применении к родству языков); ср. метафоры валентности или поля в лингвистике, которые задают когнитивную модель, чрезвычайно перспективную для концептуализации соответствующих научных областей. Научная метафора, играющая эвристическую роль, рассматривается как источник новых концепций. Метафора может определять научную картину мира, может играть ключевую роль в научной концепции. Такие ключевые метафоры «закрепляются в научной, в частности в лингвистической терминологии и служат, в отличие от метафор, применяемых для разъяснения материала, предметом особой рефлексии» [16. С. 84]. Важным свойством научной лингвистической метафоры в ряде случаев оказывается то, что она оказывается метафорой-катахрезой. Ср. метафору ‘поле’ в современные теориях функциональной грамматики (школа А. В. Бондарко и др.). В когнитивном отношении метафора-катахреза едва ли не более ценна, чем обычная метафора. Ср.: «Термины-метафоры активно стимулировали научную мысль, поскольку различные компоненты, на основе которых осуществлялся перенос, имплицировали другие признаки и разнообразные следствия» [12. С. 37]. Как социально-политическая метафора (типа марксистских базиса и надстройки или горбачевской перестройки) может играть судьбоносную роль для социума, так и научная метафора способна определять идеологию науки. По справедливому мнению Н.Д. Арутюновой, «смена научной парадигмы всегда сопровождается сменой ключевой метафоры, вводящей новую область уподоблений, новую аналогию».
Что касается размытого семантического содержания обсуждаемого термина (терминологического сочетания), то вряд ли можно сказать, что другие (самые устоявшиеся!) термины обладают иными свойствами. Даже самые фундаментальные термины (типа ‘фонема’, ‘грамматика’, ‘функция’, ‘семантика’,
‘прагматика’ и под.), чей семантический объем, казалось бы, должен быть неизменным (для успешного развития науки), не обладают свойствами идеального термина, потому что, наряду с более или менее устоявшимся их пониманием (вошедшим в учебники и словари), в рамках новых концепций вновь и вновь постулируется их особое понимание. «Презумпция» однозначности термина основывается на том, что его значение исчерпывается понятием (под понятием понимается логически оформленная мысль о классе предметов, явлений, идея чего-либо). Однозначность понятия является одним из элементарных условий правильного мышления. Однозначность термина выражается в соответствии каждой единицы содержания одной определенной единице выражения и наоборот. В силу однозначного соотношения означающего и означаемого обеспечивается необходимая точность информации в науке. Однако процесс развития понятия часто сопровождается поисками лучшего, наиболее соответствующего ему наименования, что неизбежно приводит на определенных этапах к «семантической размытости» того или иного термина.
Различия в языковой структуризации сходной информации могут мотивироваться как многообразием свойств объективной реалии, так и своеобразием его отражения в данной лингвокультуре. Что касается возвращения к идеям В. Гумбольдта, то теоретики современной когнитивной лингвистики и лингвокульту-рологии, как известно, даже выдвинули лозунг «Вперед - к Гумбольдту!»
Не успев приобрести ранг категории в немецкой философии языка начала XIX века, уже во второй половине XIX века «языковая картина мира» оказалась непригодной для компаративных исследований фантасмагогией. Что же касается всевозможных запретов на исследование той или иной проблематики, то рано или поздно они неизбежно нарушались (ср. новый всплеск интереса к проблеме происхождения языка, обращение к которой было под запретом многие десятилетия).
В современной философской литературе утверждается мнение о том, что «в человеческом сознании, помимо логической модели действительности, существует так называемая языковая модель мира, к которой относятся внутренняя форма слова, предложения и суждения, изменения смысловой стороны слова, переносные употребления его, эмоциональная нагрузка слова, нюансы индивидуального использования его и
т. д.» [3. С. 57]. П. В. Дурст-Андерсен в статье «Ментальная грамматика и лингвистические супертипы» выдвигает гипотезу о том, что «не все языки грамматикализованы на одной основе», что необходимо установить различие между структурами действительности, структурами сознания и структурами языка. Само собой разумеется, что все существующие в мире языки созданы человеком с помощью головного мозга, но «это не означает, что они были образованы с помощью одних и тех же механизмов сознания или в одном и том же участке мозга». Дурст-Андерсен доказывает, что грамматические системы разных языков грамматикализованы, но на основе структур сознания, которые, каждая по-своему, отражают определенные структуры действительности, т. е. одни и те же структуры действительности отражаются в человеческом сознании на уровнях когнитивных структур. При этом подчеркивается, что в человеческом сознании существует «центр», который с помощью ментальных конструкций идентифицирует ситуации окружающей действительности. В сознании человека существуют определенные ментальные указания, которыми он руководствуется. В ментальном архиве хранятся копии ситуаций прошлого, состояний, деятельности, процессов.
Язык обеспечивает наиболее естественный доступ к сознанию и мыслительным процессам, причем вовсе не потому, что многие результаты мыслительной деятельности оказываются вербализованными, а потому, что мы знаем о структурах сознания только благодаря языку [5. С. 10]. Языковая картина мира лежит в основе видения действительности. Она может быть охарактеризована как целостный образ, который является результатом всей практической духовной деятельности представителей данной лингвокультуры.
«Языковая картина мира представляет собой объемное и многоярусное понятие, играющее главную роль в познавательной деятельности человека и имеющее множество параметров, многократно пересекающихся в различных языковых единицах, которые относятся к разным уровням языка» [10. С. 20]. Картина мира космологична (она есть глобальный образ мира) и антропоцентрична (несет в себе черты специфически человеческого способа миропостиже-ния) одновременно, она представляет основные свойства мировидения человека и содержит черты человеческой субъективности (ср. известный факт: человек видит свет и цвет, и они есть в языковой картине мира, но человек не видит
рентгеновские лучи, и они не отражены в языковой картине мира). Важным пунктом для понимания природы и сущностных свойств картины мира является тот факт, что она представляет собой создаваемый человеком субъективный образ объективной реальности. Искажения и искривления информации неизбежны при пользовании тем или иным кодом. При этом картина мира внутренне достоверна для субъекта.
Отражая в процессе познавательной деятельности объективный мир, человек фиксирует результаты своих познаний в языковых формах. Совокупность таких знаний, запечатленных в языковой форме, представляет собой то, что в различных концепциях получило название ‘промежуточный мир’, ‘языковая репрезентация мира’, ‘языковая модель мира’ или ‘языковая картина мира’. Языковая картина мира предшествует «специальным» картинам мира (физической, химической и т. п.). В содержательной стороне языка зафиксирована картина мира каждого этноса. Языковая картина мира отличается от мира действительности в силу специфики конкретных культур, стоящих за каждым языком. В конкретном языке происходит «конвенциализация» [17], то есть негласное коллективное соглашение говорящих выражать свои мысли определенным образом.
Как справедливо пишет О.А. Радченко, «картина мира» еще не стала аксиоматичным феноменом в лингвистике (хотя ее вполне можно считать одним из фундаментальных признаков идиоэтнической парадигмы в современной философии языка). Дело в том, что поиски определения «картины мира» с позиций философии языка завершаются слишком гипотетическими выводами, а прикладные исследования навлекают на себя обвинения во фрагментарности доказательств существования особой картины мира в каждом языке.
Можно встретить противоречивые утверждения, касающиеся роли языка в формировании картины мира. Так, С. X. Битокова [1. С. 7-8] в седьмом положении на защиту своей докторской диссертации утверждает: язык не может «лепить» в сознании свою модель мира, а в девятом положении пишет о том, что периферия языковой картины, выходящая за пределы концептуальной картины мира, формирует уникальную специфику отображения мира конкретным языком. Подобная терминологическая нечеткость, очевидно, неизбежна на современном этапе разработки идей, связанных с соотношением языковой и ментальной «картин мира».
К важнейшим из внешних свойств окружающего мира относятся квантификативные характеристики; ср. речевое выдвижение на первый план количественных физических параметров: мы говорим большое красивое красное кресло, а не красное красивое большое кресло. Если в научном познании необходима все более точная квантификация, то в обыденном сознании понятийная точность нередко уходит на второй план, а на первый выдвигается психологические и аксиологические параметры квантификации. «Количественные отношения осваиваются практическим сознанием через их психологизацию - формирование отношения к нему, и основываются на следующих процедурах: 1) сравнение предметов между собой и их количественная градация; 2) сравнение с собственными размерами (трава по колено, куст с меня ростом) и использованием их в измерении (локоть, аршин, фут, дюйм); 3) измерение подручными средствами (стакан сахару, ведро воды);
4) выделение особо значимых точек: нормы -«ни много, ни мало», минимума и максимума, которые оказываются наиболее эмоционально окрашенными.» [14. С. 109]. Минимальная квантификация реализуется и опредмечивается в ФЕ типа с гулькин нос, в час по чайной ложке, капля в море, максимальная - в выражениях типа море крови, вино рекой, пруд пруди и под. Ср. мысль Н. Б. Мечковской [6. С. 453] о том, что разнообразные значения градуальности и количественности пронизывают и заполняют собой язык не потому, что люди придают мере и количеству самодовлеющее значение, а потому что соотносить феномены жизни и констатировать различия - это единственная когнитивная возможность видеть явления и замечать их качественную определенность.
С 60-х годов ХХ века проблема картины мира стала рассматриваться в рамках семиотики при изучении первичных моделирующих систем (языка) и вторичных систем (мифа, религии, фольклора, живописи, архитектуры). В современной науке принято говорить прежде всего о концептуальной картине мира, субстрат которой - концепты, образы, представления, схемы поведения и т. п.
Существуют различные классификации картин мира, в том числе - деление на статическую (закрепленную в системе языка - словарях, грамматиках, энциклопедиях - сумму знаний о каком-либо явлении или понятии) и динамическую (реализующуюся системой понятий в речи и тексте). Ю.Л. Воротников
пишет, что в русской языковой картине мира «экспансия избыточной степени тотальна». Эта позиция находит подтверждение во многих исследованиях индивидуальных авторских стилей русских писателей. Так, Ю.Н. Караулов указывает на такую фундаментальную особенность идиостиля Ф. Достоевского, которую можно назвать «крещендо» или «предельность» в оценках или характеристиках. Тексты Ф. Достоевского насыщены такого рода лексикой, которая обозначает крайнюю степень проявления чего-либо: донельзя, чрезвычайно, до кровавых слез, до невозможности и т. п. Г. Н. Большакова [2. С. 529] отмечает, что модусы степеней в тексте В. Набокова направлены в сторону количественной и качественной интенсивности, то есть стремятся к большим полюсам. Тотальная экспансия чрезмерности проявляется в количестве употреблений маркеров интенсивности -чрезмерно, крайне, слишком и под.
Языковая картина мира, представленная в художественном произведении, состоит из множества ментальных единиц - концептов, которые могут подвергаться определенному переосмыслению персонажами, и за это переосмысление, репрезентированное денотативно или метафорически, автор «ответственности не несет». Установлено, что более всего автор проявляется в рамочных компонентах текста (заглавии, эпиграфе, начале и концовке текста), а также в метатексте, составляющем целое с основным текстом и включающем посвящения, авторские примечания и ремарки, предисловия, послесловия, отступления и под.
Информационную основу картины мира составляют концепты. Центральное место в познавательной деятельности человека занимает процесс концептуализации, который состоит в осмыслении и обработке поступающей по разным каналам информации и образовании концептов как определенных структур знания. В качестве самого существенного признака концепта С. А. Аскольдов [8] называл «функцию заместительства»: концепту, как мыслительному образованию, приписывается возможность замещать нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода. Вторая важная позиция состоит в том, что заместительная функция концепта символич-на. То есть концепт является не отражением замещаемого множества, но его выразительным символом, обнаруживающим лишь потенцию совершить то или иное. О. А. Алимурадов связывает идею концепта с теорией типов А. Чер-
ча, в которой речь может идти о концептах сущностей, представляющих собой типы. Типы в логике А. Черча характеризуются наличием денотатов; последние, сопоставленные с определенными типами, имеют концепты, которые представлены содержанием определенных понятий. По мысли О. А. Алимурадова, термин ‘концепт’ синонимичен фрегевскому термину ‘смысл’ - способ комплексного представления денотата. Комплексная сущность концепта особо подчеркивается: полагается, что разные области концепта находятся во взаимосвязи, индуцируют и активируют друг друга. Причем немаловажным свойством концепта оказывается способность множества фрагментов (составляющих концепт) активироваться при активации только одного из них.
Е. С. Кубрякова [4] полагает, что термин ‘концепт’ служит для объяснения ментальных единиц или психических ресурсов нашего сознания. Концепт включает языковое знания (например, сочетаемость слова), это понятие абстрактного уровня, позволяющее выводить архетипы; концепт является феноменом прагматического плана, то есть он соотносим с системой ментальных образований, концепт хранится в форме гештальтов и пропозиций; концепт принципиально многомерен. Множественность концептов разного уровня обеспечивает представление всего многообразия знаний о реальной действительности. Совокупность концептов, формирующихся в процессе познания и освоения мира и отражающих представления о нем, составляют интегральную концептуальную систему как результат когнитивной деятельности человека.
Учитывая, что концепты обладают различным функциональным потенциалом, признается целесообразным выделять разные виды ментальных сущностей - собственно концепты (то есть микроконцепты, ориентированные на лексическое значение отдельной лексемы или грамматической формы), макроконцепты, обладающие большой систематизирующей силой и представляющие масштабные сущности, и суперконцепты, ориентированные на функционально-коммуникативный потенциал глобальной ментальной единицы и проявляющиеся в объемном макрофрейме, который складывается из многообразия типичных синтагм, выражающих разные типы ситуаций, связанные с базисным понятием.
Квантификативность может быть отнесена к базисным суперконцептам, которые облига-
торны для языка и обеспечивают его функционирование в качестве средства коммуникации. Будучи фундаментальной для человеческого познания и коммуникации сущностью, суперконцепт квантитативности способен, поворачиваясь разными гранями, актуализировать разные признаки и слои. Познание асимметрично в том смысле, что одни фрагменты действительности человек воспринимает как бы через увеличительное стекло, тогда как другие
- как бы через перевернутый бинокль.
Так, в работе [15] подробно раскрыто, каким образом счетные слова связаны с миром человека в китайском языке. Если при именных группах, обозначающих компоненты этого мира, употребляется счетное слово со значением неисчислимости, то речь идет о своего рода «предметной» характеристике человека. Если же счетное слово переключается из сферы неодушевленных имен в область имен, относящихся к человеку, то именная группа приобретает метафорическое значение, так что даже в кванторной семантике присутствуют элементы национальной картины мира. Специфика этой картины состоит в том, что мир человека противостоит «другой» реальности, что проявляется в употреблении терминов собирательных множеств, с помощью которых часто интерпретируются предметы, не входящие в мир человека.
Список литературы
1. Битокова, С. X. Парадигмальность метафоры как когнитивного механизма (на материале кабардинского, русского и английского языков) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Нальчик, 2009. 46 с.
2. Большакова, Г. Н. Единицы с количественной, качественно-количественной и количественно-оценочной семантикой в идиолекте и идиостиле В. Набокова // Логический анализ языка. Квантификативный аспект языка. М. : Индрик, 2005. С. 521-534.
3. Брутян, Г. А. Языковая картина мира и ее роль в познании // Методологические проблемы анализа языка. Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1976. С. 57-64.
4. Кубрякова, Е. С. Когнитивные аспекты морфологии // Язык. Теория, история, типология. М. : Эдиториал УРСС, 2000. С. 22-27.
5. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика : учеб. пособие. Минск, 2004. 255 с.
6. Мечковская, Н. Б. Градуально-количественная семантика в грамматике, лексике и фра-
зеологии : уровневое своеобразие и межуров-невые корреляции // Логический анализ языка. Квантитативный аспект языка. М. : Индрик, 2005. С. 448-465.
7. Николаева, Т. М. Качественные прилагательные и отражение «картины мира» // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии. М. : Наука, 1983. С. 236-247.
8. Аскольдов, С. А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. М., 1997. С. 267-279.
9. Васильева, В. Ф. «Языковая картина мира»: миф или реальность : полемические заметки // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология, 2009. № 3. С. 22-31.
10.Гафарова, Г. В. Теоретические основы и принципы составления функциональнокогнитивного словаря. Уфа, 2003. - 302 с.
11. Кибрик, А. Е. Константы и переменные языка. СПб : Алетейя, 2003. 719 с.
12.Локтионова, Н. М. Семантические реалии онтологии языкового знака : автореф. дис. ... д-ра. филол. наук. Краснодар, 2002. 43 с.
13.Радченко, О. А. Язык как миросозида-ние. Лингвофилософская концепция неогум-больдтианства. Ч. 1. М., 1997. 230 с.
14.Рябцева, Н. К. Размер и количество в языковой картине мира // Логический анализ языка. Языки пространств. М. : Языки рус. культуры, 2000. С. 108-116.
15.Тань, Аошуан. Проблемы скрытой грамматики: синтаксис, семантика и прагматика языка изолирующего строя (на примере китайского языка). М. : Языки славянской культуры, 2002. 896 с.
16.Хазагерова, И. Г. Научная метафора: проблема оценки когнитивной перспективности (на материале лингвистической терминологии) // Изв. ин-та управления и инноваций авиаци-он. промышленности. 2004, № 1. С. 84-89.
17.Langacker, R. W. Nouns and verbs // Language 63, 1987. P. 53-94.
18.Langacker, R. W. An overview of cognitive grammar // Topics in cognitive linguistics. Leiden, 1988. P.3-85.
19.Mathesius, V. Nové proudy a smery v jazykovednem badáni // Z klasickeho obdobi Prazske skoly 1925-1945. Praha, 1972. № 2. P. 5-36.
20.Weisgerber, J. L. Die Stellung der Sprache im Aufbau der Gesamtkultur. Heidelberg, 1934.





 CC BY
CC BY 97
97