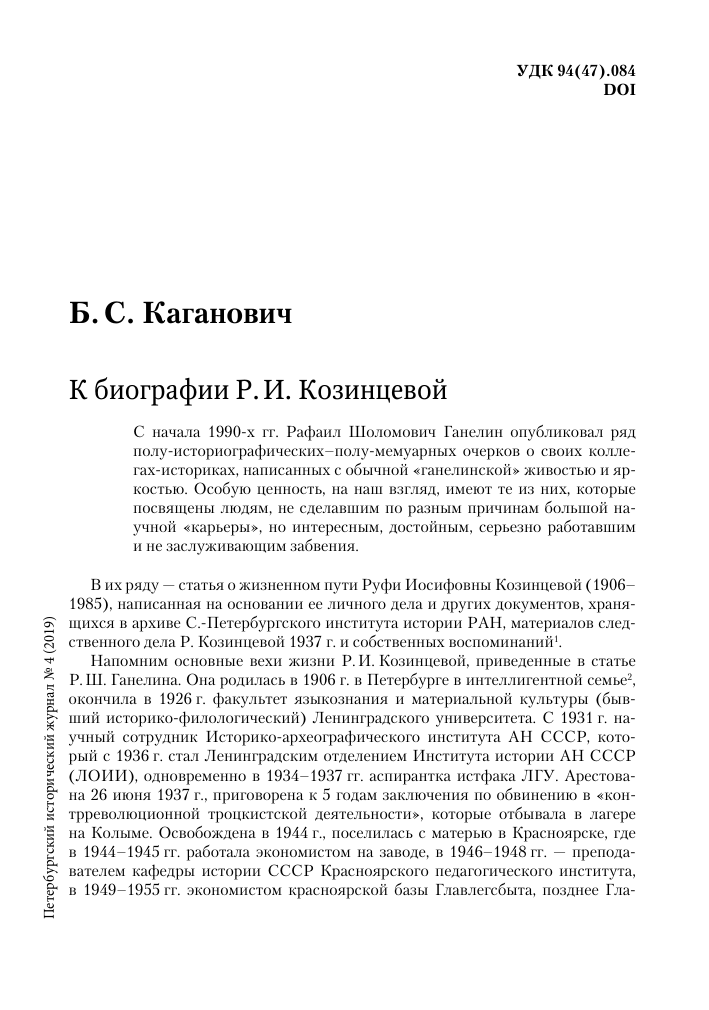УДК 94(47).084 DOI
Б. С. Каганович
К биографии Р. И. Козинцевой
С начала 1990-х гг. Рафаил Шоломович Ганелин опубликовал ряд полу-историографических-полу-мемуарных очерков о своих коллегах-историках, написанных с обычной «ганелинской» живостью и яркостью. Особую ценность, на наш взгляд, имеют те из них, которые посвящены людям, не сделавшим по разным причинам большой научной «карьеры», но интересным, достойным, серьезно работавшим и не заслуживающим забвения.
В их ряду — статья о жизненном пути Руфи Иосифовны Козинцевой (19061985), написанная на основании ее личного дела и других документов, хранясь щихся в архиве С.-Петербургского института истории РАН, материалов след-^ ственного дела Р. Козинцевой 1937 г. и собственных воспоминаний1.
Напомним основные вехи жизни Р. И. Козинцевой, приведенные в статье ^ Р. Ш. Ганелина. Она родилась в 1906 г. в Петербурге в интеллигентной семье2, я окончила в 1926 г. факультет языкознания и материальной культуры (быв-^ ший историко-филологический) Ленинградского университета. С 1931 г. на-« учный сотрудник Историко-археографического института АН СССР, кото-8 рый с 1936 г. стал Ленинградским отделением Института истории АН СССР
О
^ (ЛОИИ), одновременно в 1934-1937 гг. аспирантка истфака ЛГУ. Арестовало на 26 июня 1937 г., приговорена к 5 годам заключения по обвинению в «кона трреволюционной троцкистской деятельности», которые отбывала в лагере 5§ на Колыме. Освобождена в 1944 г., поселилась с матерью в Красноярске, где ^ в 1944-1945 гг. работала экономистом на заводе, в 1946-1948 гг. — препода-^ вателем кафедры истории СССР Красноярского педагогического института, &1 в 1949-1955 гг. экономистом красноярской базы Главлегсбыта, позднее ГлаС
вобувьторга. В 1956 г. реабилитирована и вернулась в Ленинград. В октябре 1956 г. зачислена младшим научным сотрудником архива ЛОИИ. В 1963 г. защитила в ЛГУ кандидатскую диссертацию «Очерки внешней торговли и таможенной политики России первой трети XVIII в.»; опубликовала в эти годы ряд весьма квалифицированных статей по проблемам источниковедения и социально-экономической истории России XVIII в., участвовала в подготовке «Писем и бумаг Петра Великого» и некоторых других изданий. В 1970 г. уволена на пенсию по сокращению штатов.
Наиболее подробно в статье Р. Ш. Ганелина освещены допросы Р. И. Козинцевой в НКВД в 1937 г. и обстоятельства ее расставания с ЛОИИ, растянувшегося на несколько лет.
Мы хотели бы дополнить и в некоторых случаях уточнить работу Р. Ш. на основании источника, оставшегося ему неизвестным. Имеются в виду письма Р. И. Козинцевой Александру Игнатьевичу Андрееву, которые очень ярко рисуют как обстановку ее жизни в Красноярске, так и процесс и всю механику ее возвращения в ЛОИИ. Они раскрывают, что в реальности стояло за сухими строками официальных документов и, кроме того, показывая круг интеллектуальных и культурных интересов Р. И. Козинцевой, много дают для понимания ее как человека.
Крупнейший специалист по отечественному источниковедению, русской истории XVIII в. в различных ее аспектах, истории Сибири и ее изучения Александр Игнатьевич Андреев (1887-1959) в 1920-х гг. был ученым секретарем Постоянной историко-археографической комиссии Академии наук и преподавал в ЛГУ. Андреев был университетским учителем Р. И. Козинцевой и, как видно из писем, у них сложились очень добрые и доверительные отношения3. Положение Р. И. Козинцевой было известно ему не понаслышке: за плечами у Андреева был арест в 1929 г. по «Академическому делу», полтора года следствия, ссылка в Красноярский край, где он работал счетоводом, потом сотрудником музея в Енисейске, и годы опасной и мучительной неопределенности по возвращении в Ленинград в 1935 г.4
В фонде А. И. Андреева в Петербургском филиале Архива РАН хранятся С! 47 писем, 20 открыток и 1 записка Р. И. Козинцевой за 1948-1958 гг.5 ^
Первое из этих писем датировано 15 июля 1948 г. — этим летом Р. И. Ко- ^ зинцева впервые после 1937 г. побывала «на материке» — и извещает Андреева | о предстоящем после Ленинграда ее приезде в Москву, где она потом и встре- ^ тилась с А. И. Андреевым, заведовавшим с 1943 г. кафедрой вспомогательных -с исторических дисциплин в Историко-архивном институте. По возвращении в Красноярск ее ждала потеря работы. В следующем письме Козинцевой, ^ от 19 декабря 1948 г. читаем: ^
«Дорогой Александр Игнатьевич! §
Извините за двухмесячное молчание. Единственное оправдание, что молчала не от хорошей жизни <...>. Схематично события развернулись так: приехав, на- я
чала распутываться с Институтом (формальности с бухгалтерией, с библиотекой и т. д.), затем явилась к директору (Иудушка Головлев) <...> разговоры наши были великолепны, но непередаваемы <...> Вопрос встал о формулировке. Он предложил подать заявление по болезни. Я потребовала хорошей характеристики. Начали торговаться, как барышники на конской ярмарке по поводу каждой фразы характеристики. В конце концов характеристика получилась хорошая (главное, чего он боялся — признать «высокий теоретический уровень» лекций!) и я положила на его стол заявление «по болезни». Так это и написано в трудкнижке» (л. 3).
Эти слова конкретизируют и, возможно, несколько корректируют оценку Р. Ш. Ганелина, опубликовавшего названную характеристику и заметившему: «Данная ей при увольнении 30 октября 1948 г. характеристика <...> при всех условиях делает честь подписавшим ее директору доценту Б. Райскому и председателю профкома доценту М. Кириллову»6. Далее в этом письме Р. Козинцева описывает свои мытарства в поисках работы: «Ничего и ничего. Все страхуются, перестраховываются, как бы чего не вышло. Мама очень хочет, чтобы я занялась наконец на бухгалтерских курсах, обучилась чему-нибудь всюду нужному, ибо пребывание наше здесь думается мне, не вечно» (Там же).
Из ленинградцев, кроме Андреева, Р. И. Козинцева поддерживала постоянную связь с сотрудницей ЛОИИ, ученицей Андреева Раисой Борисовной Мюллер (1896-1989)7. Очевидно, они сообщили ей о защите в конце 1948 г. докторской диссертации «Очерки из социально-экономической истории русского города. (Тихвинский посад в ХУ1-ХУШ вв.)» еще одной ученицы Андреева К. Н. Сербиной8. Любопытен отклик Козинцевой на это известие в письме Андрееву от 22 января 1949 г.: «Очень рада за К. Н. Думается, что можно смело поздравить и Вас, хотя тема ее выдвинута не Вами, а А. И. Остерманом в современном и улучшенном издании (в некоторых отношениях — по части хворобы!), но все-таки школа-то Ваша, а не Остерманова...» (л. 7). Очевидно, 2 что под Остерманом здесь подразумевается академик Б. Д. Греков, директор Института истории АН СССР, считавшийся покровителем Сербиной. По сви-^ детельству современника (ген. Х. Г. Манштейна), «в затруднительных делах « Государственных, когда, по занимаемому им месту, следовало ему дать свое мнение, он (А. И. Остерман. — Б. К.) притворялся больным, опасаясь учинить ^ что-либо для себя предосудительное, и посредством такой политики удержался 5§ при шести разных Правительствах».
у 16 апреля 1949 г.: «Если я уеду в район (вариант Ачинский: кондитерская в фабрика!!!), то сразу сообщу новый адрес» (л. 8).
£ Сам А. И. Андреев в 1948-1949 гг. подвергался ожесточенным нападкам ® за «ошибки буржуазно-объективистского и космополитического характера»9 § и в начале 1949 г. вынужден был уйти из Института истории и Историко-^ архивного института. Он вернулся в Ленинград, где при помощи президента АН СССР С. И. Вавилова стал сотрудником Комиссии по истории Академии наук. £ Узнав об этом, Р. И. Козинцева писала ему 3 июня 1949 г.: с
«Дорогой Александр Игнатьевич! Приветствую Вас в родном Ленинграде. Очень хочу верить, что Вам будет хорошо. Квартирные дела хоть и не совсем идеальны, но ведь не хуже Никольской...10 В моей памяти так и будет жить Ваша сводчатая комната со столом, выполняющим по совместительству обязанности письменного и обеденного и проч. и проч., что связано с летом 1948 г. <...> Неделю работаю в качестве экономиста краевой торговой базы Легпрома (туфли, чулки, носки, ткани etc. etc.). Пришла туда по объявлению, которое прочла на заборе. Может быть, начальство, подробнее ознакомившись с моей анкетой, изгонит меня — не знаю. Ставка 600 р. Занята с 8 до 5 ч. Планы уехать в район пока отложены, т[ак] к[ак] сейчас идет такая шуровка, что мудрые и авторитетные люди советуют не двигаться, ибо в каждом новом месте будешь уж совсем одиозной фигурой» (л. 9). «Р. Б. меня совсем забыла <...> Если она будет в Красноярске, то расскажу ей для передачи Вам всё пережитое, о чем ни в письмах, ни в стихах не расскажешь» (л. 10).
Работу на этой базе Р. И. Козинцева не потеряла. 26 августа 1949 г. она сообщала Андрееву, что у них несколько дней жила Нора (очевидно, дочь Р. Б. Мюллер, приезжавшая к отцу): «Кое-что она Вам расскажет, свидетелем чего и даже непосредственным участником она была. Но то, что было для нее единичным эпизодом, повторяется для нас еженедельно с самого начала 49 года. Варьируются только дни недели <...> Жизнь моя лишена сейчас всякого содержания, смысла. Ощущение временности, эфемерности и непрочности» (л. 13). Вероятно, имеются в виду визиты милиционера.
Открытка от 6 декабря 1949 г.: «У нас всё по-старому. <...> Холодно очень, неуютно» (л. 16).
В письме от 12 декабря 1949 г. Козинцева рассказывает о своих чтениях: «С наслаждением и волнением читаю Короленко "Историю моего современника" (ведь он был в Кр[асноярс]ке), Вересаева "В юные годы", Щепкиной-Куперник "Театр в моей жизни", К. Федина "Горький среди нас" (очень много интересного о петербургской жизни первых лет революции)11. Сейчас у меня период увлечения Иннок[ентием] Анненским. Если случайно у букиниста уви- а дите его стихи, то вспомните, что я существую» (л. 17). ^
5 января 1950 г.: «Зима в этом году на редкость злая и упорная; -25о, воспри- "g нимаешь уже как легкий морозец <...> Сейчас я читаю мемуары Андрея Белого. g Он царапнул Боба-бессмертного, чем меня изрядно позабавил» (л. 18) 12 ^
Из своего сибирского далека Р. И. Козинцева следит за событиями в на- -с учном мире. 23 мая 1950 г. она писала Андрееву: «Вспомнила Вас, конечно, читая Черепнина13, надарившего всем сестрам по серьгам. Во всяком случае, компания достойная всякого уважения, в которую Вы попали!! Интересно, J3 вытанцует ли он себе карьеру или нет? Бессмертный Боб становится просто § иконой, которую вносят в разные комиссии и президиумы. Быть бы мне без головы, если бы лет 15 тому назад кто-нибудь предложил мне ее прозакладывать я
в споре — "может ли Боб быть деятелем государственным". Сюжет, достойный великого Щедрина» (л. 19). «Боб» — это, конечно тот же академик Б. Д. Греков, ставший в 1950 г. депутатом Верховного Совета СССР.
В письме от 12 июля 1950 г. находим выразительный отклик на прогремевшую «лингвистическую дискуссию», в которой Сталин выступил против теорий академика Н. Я. Марра: «С интересом читаю "Правду". Вероятно Н. Я. М[арр] в гробе переворачивается; Мещанинову14 не завидую. Интересно, каковы резо-нансы на историческом фронте? Материалы физиологического конгресса тоже читаю с интересом, хотя они и очень специальны — но тут интерес личный — к моим "бывшим родственникам"» (л. 24). В том же письме: «Л. П.15 защитила кандидатскую и опять поехала на взморье. Звала меня — но. препятствий много, из коих важнейшее — сугубо материальное» (Там же).
30 декабря 1950 г.: «У меня урок немецкого — и взамен "гонорара" мне пригнали машину топлива. Так что, как говорят сибиряки, "обманем зиму"» (л. 29).
30 июля 1951 г., в связи с выходом из 10-летнего заключения Р. Л. Мюллера: «Мама видела Р. Л. М. в день высокоторжественный (поехала к нему). Он был весьма растерян переходом на новые рельсы и неопределенностью своего положения» (л. 32).
Несколько раз в Красноярске в начале 1950-х гг. был проездом сын А. Я. Андреевой Ю. П. Дегтяренко, тогда студент, позднее известный полярный геолог. Он заходил к Козинцевым, передавал им посылки и приветы, случалось, останавливался у них. Была у Р. И. Козинцевой и спорадическая переписка с женой Андреева Анастасией Яковлевной.
Очень интересно и, так сказать, разнопланово письмо Р. И. Козинцевой от 22 апреля 1952 г.: «Жизнь наша течет по-прежнему — мама в хозяйственных хлопотах и заботах о ближних; я с утра до вечера на Лаптесбыте; вечером дома (вода, уголь, помои и т. д. и т. п.), затем газеты, книги и сладкий сон 2 <...> Что касается ангела мира, то он уже не просто ангел, херувим или даже шестикрылый серафим, поэтому я умолкаю в священном трепете, а пуще, ^ чтобы не высказывать свои не серафические соображения о его поведении « в деле бедной Р. Б. Я, конечно, абсолютно не в курсе событий, но думаю, что некоторые вещи всё же были во власти херувимской» (л. 37-38). «Ан-^ гелом мира» и далее здесь иронически именуется опять-таки Б. Д. Греков, 5§ являвшийся в то время, помимо всего прочего, заместителем председате-& ля Советского комитета защиты мира. Речь здесь идет о том, что в 1951 г. в Р. Б. Мюллер, которую Греков давно и хорошо знал, сразу же по достижении £ пенсионного возраста была уволена из ЛОИИ. Возможно, что в данном слу-® чае упрек по адресу Грекова был не вполне обоснован, так как из недавно § опубликованного доноса следует, что требование ленинградского партий-^ ного руководства об отчислении Р. Б. Мюллер, В. Г. Геймана и А. И. Болту-новой «встретило упорное сопротивление со стороны дирекции Института Л истории АН СССР»16. С
Тональность и отчасти тематика писем Р. И. Козинцевой заметно меняются сразу после смерти Сталина.
25 мая 1953 г. она сообщает Андрееву: «Вчера вечером получила новый паспорт, чистенький и гладенький, как. однодневный поросеночек. Всё происходящее, как видите, затронуло и меня. Теперь у меня есть маленькая надежда, что я Вас еще обниму <...> Ваша всегда Руфь» (л. 49). Очевидно, по весенней амнистии 1953 г. с Козинцевой была снята судимость и ограничения по месту жительства.
6 июня 1953 г.: «Тысячу спасибо за телеграмму, которая нас с мамой очень обрадовала и растрогала <...> О себе — встало много проблем а) работа б) переезд куда-нибудь. А и Б тесно связаны между собою» (л. 50).
Попытки Р. И. Козинцевой устроиться на более подходящую работу в Красноярске успехом не увенчались. 18 апреля 1954 г. она писала Андрееву: «Мои дела выглядят таким образом: работаю там же, с теми же и так же всё мне скучно или даже больше, чем раньше <...> Куда сунуться, не знаю» (л. 53).
Летом 1953 и 1954 гг. Козинцева ездила в Москву по приглашению родственников. По возвращении из второй поездки, 13 октября 1954 г. она писала Андрееву: «Я уже почти месяц в Кр[асноярс]ке. Пребыванием в Москве, конечно, довольна <...> Повидала людей больше, чем в прошлом году, понаслу-шалась удивительных вещей. Очень взволновала меня встреча с С. Л. Ут[чен] ко, ведь я его не видела с "той" осени17. Встреча состоялась сначала в хорошо знакомом Вам 2-м этаже здания на Никольской, куда я вошла с сердцем, полном благодарных воспоминаний. С. Л. променял Ун[иверсите]т на кафедру в Ин[ститу]те. Спокойнее. Там же и Зига Ш[мидт]18. Потом мы пошли в скверик на пл. Свердлова, где посидели и побеседовали. Многие эпизоды из жизни (последнего года) покойного БДГ (Грекова. — Б. К.) он рассказал и я не переставала удивляться, удивляться и еще раз удивляться. Рассказал о Ленинграде, ленинградцах, а я всё продолжала удивляться. От Зиги тоже услышала ворох сплетен с исторического фронта. В общем, несколько пополнила свое образование. <...> Известно ли Вам, что С. М. Дубровский из наших палестин перебазировался в Москву в Институт истории АН?19 <...> Была (первый раз в жиз- а ни) в Архангельском, где открыли после ремонта театр; в Звенигород съездила, ^ в Кусково. Посмотрела "Лебединое озеро". В общем, хорошо было» (л. 58). ^
Для этого времени мы располагаем очень интересным и ценным свидетель- | ством А. А. Федерольф-Шкодиной, знакомой Р. И. Козинцевой по Колыме. Ле- ^ том 1955 г. она и ее подруга (они вместе жили в ссылке в Туруханске) А. С. Эф- -с рон, дочь Марины Цветаевой, приехали в Красноярск.
«В Красноярске нас ошеломили многолюдье, шум, сутолока, такси, — чита- ^ ем в ее воспоминаниях. — Встретила нас на причале Ляля Козинцева, с которой ^ я была раньше знакома и которая нам предложила пристанище на первые дни. § Ляля (Руфь Иосифовна) — историк и экономист, была в лагере на Колыме, потом попала в Красноярск и нашла работу служащей в учреждении. Ее мать я
Евгения Натановна эвакуировалась в дни войны из Ленинграда, приехала в Ачинск, а затем в Красноярск, надеясь на встречу с дочерью, которая тогда отбывала срок.
После освобождения в 1944 году дочь приехала к матери в Красноярск, где они и жили в маленькой плохонькой хатке на окраине. Вход в две комнатушки и кухоньку был со двора, а на противоположной стороне было три почти ушедших в землю оконца, глядящих на овраг. Были мать и дочь щедры и гостеприимны и делили с нами всё, что у них было. Ляля уступила нам свой диван и спала в кухоньке на стульях.
Аля очень понравилась Козинцевым. Евгения Натановна говорила, что Аля не только чрезвычайно добрый и хороший, но и "значительный" человек. Мы прожили у Козинцевых около недели. Аля собиралась в Москву, а мне предстояло остаться одной в Красноярске»20.
Чуть раньше, 10 мая 1955 г. Р. И. Козинцева писала А. И. Андрееву: «Сегодня получила письмецо от Р. Б., из которого узнала, что Вам предложили на выбор Москву или Ленинград и свою тему в ЛОИИ. От всей души поздравляю Вас, дорогой Александр Игнатьевич <. > Помните, я Вам рассказывала о Клибанове — в 1948 г. его уже не было в Москве. К Новому году мы получили от него телеграмму — он в Москве, в Академии <...> Подробностей не знаю, но понимаю, что помог В. Д. Б[онч]-Б[руевич]. Я никогда не забуду его моральной поддержки, которую он оказал мне в 1944-1946 гг.» (л. 63)21
Очевидно, присмотревшись к ситуации и посоветовавшись с родственниками и друзьями (как видно из последующих писем, наиболее ценные советы дали ей и практически помогли «московские ленинградцы», знакомые по прошлой жизни, А. И. Клибанов и С. Л. Утченко), Р. И. Козинцева приняла решение. 2 ноября 1955 г. она писала А. И. Андрееву: «Вчера мы приехали в Москву с мамой, ликвидировав наше красноярское хозяйство. Хватит с меня добро-2 вольной ссылки. Трудности предстоят огромные, но что поделаешь.» (л. 65).
О
Прописаться удалось на подмосковной даче у родственников, о чем, как ^ и о первых предпринятых шагах по «трудоустройству», Р. И. Козинцева сооб-« щала в письме от 1 декабря 1955 г.: «Вчера я прописалась в Загорянке (за Бол-
Л
шевым две остановки) постоянно. Это очень хорошо. Мы сможем и жить там,
^ но мама пока не хочет — ей хочется жить в городе, а кузина считает, что не стоит
5§ тратить деньги на комнату, лучше еще пожить у них. Мама в Мозжинке, а я —
у то на Котельнической22, то у друзей. Теперь на очереди другие проблемы. в Видела С. Л. Ут[чен]ко, отнесся он очень хорошо, обещал узнавать. Правда,
£ у него сейчас меньше возможностей, чем раньше. К сожалению, с Шунковым23
® у него нехорошие отношения (по его словам), так что он помочь не может <...>
§ Очень часто вижусь с милым А. И. Кл[ибановы]м. Он мне подробно расска-
^ зал о своем посещении Вашего дома, о теплом приеме, ему оказанном» (л. 66).
«С Вяткиным24 у меня никаких отношений нет и обращаться к нему считаю
£ бессмысленным», — добавляла она (л. 67). С
Между этим письмом и следующим прошел ХХ съезд КПСС, развенчавший Сталина. История резко ускорила свой ход.
16 марта 1956 г. Козинцева писала Андрееву: «Очень рада, что Вас пригласили и Вы приступили к работе в ЛОИИ. Не уверена в том, что Вы выиграли, но что ЛОИИ выиграл — это бесспорно. В начале года в Ленинград ездил А. И. Кл[ибано]в, но не успел зайти к Вам, т[ак] к[ак] ездил специально на игрище по поводу книги Смирнова25. Он излагал мне "в красках" всё происходившее — и "безмолвствующую" толпу и С. Н. В[алка], скороговоркой прогалопировавшего по фактическим неточностям на стр. стр. etc. etc.Он рассказывал мне и о своем собственном выступлении, которое (хотя он совершенно не конъюнктурщик) оказалось очень своевременным и даже предвосхитившем кое-какие положения ХХ съезда. Между прочим, в Москве я встретила и С. Н. в натуральную величину — он до смешного не изменился — не человек, а кон-серв! Он меня тоже узнал <...> С. Л. Ут[чен]ко и Ал. Ил. Кл[ибано]в и еще некоторые осаждают Новосельского26, чтобы он дал мне какую-нибудь договорную работу» (л. 68).
В этом же письме Козинцева просила Андреева дать отзыв о ней для прокуратуры, сообщая, что «А. В. Предтеченский уже прислал» и напоминая, что «мы с Вами знакомы с 1925 г., когда я у Вас занималась в семинаре по археографии» (л. 67). Заметим в скобках, что едва ли А. И. Андреев был подходящим гарантом «благонадежности» Р. И. Козинцевой: сам он в это время еще не был реабилитирован по «Академическому делу» 1929-1931 гг., была только снята судимость. (Реабилитация его состоялась посмертно, в 1960 г.)
4 апреля 1956 г.: «Кое-что перевожу с немецкого (о Лейбнице и проч.). Очень много физики и математики, поэтому трудновато, ибо сама ничего не понимаю в этом — ни по-русски, ни по-немецки» (л. 73). Позднее она по договору искала и копировала в московских архивах какие-то документы для музея в Великих Луках.
В открытке от 30 июля 1956 г. Р. И. Козинцева могла поделиться с Андреевым важнейшей новостью: «Спешу сообщить, что получила письмо от Ленинградского прокурора, что 20 июля всё мое дело прекращено <...> Теперь начнет- а ся новый тур (квартира, работа etc. etc.» (л. 77). ^
В письме, полученном 21 августа 1956 г. (датировано получателем), читаем: "g «Дорогой Александр Игнатьевич, по вопросу о работе мои предварительные g мысли: 1) возвращаться в Л[енингра]д очень тяжко. 20 лет спустя вернуть- ^ ся старой, нищей, бездомной в этот город, "где я страдал" и т. д.27, ужасно. Но: -с а) только в Л[енингра]де я имею право на площадь, в) только в ЛОИИ я бесспорно имею "право на труд". Поэтому, видимо, сжав сердце, надо возвращать- ^ ся <...> А. И. Кл[ибано]в обязательно заставляет меня пойти до Ленинграда J3 в Президиум и в отдел кадров [Академии наук]. Посоветуюсь еще с одним лов- § ким товарищем (В. В. Аль[тма]н28) и с Утченко... Надо ли ходить туда действительно? Все, все подробности расскажу Вам при скорой встрече» (л. 78) я
После реабилитации Р. И. Козинцева по закону имела право восстановиться на последнем перед арестом месте работы и подала соответствующее заявление, на котором зав. ЛОИИ М. П. Вяткин наложил резолюцию: «Директору Института истории АН СССР. Если имеются формальные основания для восстановления т. Козинцевой на работе в ЛОИИ, со стороны руководства ЛОИИ возражений, конечно, быть не может при условии предоставления штатной единицы младшего научного сотрудника без степени»29. Речь шла о поступлении Козинцевой в архив ЛОИИ, которым с начала 1956 г. заведовал А. И. Андреев.
О дальнейшем ярко повествует письмо Р. И. Козинцевой к А. И. Андрееву от 7 сентября 1956 г.: «Спешу поделиться с Вами бурными событиями сегодняшнего дня. Была на приеме у Сид[орова]30. Во-первых, он стал уговаривать меня, что я работала в Истор[ико]-археограф ич[еском] институте, а не в ЛОИИ. Затем, с помощью референта, сей руководитель] понял, что ЛОИИ = Ист[орико]-археогр[афический] институт. Потом он стал уговаривать меня, что я не могла одновременно работать в ЛОИИ и быть аспиранткой Истфака. Затем стал рычать на В[ятки]на, что он меня перенаправил к нему <...> Затем вызвал Ленинград по телефону и напал на Фурсенко, которого спросил: "Что у вас делает Вяткин?" Тот что-то залепетал. "Нет, конкретно, что он не может разобраться на месте, его это сотрудник или нет, нужен он ему или нет? Что означает его резолюция насчет формальных оснований? Он сам должен знать, есть ли формальные основания". В общем, разговор перенесен на 14 сентября в присутствии Вяткина <...> Сегодня же вечером я позвонила К. Н. С[ербиной], которой изложила всё и просила воздействовать, чтобы В[яткин] приехал сюда с какой-либо точкой зрения <...> Не знаю, что Вяткин будет молоть (pardon) (л. 79). <...>
8 IX, утро. Дописываю на почте около Президиума. Была у ст[аршего] консультанта по штатам-финансам В. Ф. Герман-Евтушенко. Она обещала всемер-2 ную поддержку выделению единицы. Сказала, что пусть только Вяткин придет к ней — она ему припомнит "возмутительную" по бездушию резолюцию на моем заявлении и то, как он добивался самостоятельности в решениях. А те-« перь "перестраховывается". <...> Пока усиленно глотаю таблетки» (л. 80).
Л
jH Следующее письмо датировано получателем 12 сентября 1956 г.: «Выясни-^ лось, что В[ятки]н отбыл. "Кадры" сказали, что разговор с ним был и что он
s напишет ходатайство в штатную комиссию <...> "Кадры" говорят, что Несме-
& янов31 на эти дела реагирует быстро и в течение месяца единица может быть Ци спущена» (л. 26).
£ Наконец, 24 сентября 1956 г. Р. И. Козинцева пишет Андрееву: «Спешу со-
s общить результаты моего посещения В. Ф. Герман (чудесная женщина!). Она
§ рассказала, что В[ятки]н имел с ней беседу и она высказалась по моему делу, ^ после чего он сказал, что если ему дадут просимые им три единицы для разбор-& ки архива, то он меня возьмет. Единицы он получит <...> Она сказала, что даст
£ две научно-технических, а для меня лично — младшего научного сотрудника. С
"В общем, всё будет хорошо, — сказала она, — поверьте мне, старухе". В[аше] письмо от 19.У1 она еще не получила32, но получит, так как все дороги ведут к ней. Просила в конце недели наведаться. Есть еще хорошие люди на свете. Мне звонили из Ленинграда, что я взята на очередь в райжилотделе» (л. 81).
Так произошло возвращение Р. И. Козинцевой в Ленинград и в Институт.
Руфь Иосифовна Козинцева была человеком определенного культурного круга, в числе ее знакомых и друзей было много интересных и выдающихся людей, отнюдь не только коллег-историков. Как мы видели, она и в Сибири поддерживала контакты с многими ссыльными интеллигентами. Среди ее знакомых был, например, Л. Н. Гумилев33. Р. Ш. Ганелин пишет, что в 1970-х гг. он был свидетелем ее неожиданной встречи в Усть-Нарве с главным конструктором советского ядерного оружия академиком Ю. Б. Харитоном, с которым, как оказалась, она была хорошо знакома в молодости34. К сожалению, мы не располагаем сейчас данными, позволяющими более полно осветить эту сторону жизни Р. И. Козинцевой. Думается, что публикуемые материалы вносят дополнительные штрихи и в образ А. И. Андреева, которого принято представлять человеком строгим, жестковатым и несколько колючим. Во всяком случае, если бы он был только «дьяк, в приказах поседелый», Р. И. Козинцева не стала бы делиться с ним своими впечатлениями от чтения писателей-символистов, да и вообще раскрывать перед ним душу.
Ганелин Р. Ш. Руфь Иосифовна Козинцева (1906-1985). По документам и личным воспоминаниям // Ганелин Р. Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2006. С. 353-369.
К известному кинорежиссеру Г. М. Козинцеву, по сообщению его сына А. Г. Козинцева, переданному мне Б. Я. Фрезинским, Руфь Иосифовна отношения не имела. Р. Ш. Ганелин называет учителем Козинцевой В. Н. Кашина (с. 354), но думается, что в большей степени им был А. И. Андреев.
Так, в сентябре 1940 г., накануне защиты докторской диссертации, Андреев неожиданно ^
получил предписание НКВД покинуть Ленинград как ранее судимый; оно было отмене- 2 но после обращения президента АН СССР В. Л. Комарова к начальнику ленинградского
НКВД генералу Гоглидзе. См.: Копанева Н. П. К биографии А. И. Андреева // Археогра- ^
фический ежегодник за 2009-2010 гг. М., 2013. С. 316-317. 2
ПФА РАН. Ф. 934. Оп. 5. Д. 192 (93 л.); далее номера листов этого дела приводятся в тек- с
сте в скобках. з
Ганелин Р. Ш. Руфь Иосифовна Козинцева. С. 364. ^
Муж Р. Б. Мюллер, профессор химии ЛГУ Р. Л. Мюллер (1899-1964), немец по нацио- 8
нальности, летом 1941 г. был арестован, пять лет провел в лагерях в Красноярском крае, о
а потом работал в Сибири на предприятиях, подведомственных МВД. Когда это было .й возможно, Р. Б. Мюллер навещала мужа в Сибири и заезжала к Козинцевым, с которыми ^
также регулярно переписывалась. ¡3
К. Н. Сербина (1903-1990) всю жизнь работала в ЛОИИ и предшествовавших ему уч- ^ реждениях. Ее также не обошли репрессии: в 1938 она была арестована и приговорена £
к 3 годам заключения как жена «врага народа» В. Н. Кашина, освобождена через несколь- Рч ко месяцев и восстановлена в институте (см.: «Что вы делаете со мной». Как подводили д
'Й
со
2
3
4
5
6
7
под расстрел. Документы о жизни и гибели В. Н. Кашина / Сост. Р. Ш. Ганелин. СПб., 2006). В 1945-1947 гг. К. Н. Сербина была и. о. заведующего, в 1947-1951 гг. заместителем заведующего ЛОИИ. Первой печатной работой К. Н. Сербиной, Р. Б. Мюллер и Р. И. Козинцевой была статья: Описание актов, хранящихся в Постоянной историко-археографической комиссии / Сост. Р. Б. Мюллер, К. Н. Сербина, Р. И. Козинцева, Н. С. Чаев; с предисл. и под ред. А. И. Андреева // Летопись занятий Постоянной исто-рико-археографической комиссии за 1926 год. Вып. 1 (34). Л., 1927. С. 288-373.
9 См., в частности: Простоволосова Л. Н., Станиславский А. Л. История кафедры вспомогательных исторических дисциплин. М., 1990. С. 26-33.
10 В Москве Андреев не имел квартиры и жил в служебном помещении Историко-архивно-го института на Никольской ул. (ул. 25 октября), где в 1948 г. его навестила Козинцева. В Ленинграде Андреев благодаря Вавилову вскоре получил хорошую квартиру.
11 У Федина приведен совершенно изумительный диалог А. Волынского и Ф. Сологуба. Если А. Я. прочтет Вам его, Вы получите большое удовольствие. — Прим. Р. И. Козинцевой.
12 Нам не удалось установить, где и как именно А. Белый «царапнул» Б. Д. Грекова, которого, очевидно, имеет в виду автор письма. О «сложных отношениях» Грекова и А. И. Андреева пишет В. М. Панеях в комментариях к кн.: Кушева Е. Н., Романов Б. А. Переписка 1940-1957 гг. / Сост. В. М. Панеях. СПб., 2010. С. 82.
13 Вероятно, имеется в виду статья: Черепнин Л. В. А. С. Лаппо-Данилевский — буржуазный историк и источниковед // Вопросы истории. 1949. № 8. С. 30-51. Крупный специалист по средневековой русской истории Л. В. Черепнин (1905-1977), сам переживший арест и ссылку по «Академическому делу» и подвергавшийся нападкам в 1949 г., вслед за этим опубликовал несколько статей, критикующих русскую «буржуазную историографию».
14 И. И. Мещанинов (1883-1967) — лингвист, академик, ученик и последователь Н. Я. Марра.
15 Родственница («кузина») Р. И. Козинцевой, которая была замужем за московским профессором, специалистом по теории машин и механизмов С. И. Артоболевским (19031961), братом академика И. И. Артоболевского. Ср. в письме от 23 мая 1950 г.: «Мои "Артобобо" здравствуют — Л. П. (Молли) защищает кандидатскую; С. И. процветает, а братец ихний тоже больше по президиумам ударяет» (л. 19 об.).
16 Академия наук в решениях ЦК КПСС. 1952-1958. М., 2010. С. 50 (письмо бывшего заведующего ЛОИИ М. С. Иванова на имя Г. М. Маленкова от 26 января 1953 г.)
17 Сергей Львович Утченко (1908-1976) — известный специалист по истории Рима, до войны работал в ЛГУ, после войны в Институте истории АН СССР в Москве. В 1946-1949 гг. ученый секретарь Отделения истории и философии АН СССР, в 1949-1953 гг. зам. ди-
2 ректора Института истории АН СССР. В 1950-1954 гг. был одновременно профессором МГУ, в 1954-1960 гг. зав. кафедрой всеобщей истории Историко-архивного института.
18 Сигурд Оттович Шмидт (1922-2013) — историк, впоследствии многолетний председа-^ тель Археографической комиссии АН СССР.
« 19 С. М. Дубровский (1900-1970) — историк, специалист по истории России начала ХХ в.
СЗ
ЛН В 1935-1936 гг. декан исторического фак-та ЛГУ, в 1936-1946 гг. в заключении, с 1949 г.
в ссылке в Енисейске. В 1954 г. вернулся в Москву.
Эфрон А. С. «А жизнь идет, как Енисей...»; Федерольф А. А. Рядом с Алей. М., 2010 (ци-§ тируется по http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A4/federoljf-ada/ryadom-s-alejу). & 21 Александр Ильич Клибанов (1910-1994) — специалист по истории религиозных дви-^ жений в России. До 1936 г. работал в Ленинграде, в 1936-1942 гг. в заключении, после <0 освобождения в течение нескольких лет был доцентом и зав. кафедрой истории СССР о Красноярского педагогического института, потом переехал в Москву. В 1948 г. вновь арестован, освобожден в 1954 г. § 22 В Загорянке находилась дача семьи С. И. Артоболевского, в высотном доме на Котельни-й ческой набережной — их квартира; кроме того, какое-то время они снимали зимнюю дачу ^ в Мозжинке.
23 В. И. Шунков (1900-1967) — историк, занимал различные административные должно-н сти в Институте и Отделении истории АН СССР.
«
24 М. П. Вяткин (1895-1967) — историк, зав. ЛОИИ АН СССР в 1955-1961 гг.
25 Имеется в виду обсуждение работы И. И. Смирнова «Очерки политической истории Русского государства 50-60-х годов XVI века» (М.; Л., 1958).
26 А. А. Новосельский (1891-1967) — историк, специалист по Московской Руси. В 19531963 гг. был заведующим сектором источниковедения Института истории АН СССР.
27 Цитата из 1-й главы «Евгения Онегина»: «Где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил».
28 В. В. Альтман (1906-1971) — историк, был референтом академиков В. П. Волгина и А. М. Панкратовой, в 1949-1954 гг. находился в заключении.
29 Ганелин Р. Ш. Руфь Иосифовна Козинцева. С. 365.
30 А. Л. Сидоров (1900-1966) — историк, специалист по истории России начала XX в. Директор Института истории АН СССР в 1953-1959 гг.
31 А. Н. Несмеянов (1899-1980) — химик, академик, президент АН СССР в 1951-1961 гг.
32 Вероятно, А. И. Андреев как заведующий Архивом ЛОИИ мотивировал необходимость принятия Р. И. Козинцевой.
33 См.: Каганович Б. С. Евгений Викторович Тарле. Историк и время. СПб., 2014. С. 181.
34 Ганелин Р.Ш. Руфь Иосифовна Козинцева. С. 369.
References
Akademiya nauk v resheniyax CzK KPSS. 1952-1958. [Academy of Sciences in decisions of the Central Committee of the CPSU. 1952-1958. In Russ.]. Moscow, 2010.
GANELIN R. Sh. Ruf Iosifovna Kozinceva (1906-1985). Po dokumentam i lichny'm vospominaniyam [Ruf Iosifovna Kozintseva (1906-1985). According to documents and personal memoirs. In Russ.] // Ganelin R. Sh. Sovetskie istoriki: o chem oni govorili mezhdu soboj. 2-e izd., ispr. i dop. St. Petersburg, 2006. S. 353-369.
KAGANOVICH B. S. Evgenij Viktorovich Tarle. Istorik i vremya. [Evgeny Viktorovich Tarle. Historian and time. In Russ.] St. Petersburg, 2014.
KOPANEVA N. P. K biografii A.I. Andreeva [To the biography A. I. Andreyeva. In Russ.] // Arxeogra-ficheskij ezhegodnik za 2009-2010 gg. Moscow, 2013. S. 316-317.
Kusheva E. N., Romanov B. A. Perepiska 1940-1957gg. / Sost. V. M. Paneyah. [Kusheva E. N., Romanov B. A. Correspondence of 1940-1957. In Russ.]. St. Petersburg, 2010.
Opisanie aktov, xranyashhixsya v Postoyannojistoriko-arxeograficheskoj komissii [The description of the acts which are stored in Constant historical археографической the commissions. In Russ.] / Sost. R. B. Myuller, K. N. Serbina, R. I. Kozinceva i N. S. Chaev // Letopis' zanyatij Postoyannoj istoriko-arxeograficheskoj komissii za 1926 god. Vyp. 1 (34). Leningrad, 1927. S. 288-373.
FEDEROL'F A. A. Ryadom s Alej. Moscow, 2010.
d
Список литературы
Академия наук в решениях ЦК КПСС. 1952-1958. М., 2010. Ганелин Р. Ш. Руфь Иосифовна Козинцева (1906-1985). По документам и личным воспоминани- „2. ям // Ганелин Р. Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2006. С. 353-369. -д
Каганович Б. С. Евгений Викторович Тарле. Историк и время. СПб., 2014. +2
Копанева Н.П. К биографии А. И. Андреева // Археографический ежегодник за 2009-2010 гг. М., рн 2013. С. 316-317. ад
Кушева Е.Н, Романов Б. А. Переписка 1940-1957 гг. / Сост. В. М. Панеях. СПб., 2010. ^
Описание актов, хранящихся в Постоянной историко-археографической комиссии / Сост. £ Р. Б. Мюллер, К. Н. Сербина, Р. И. Козинцева, Н. С. Чаев // Летопись занятий Постоянной историко-археографической комиссии за 1926 год. Вып. 1 (34). Л., 1927. С. 288-373. Федерольф А. А. Рядом с Алей. М., 2010.
Ol
ce
со
Б. С. Каганович. К биографии Р. И. Козинцевой
В статье рассматриваются неизвестные детали биографии специалиста по истории России XVIII в., сотрудницы ЛОИИ СССР АН СССР Руфи Иосифовны Козинцевой (1906-1985). Арестованная в 1937 г., Р. Козинцева почти 20 лет провела в тюрьме и ссылке и вернулась в Ленинград в 1956 г. Статья основана на письмах Р. Козинцевой из сибирской ссылки к ее учителю, известному русскому историку А. И. Андрееву.
Ключевые слова: Р. И. Козинцева, А. И. Андреев, ЛОИИ, историческая наука, репрессии, реабилитация.
B. Kaganovich. To R. I. Kozintseva's biography
The article discusses the unknown details of the biography of a specialist in the history of Russia of the 18th century, a scientific worker of the Leningrad Branch of the Institute of History of the Academy of Sciences Ruth Iosifovna Kozintseva (1906-1985). Arrested in 1937, R. Kozintseva spent almost 20 years in prison and exile and returned in Leningrad in 1956. The article is based on R. Kozintseva's letters from a Siberian exile to her teacher, the famous Russian historian A. I. Andreev.
Key words: R. Kozintseva, A. I. Andreev, historical science, Institute of History, repressions, rehabilitation.
Каганович, Борис Соломонович — д. и. н., ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.
Kaganovich, Boris Solomonovich — Dr. of Sciences (History), leading researcher, St Petersburg Institute of History, Russian Academy of Sciences.
E-mail: amabor@mail.ru
и rt К
«
s «
о
Sr1
S
¡^
О H о
S «
s «
о \o





 CC BY
CC BY
 26
26