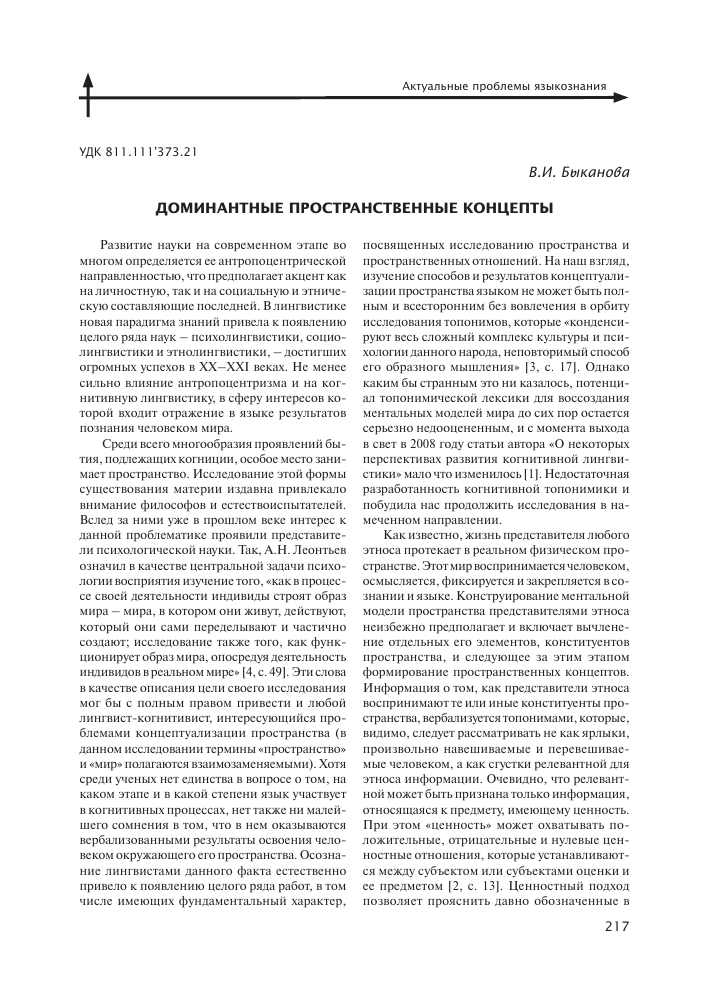УДК 811.111'373.21
В.И. Быканова
ДОМИНАНТНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОНЦЕПТЫ
Развитие науки на современном этапе во многом определяется ее антропоцентрической направленностью, что предполагает акцент как на личностную, так и на социальную и этническую составляющие последней. В лингвистике новая парадигма знаний привела к появлению целого ряда наук — психолингвистики, социолингвистики и этнолингвистики, — достигших огромных успехов в ХХ—ХХ1 веках. Не менее сильно влияние антропоцентризма и на когнитивную лингвистику, в сферу интересов которой входит отражение в языке результатов познания человеком мира.
Среди всего многообразия проявлений бытия, подлежащих когниции, особое место занимает пространство. Исследование этой формы существования материи издавна привлекало внимание философов и естествоиспытателей. Вслед за ними уже в прошлом веке интерес к данной проблематике проявили представители психологической науки. Так, А.Н. Леонтьев означил в качестве центральной задачи психологии восприятия изучение того, «как в процессе своей деятельности индивиды строят образ мира — мира, в котором они живут, действуют, который они сами переделывают и частично создают; исследование также того, как функционирует образ мира, опосредуя деятельность индивидов в реальном мире» [4, с. 49]. Эти слова в качестве описания цели своего исследования мог бы с полным правом привести и любой лингвист-когнитивист, интересующийся проблемами концептуализации пространства (в данном исследовании термины «пространство» и «мир» полагаются взаимозаменяемыми). Хотя среди ученых нет единства в вопросе о том, на каком этапе и в какой степени язык участвует в когнитивных процессах, нет также ни малейшего сомнения в том, что в нем оказываются вербализованными результаты освоения человеком окружающего его пространства. Осознание лингвистами данного факта естественно привело к появлению целого ряда работ, в том числе имеющих фундаментальный характер,
посвященных исследованию пространства и пространственных отношений. На наш взгляд, изучение способов и результатов концептуализации пространства языком не может быть полным и всесторонним без вовлечения в орбиту исследования топонимов, которые «конденсируют весь сложный комплекс культуры и психологии данного народа, неповторимый способ его образного мышления» [3, с. 17]. Однако каким бы странным это ни казалось, потенциал топонимической лексики для воссоздания ментальных моделей мира до сих пор остается серьезно недооцененным, и с момента выхода в свет в 2008 году статьи автора «О некоторых перспективах развития когнитивной лингвистики» мало что изменилось [1]. Недостаточная разработанность когнитивной топонимики и побудила нас продолжить исследования в намеченном направлении.
Как известно, жизнь представителя любого этноса протекает в реальном физическом пространстве. Этот мир воспринимается человеком, осмысляется, фиксируется и закрепляется в сознании и языке. Конструирование ментальной модели пространства представителями этноса неизбежно предполагает и включает вычленение отдельных его элементов, конституентов пространства, и следующее за этим этапом формирование пространственных концептов. Информация о том, как представители этноса воспринимают те или иные конституенты пространства, вербализуется топонимами, которые, видимо, следует рассматривать не как ярлыки, произвольно навешиваемые и перевешиваемые человеком, а как сгустки релевантной для этноса информации. Очевидно, что релевантной может быть признана только информация, относящаяся к предмету, имеющему ценность. При этом «ценность» может охватывать положительные, отрицательные и нулевые ценностные отношения, которые устанавливаются между субъектом или субъектами оценки и ее предметом [2, с. 13]. Ценностный подход позволяет прояснить давно обозначенные в
топонимике проблемы, а именно: почему одни конституенты пространства вовлекаются в номинативный процесс, а другие — нет, а также в чем причина появления пейоративных названий.
Основываясь на идее, что всякая вещь является либо хорошей, либо плохой, либо безразличной [2, с. 26], можно предположить, что «хорошие» и «плохие» конституенты пространства будут вовлекаться в топонимическую номинацию, а безразличные — нет. Выделение в пространстве конституентов, которым приписывается ценность, формирование в сознании представителей этноса связанных с ними пространственных концептов отнюдь не означает, что все они обладают равной значимостью. Наоборот, данный подход позволяет выдвинуть гипотезу о неравноценности конституентов пространства для субъектов оценки. Принятие этой гипотезы, в свою очередь, позволяет говорить о наличии и возможности выявления концептов, играющих особую роль в ментальной модели мира. Подобные концепты в дальнейшем будем именовать доминантными.
Выделение доминантных концептов не может быть актом лингвистического произвола, но должно основываться на четко прописанных критериях. Казалось бы, основным критерием, по которому некий концепт может быть признан доминантным, является частотность его репрезентаций. Этот критерий давно известен в лингвистике и применяется, в частности, при отборе слов, относящихся к основному словарному фонду. Однако может ли он применяться так же безусловно, когда речь идет о топонимической лексике? Да, если мы уверены в том, что весь массив топонимов, когда-либо созданных этносом на протяжении всей его истории, уцелел и доступен в настоящее время для изучения. Нет, если такая уверенность отсутствует. Принимая во внимание весь опыт ономастики, который свидетельствует о том, что этнических топосистем, сохранившихся до нашего времени без потерь, практически не существует, следует предложить другой критерий выделения доминантных концептов. Таковым, на наш взгляд, может стать критерий множественности дескриптивных признаков.
Каждый пространственный концепт может быть описан с помощью набора признаков, относящихся к перцептивному слою,
слою классифицирующих признаков, антропологическому, хабитатному, ценностному, про-тективному, экономическому, темпоральному, локативному и событийному слоям. Признаки перцептивного слоя в свою очередь подразделяются на субстанциональные дескрипторы (дескрипторы первого типа), которые коррелируют с отдельными нерукотворными консти-туентами пространства, и субстанциональные дескрипторы2, которые коррелируют с составными частями конституентов пространств или их характеристиками. Наши исследования показывают, что не все потенциально существующие слои присутствуют в структуре всех видов пространственных концептов и не все слои репрезентируются с равной степенью полноты. Эта дифференциация, на наш взгляд, порождается разной ценностью конституентов пространства для субъектов. Конституенты, обладающие большей значимостью, вызывают соответственно больший интерес со стороны представителей этноса, и у них выявляется большее количество признаков. Последние фиксируются и вербализуются топонимами.
Для каждого этноса набор особо значимых пространственных концептов будет специфическим, отличным от соответствующего набора концептов этносов-соседей. Так, например, концепт «остров» у скандинавов можно, на наш взгляд, считать доминантным, а концепт-коррелят у кельтов - нет. Структура скандинавского пространственного концепта «остров» рассматривалась на материале топонимов, зарегистрированных на территории острова Великобритания. Материалом исследования послужили 40 топонимов, которые либо являются названиями островов, либо содержат элемент остров (ey, holmr) в своей структуре.
При изучении пространственного концепта «остров» мы учитывали, что в коррелирующее понятие входят такие доли, как «часть суши» + «полное окружение водой». Соответствующая словарная дефиниция из словаря издательства «Макмиллан» выглядит следующим образом: «a piece of land that is completely surrounded by water» [5, с. 802].
Анализ показал, что в структуре скандинавского концепта «остров» присутствует перцептивный слой, представленный субстанциональными дескрипторами1. Среди них отмечены
дескрипторы, связанные с акваторией. Применительно к острову речь идет о наличии на его территории болот, которые считаются гидрообъектами, например Mousa (1).
Среди характеристик перцептивного слоя концепта «остров» присутствует рельеф. Он описан дескрипторами «кряж» Raasay (1) и «курган/холм» Hoxa (1).
Среди субстанциональных дескрипторов1 были выявлены те, которые отражают особенности животного мира и растительности, — «сосна» Guernsay (1), «колючее дерево» Dalkey (1), «трава» Grassholm (1), «буревестник» Lundy Island (1), «олень» Jura (1), «косуля» Raasay (1), «морской котик» Orkney (1), а также «ягненок» Lambay (1), «овца» Soay, Fara, Fair Isle (3), «коза» Gateholm, Jetou (2), «теленок» Calf of Flotta (1). Правда, в отношении последнего выдвинута гипотеза о том, что название связано не с разведением на острове крупного рогатого скота, а с наличием рядом еще одного, большего по размеру острова Flotta. Отношения между островами могут напоминать отношения между коровой и теленком. Поскольку все домашние животные являются объектом разведения, а вышеперечисленные дикие животные - объектом охоты, данные дескрипторы могут рассматриваться как принадлежащие одновременно перцептивному и экономическому слоям. Возможно дескриптор «сосна» не только указывает на особенности островной растительности, но и дает представление о типичных занятиях местного населения. Сосна является хорошим строительным материалом, а скандинавы строили свои дома и корабли именно из дерева. Дескриптор «колючее дерево», если не формально, то по существу, связан с приписыванием отрицательной ценности объекту-корреляту, так как наличие деревьев с колючками затрудняет перемещение по территории и ее хозяйственное освоение.
Субстанциональный дескриптор i «почва» не обнаружен, но зато представлены связанные с ним субстанциональные дескрипторы2 «каменистый» Alderney (1) и «песчаный» Handa Island, Sanday (2).
В ходе анализа была выявлена такая характеристика перцептивного концепта, как наличие природных объектов. Она представлена субстанциональным дескриптором1 «столб» Staffa (1). Столбом в данном случае является
расположенное на острове образование из базальта, вытянутое по вертикали.
Перцептивный слой пространственного скандинавского концепта «остров» описывается целым рядом субстанциональных дескрипторов2, которые коррелируют с составными частями конституентов (атрибутов) пространства или описывают характерные для них явления/процессы. Среди них отмечены дескрипторы «морской отлив» Oronsay (2) и «течение» Stroma (1), связанные с характеристикой перцептивного слоя «акватория». Также выявлен ряд субстанциональных дескрипторов2, коррелирующих с параметрами конституентов пространства. К ним относятся:
•размер: «большой» Mingulay (1) :: «маленький» (не выявлен);
• габариты: «высокий» Hoy (1) :: «низкий» (не выявлен);
• поверхность: «ровный/плоский» Flotta (1) :: «крутой» Brecqhoe (в другом толковании «склон») (1) ;
• форма: «раздвоенный» Skomer (1).
При анализе скандинавского концепта «остров» были обнаружены климатические дескрипторы, экспонирующие особенности климата, а именно Caldy Island, т. е. «холодный».
Слой классифицирующих признаков открыто не явлен, но косвенно с ним соотносятся субстанциональные дескрипторы2, передающие характер почвы и наличие отливов и течений, рассмотренные нами ранее.
В структуре пространственного концепта «остров» выявлен антропологический слой, который представлен дескрипторами групп;
• имена людей: например, Rousay, Swansea, Anglsey (7),
• образ жизни: «отшельник» Papay (1) ,
• профессия/род занятий: «купец» Copeland Island (1).
Также присутствует протективный слой с дескриптором «укрытие» Uist (1).
Экономические дескрипторы отражают занятие скандинавов мореплаванием и торговлей. Этому слою принадлежат дескриптор «флот» Flat Holm (1) и рассмотренный выше дескриптор «купец».
С экономическим и антропологическими дескрипторами тесно связаны дескрипторы социальные. Они соотносятся с образом жизни
людей и, опосредованно, с системой ценностей, характерной для данного общества. Социальный слой репрезентирован дескриптором «богатство» 8^ошау (1).
И, наконец, в структуре скандинавского пространственного концепта «остров» представлены ориентационные дескрипторы, которые содержат указание на местоположение без привязки к другому конституенту пространства. Таковым является дескриптор «западный» Westray (1).
Подводя итог рассмотрению скандинавского пространственного концепта «остров», можно сделать вывод, что он представляет собой многослойное образование. На настоящий момент выявлены перцептивный, климатический, антропологический, экономический,
социальный, протективный и ориентацион-ный слои. Слой классифицирующих признаков явно не представлен, но опосредованно дан через дескрипторы других слоев. Количество дескрипторов разнится от слоя к слою, но в целом составляет внушительное число — 29. Величина данного показателя свидетельствует о пристальном интересе скандинавов к коррелирующему конституенту действительности и о приписывании ему большой ценности. Это подтверждает нашу гипотезу о наличии доминантных концептов в идиоэтнической модели пространства и о правомерности использования критерия множественности дескриптивных признаков для выявлении доминантных концептов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Быканова, В.И. О некоторых перспективах развития когнитивной лингвистики [Текст] / В.И. Быкова // Науч.-техн. вед. СПбГПУ. - 2008. - № 5 (66). - С. 168-170.
2. Ивин, А.А. Основания логики оценок [Текст] / А.А. Ивин. - М.: Изд-во МГУ, 1970. - 229 с.
3. Леонович, О.А. Топонимы как источник культурологической информации [Текст] / О.А. Леонович //
Вестн. ПЛУ. - № 1-2. - Пятигорск, 1997. - С. 16-20.
4. Леонтьев, А.Н. Ощущение и восприятие как образы предметного мира [Текст] / А.Н. Леонтьев // Познават. процессы: ощущение, восприятие / под ред. А.В. Запорожца, Б.Ф. Ломова, В.П. Зинченко. - М.: Педагогика, 1982, - 336 с.
5. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. New Edition. - Oxford: Macmillan, 2007. - 1748 р.
УДК 81'1
А.В. Гридасова
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО КАК СИСТЕМНО-КАТЕГОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОДНОКОРЕННЫХ СЛОВ
В лингвистической литературе словообразовательное гнездо (СГ) получает определение на основании нескольких критериев: общности корня, живых синхронных связей, упорядоченности и иерархии отношений в соответствии с направлением производности. Опираясь на существующие в современной лингвистике теории СГ (Е.Л. Гинзбурга, Е.А. Земской, П.А. Соболевой, А.Н. Тихонова, И.С. Улуханова, И.А. Ширшо-
ва и др.), мы исходим в понимании нашего объекта из следующих постулатов: СГ — это одна из самых сложных комплексных единиц словообразовательной подсистемы; двусторонняя единица словообразования, имеющая формальную и смысловую структуру; одна из высших форм организации обобщения производной лексики; классификационная единица, наиболее приближающаяся к естественным





 CC BY
CC BY 33
33