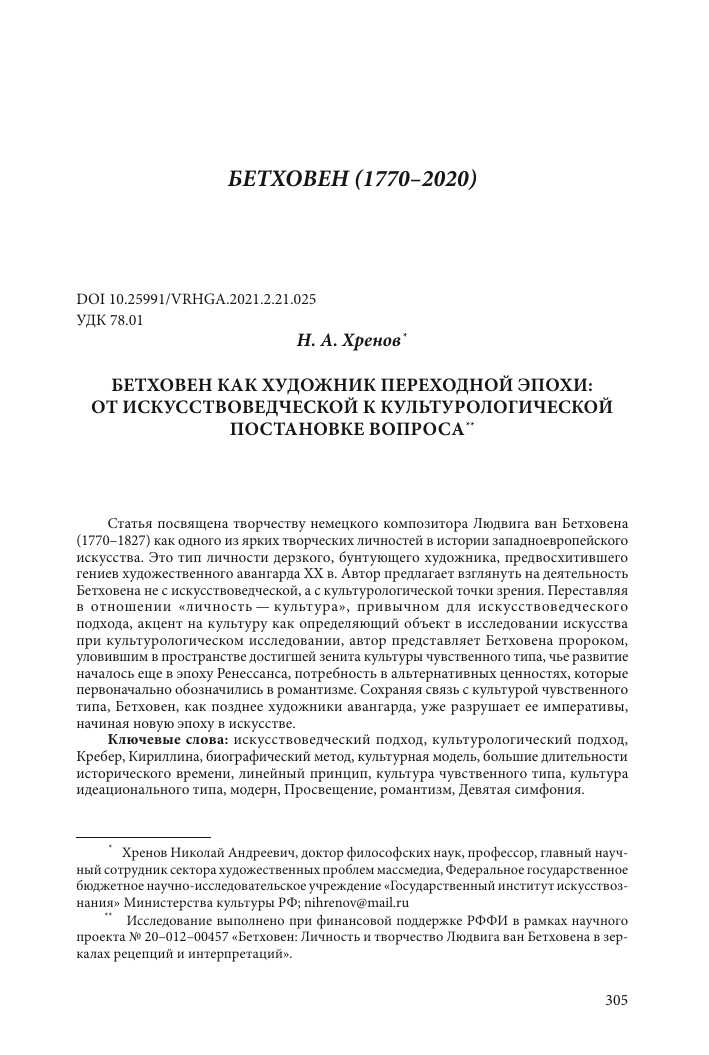БЕТХОВЕН (1770-2020)
001 10.25991/УЯИСА.2021.2.21.025 УДК 78.01
Н. А. Хренов *
БЕТХОВЕН КАК ХУДОЖНИК ПЕРЕХОДНОЙ ЭПОХИ: ОТ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ К КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА **
Статья посвящена творчеству немецкого композитора Людвига ван Бетховена (1770-1827) как одного из ярких творческих личностей в истории западноевропейского искусства. Это тип личности дерзкого, бунтующего художника, предвосхитившего гениев художественного авангарда ХХ в. Автор предлагает взглянуть на деятельность Бетховена не с искусствоведческой, а с культурологической точки зрения. Переставляя в отношении «личность — культура», привычном для искусствоведческого подхода, акцент на культуру как определяющий объект в исследовании искусства при культурологическом исследовании, автор представляет Бетховена пророком, уловившим в пространстве достигшей зенита культуры чувственного типа, чье развитие началось еще в эпоху Ренессанса, потребность в альтернативных ценностях, которые первоначально обозначились в романтизме. Сохраняя связь с культурой чувственного типа, Бетховен, как позднее художники авангарда, уже разрушает ее императивы, начиная новую эпоху в искусстве.
Ключевые слова: искусствоведческий подход, культурологический подход, Кребер, Кириллина, биографический метод, культурная модель, большие длительности исторического времени, линейный принцип, культура чувственного типа, культура идеационального типа, модерн, Просвещение, романтизм, Девятая симфония.
* Хренов Николай Андреевич, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник сектора художественных проблем массмедиа, Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Государственный институт искусствознания» Министерства культуры РФ; nihrenov@mail.ru
** Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-012-00457 «Бетховен: Личность и творчество Людвига ван Бетховена в зеркалах рецепций и интерпретаций».
N. A. Khrenov BEETHOVEN AS AN ARTIST IN TRANSITION: FROM ART CRITICISM TO CULTURAL STUDIES
The article is devoted to the work of the German composer Ludwig van Beethoven (1770-1827) as one of the brightest creative personalities in the history of Western European art. This is the type of personality of a bold, rebellious artist who anticipated the geniuses of the artistic avant-garde of the twentieth century. The author suggests looking at Beethoven's work not from an art criticism, but from a cultural point of view. Moving against "personality— culture" familiar to art criticism approach, a focus on culture as a key object in the study of art in cultural study, the author presents Beethoven a prophet, caught in the space have reached the Zenith in its development, which began in the Renaissance, culture sensitive type, the need to develop alternative values that originally emerged in the romantic period. Keeping in touch with the culture of the sensuous type, Beethoven, as later avant-garde artists, already destroys its imperatives, starting a new era in art.
Keywords: art criticism approach, cultural approach, Kroeber, Kirillina, biographical method, cultural model, long duration of historical time, linear principle, culture of sensuous type, culture of ideational type, modern, Enlightenment, romanticism, ninth Symphony.
1. ГЕНИЙ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ХХ в. вызвал к жизни тип художника дерзкого, идущего против течения, конфликтного, изгоняемого обществом, а то и вообще этим обществом уничтожаемого. И естественно, непонятого. Хотя спустя время некоторые из таких художников воспринимаются уже классиками, аура чуждости их произведений в массовых обществах продолжает еще долго определять отношение к ним. Конечно, к такого рода художникам относятся творцы, представляющие разные направления художественного авангарда — Кандинский, Пикассо, Малевич, Маяковский, Скрябин, Мандельштам, Мейерхольд и многие другие.
Тут, конечно, дело не только в самих художниках, но и в эпохе, когда они творили. Ведь вспышка имперского инстинкта и реабилитация империи, если иметь в виду российский регион, в ХХ в. порождала фанатическое стремление власти достичь единомыслия и запустить в действие политическую цензуру. Дело усложняет еще и то обстоятельство, что этот имперский инстинкт опирался на психологию масс, которые хотя часто и оказывались склонными к сопротивлению и бунту, но эта их склонность, как показал Г. Лебон и как уже формулировал Ф. Достоевский в «Легенде о Великом инквизиторе», быстро сменялась волей к жесткому порядку, наводимому политической элитой.
Поскольку в поздней истории, т.е. в истории ХХ в. имперский комплекс возрождался обществах уже не в индивидуалистических, какими они были до Х1Х в., а именно в массовых обществах, то понятно, что проблемы, связанные с возрождением имперских амбиций со стороны власти и требованиямит навести жесткий порядок со стороны массы, чрезвычайно обостряли и усложняли вопрос о маргинальности гения. Ведь проблема несвободы, волнующая в ХХ в., была реальной уже во времена Бетховена. Он не мог не наблюдать, как
в эпоху завоевания Германии Францией процветали доносы и отсутствовала свобода слова. Поэтому дерзость и строптивость гения часто, и это уже ХХ в., заканчивалась самым варварским способом, физическим устранением гения.
Но было бы неверным все проблемы, возникающие с типом дерзкого художника, списывать на счет исключительности истории ХХ в. с присущей ей тенденцией к тоталитаризму. Многое зависит и от самого гения как типа личности. Ведь этот тип имел место и в предшествующей истории. Один из лучших наших современных искусствоведов А. Якимович в своем исследовании «Эпоха сокрушительных творений», посвященном представителям художественного авангарда ХХ в., этого вопроса не обошел. Он пишет:
Среди художников ХХ в. прежде всего выделяются люди дерзкие и беспокойные. Они с азартом и вызовом прокладывали новые пути в искусстве или предлагали вообще «переделать жизнь» с помощью искусства. Нам нравится думать, что в этом столетии возникло совершенно новое искусство, не похожее на то «классическое» искусство, которое существовало до того. В ХХ в. люди искусства и литературы отваживались подрывать заветы разума и здравого смысла, покушаться на устои общества, власти и морали. Не все были такие отчаянные, но их было много. В предыдущие времена тоже встречались мастера дерзкие и неукротимые. Например, неистовый Микеланджело (в личном плане он бывал иной раз просто опасен для окружающих). Итальянский ваятель и поэт заставляет вспомнить о неистовом «горлане и главаре» Маяковском. Стилистика художников Возрождения чаще всего не похожа на то, что мы видим в искусстве ХХ в., а творческий типаж или тип личности—другое дело. Мы узнаем в мастерах четырехстолетней давности знакомые творческие черты личностей авангардной эпохи [11, с. 6].
Искусствовед называет и другого художника Ренессанса — Леонардо да Винчи, который был также неудобен и которому была свойственна тяга к опережающим свое время и потому непонятым открытиям, причем в разных сферах, а не только в изобразительном искусстве. Прекрасный знаток истории пластических искусств упоминает и других дерзких художников, например, Рембрандта, полотна которого в этом смысле не уступают экспериментам авангардистов ХХ в., а также неуживчивого Ван Гога. Дух непослушания присущ Брейгелю, Караваджо, Эль Греко, Тициану, Врубелю и т.д. Это все цепь непокорных, неудержимых, энергетически заряженных творцов. Как бы выразился Л. Гумилев, художников пассионарного типа.
А. Якимович — превосходный аналитик живописи, и он пишет преимущественно о живописцах, хотя, конечно, тип дерзкого творца существует и в других видах искусства, в т.ч. и в музыке. Таким дерзким и непокорным предстает, например, Рихард Вагнер, а также и Людвиг ван Бетховен, о котором в данной статье и пойдет речь. Ведь даже и Гёте, разумеется, ценившего Бетховена, его музыка пугала, вызывала у него некоторое отторжение.
Конечно, о Бетховене написано много, и многие подробности его личной и творческой биографии музыковедами уже исследованы. К глубоким исследованиям его творчества следует отнести и недавно вышедшую двухтомную монографию Л. В. Кириллиной, которое можно считать в высшей степени профессионально выполненным исследованием искусствоведческого типа
[5]. И сегодня можно утверждать, что по полноте охвата фактов и глубине проникновения в творчество композитора это, возможно, лучшее, что написано о Бетховене. Именно на эту работу, которая хороша еще и тем, что в ней предпринято также и осмысление существующих интерпретаций творчества Бетховена, мы и будем опираться в данной статье.
Наша же задача — предпринять попытку интерпретации Бетховена не столько в искусствоведческом, сколько в культурологическом плане. Это предполагает, что наше исследование будет не столь о самом Бетховене, сколько о методологии познания творчества гения и многочисленных вариантов рецепции его творчества. В таком плане исследование рецепции музыки Бетховена, пожалуй, не предпринималось, хотя если иметь в виду философские основы музыки, то в свое время на эту тему выходили работы Ю. Давыдова [2]. Такой ракурс означает, что в нашем исследовании отношение «личность гения — культура» будет выглядеть как «культура — личность гения». Тут уж, конечно, биографический метод в искусствознании, столь востребованный еще в эпоху Д. Вазари, совершенно неуместен.
Мотивы творчества Бетховена мы предполагаем искать не столько в его личности и индивидуальности, и даже не столько в истории искусства, сколько в той модели, выражаясь языком А. Кребера, которая или соответствует культуре на определенном этапе ее истории или не соответствует. Так, переставляя местами культуру и гения и ставя в исследовании культуру на первое место, А. Кребер пишет:
Культурные модели и их ценности в самом деле полнее всего выражаются гениями. Но нас интересует не что выражает, а что и как выражается, т.е. временная, пространственная и сущностная соотнесенность каждого феномена высокоразвитой культуры с другими ее проявлениями [6, с. 14].
Это положение А. Кребер иллюстрирует творчеством Ньютона, идеи
которого не могли быть сформулированы на тысячу лет раньше.
Короче говоря, это как раз тот самый случай, когда уместно вспомнить знаменитую формулу Г. Вельфлина «история искусства без имен», которая постоянно оспаривалась, но все же, кажется, возникла в самой искусствоведческой среде и не была столь однозначной. Хотя, конечно, главный автор этой идеи все-таки современник Бетховена — Гегель, для которого, как известно, история связана не с выдающимися личностями, а со становлением Духа. Мы будем исходить из того, что в природе и обществе существует множество потенциальных творцов, но осуществляются, к сожалению, далеко не все. Не осуществляются те, чей творческий потенциал расходится с ценностными ориентациями культуры, причем не культуры вообще, а культуры, переживающей в своем функционировании разные этапы.
Иными словами, некоторые типы художника культурой могут отторгаться, а другие, наоборот, способны свой потенциал реализовать. Но проходит время, и художники, не имевшие возможности себя реализовать, такую возможность получают, хотя, конечно, к этому времени многие из них уже выходят из того возраста, когда можно создавать полноценные шедевры. Причиной тому будет не столько индивидуальность художника, сколько культура — ее тип культуры,
ее состояние. Конечно, в поздних обществах эта закономерность в чистом виде не существует в силу того, что творения непризнанного и непонятого в той или иной культуре художника могут все же сохраняться, цивилизация в ее современном виде располагает множеством средств для фиксации такого рода отвергаемых произведений. Такие отторгаемые в момент их появления произведения способны в последующие эпохи привлекать внимание общества, а заложенные в них смыслы трудностей для их рецепции уже не представляют. Они могут обретать вторую жизнь и включаться в культуру. Спустя время они уже не противостоят культуре, а являются для нее репрезентативными. Так художник становится востребованным, но часто лишь после своей смерти.
История с Бетховеном свидетельствует, что классиком он стал не сразу. Случались и неудачи, и провалы. Но даже когда композитор уже был признан и оценен, вопрос о рецепции не потерял актуальности. В связи с этим невозможно не отметить беспрецедентной востребованности музыки Бетховена в революционный и постреволюционный период в России. Так, А. Луначарский утверждал, что «мы, продолжатели Великой революции,— именно в Бетховене можем найти вождей и руководителей в царстве искусства» [4, с. 12]. Но спрашивается: разве столь очевидная востребованность Бетховена в постреволюционной России избавляет нас от разрешения вопроса, связанного с рецепцией его произведений? В качестве примера вспомним хотя бы недоразумение, случившееся недавно в Хабаровске в связи с демонстрацией жителей города, недовольных действиями властей (эта демонстрация длилась в течение нескольких месяцев): однажды хабаровчане, а их было десятки тысяч, уже в который раз с шумом и возгласами направлялась с лозунгами политического содержания к дому правительства. Представители местной власти, чтобы заглушить далеко не лестные в их адрес выкрики, включили Девятую симфонию Бетховена. Но ведь, по сути, Бетховен придал этой многотысячной демонстрации еще более радикальный и революционный смысл, чего, конечно же, чиновники желать не могли. По сути, они невольно лишь подыграли бунтующей массе. Такой вот казус, свидетельствующий о низкой культуре чиновников. Тем не менее, закономерность, вытекающая из перевернутого отношения «культура — личность», оказывается универсальной закономерностью.
2. ГЕНИЙ И ВРЕМЯ: ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА БЕТХОВЕНА ВО ВРЕМЕНИ КУЛЬТУРЫ
Двигаясь в этом, т.е. в культурологическом, направлении, мы приходим к выводу о том, что для осмысления значимости художника и его творчества требуется характеристика времени, в котором творит художник. Собственно, вроде бы так всегда и поступают искусствоведы, пытаясь интерпретировать творчество конкретного художника с точки зрения того подхода, который со времен Д. Вазари называют биографическим. Но, естественно, к этому подходу часто добавляются социологический и исторический подходы, смысл которых как раз и заключается в характеристике и общества, в котором творил художник, и того отрезка истории, когда появлялись его произведения. Нам же
следует рассмотреть время, в котором творил художник, с культурологической точки зрения. В данном случае нужна характеристика немецкой и — шире — европейской культуры, а применительно к Бетховену нас будет интересовать рубеж ХУШ-Х1Х вв., точнее, последние десятилетия XVIII и первые десятилетия XIX в., когда развертывается творчество Бетховена.
Конечно, характеристика этих десятилетий часто присутствует и в исследованиях, посвященных Бетховену. Искусствоведы тоже расшифровывают то, что скрывается за этим абстрактным временем. Нам хотелось бы в этом времени уловить то, что необходимо лишь при характеристике того, что вкладывается в понятие «культура». Иными словами, необходимо точнее определить состояние культуры, когда творил Бетховен, а также понять, как это состояние определяет направленность и смысл его творчества. Наметив такое направление, мы обязаны исходить из того, что история является историей культуры и что культурологический ракурс диктует особое отношение ко времени, а затем в этой временной матрице найти и место Бетховена. Здесь важно учитывать то, что культура как предмет исследования существует в собственном, присущем только ей времени, что во многом и делает ее совершенно особым феноменом.
Будем исходить из того, что, в отличие от общества, культура существует в больших длительностях исторического времени, которое обычно заслоняется временем, в котором существует общество, а это время есть время малых длительностей. С некоторых пор оно получает максимальное выражение в средствах массовой коммуникации, снабжающих нас самой разнообразной информацией о событиях, свершившихся в последние часы, дни, недели, годы и даже десятилетия. По этой причине события, выражающие малые длительности времени, образуют барьер для мышления в больших длительностях времени. Малые длительности представляют специфическое социальное время. В отличие от времени общества, время культуры, в силу переизбытка сиюминутной информации, обычно не осознается. Между тем художник, если он гений, мыслит именно большими временными длительностями и потому часто как бы выпадает из того времени, в соответствии с которым мыслят его современники. Поэтому он или увлекает в прошлое, или предвосхищает будущее, а часто, увлекая в прошлое, пророчит будущее, что и делает его столь непонятным.
Кроме того, что время культуры развертывается бессознательно, оно еще и циклично, т.е. в нем часто снова и снова воспроизводятся процессы, которые, как кажется, давно успели уйти в прошлое, забыты, что не может не навести на мысль о действии в истории повторяемости, столь не соответствующей тому принципу линейности и прогресса, который в эпоху модерна, а это, как ее часто обозначают, есть эпоха Просвещения, был возведен в единственный принцип исторического времени. Этот принцип обычно называют линейным. Эта логика повторяемости в истории очень часто объясняется опять же мощными потоками современной и перегруженной событиями истории, отвлекающими от осознания культурных процессов, способствующими тому, что мы перестаем мыслить временем культуры, а следовательно, создается впечатление, что его как бы не существует вообще.
Между тем процессы, протекающие в больших длительностях, не прекращаются и на определенных этапах прорываются в сознание, представая и вос-
принимаясь совершенно новыми и не имеющими прецедентов, хотя на самом деле это не так. Мы имеем намерение эту закономерность проанализировать на примере рубежа ХУШ-Х1Х вв., когда творил Бетховен. Выстроенная в это время философами модерна (а с появлением работ Ю. Хабермаса мы эпоху Просвещения уже обозначаем эпохой модерна) мировоззренческая модель, соответствуя потребностям рождающегося индустриального общества, начинает приобретать универсальность. Отныне ее будут считать общеевропейской. Эта линейная модель времени, подтверждающая идею прогресса, подразумевала исключительную направленность на будущее, что, конечно, не могло не породить иного отношения к прошлому, статус которого в новом мировоззрении заметно понижался. Так возникает эпоха футуризма. Но понятие «футуризм» здесь употребляется уже не в искусствоведческом, а в философском смысле. Это приводило к противоречию, которое во многом определяет восприятие мира в последующие эпохи, доходя до нашего времени.
Однако, освобождая место будущему и вытесняя с этого места прошлое, новое мировоззрение порождало проблему, смысл которой будет осознан спустя два столетия, т.е. уже в наше время. Тогда-то и возникает необходимость в создании новой науки, которая бы занималась исключительно культурой. Но смысл этот весьма драматический. Ведь модернистское отношение к прошлому означало, что культура, функционирующая в больших длительностях, приносится в жертву прогрессу, потребовавшему утвердить не циклический, а линейный принцип развертывания времени. В свое время эти сдвиги осмыслялись оптимистически, т.е. поверхностно. Мир был очарован утопическими картинами, а культура разрушалась, хотя и не исчезала. В Новое время она оказалась функционирующей лишь в бессознательных формах.
Человек Нового и Новейшего времени существовал и мыслил лишь малыми длительностями. Но так не мыслил и не мог мыслить гений, сохраняющий связь с оказавшейся в бессознательном состоянии культурой. Судя по всему, эта способность осмыслять жизнь в специфическом времени и делает гения гением. Именно он время от времени и совершает прорыв в стихию культуры, постигая современность по формуле «вечного возвращения». Разумеется, это обстоятельство делало его часто неудобным для общества, изгоем, маргиналом, изгнанником, что закрепляло за ним ту ауру, о которой пишет А. Якимович применительно к художнику, представляющему авангард ХХ в. Естественно, что этот механизм творчества в момент, когда Бетховен создавал свои сочинения, не был осознан. Но то, что не осознавалось в его время, было осознано спустя столетие, т.е. на рубеже Х1Х-ХХ вв. и позднее. Казалось, что то, что было открыто на рубеже Х1Х-ХХ вв., открыто как бы впервые, на самом же деле это всегда существовало, а в это время было только осознано. Сам же процесс возник вовсе не в это время, он начался гораздо раньше, в нашем случае — столетием раньше. Ведь тот кризис культуры, что станет предметом внимания в эпоху Ф. Ницше и О. Шпенглера, ощутил уже А. Шопенгауэр. А что уж говорить о гениях! Они это ощутили гораздо раньше, да и вообще, гении мыслят в соответствии с другой временной парадигмой.
Утверждая это, мы не хотим сказать, что то, что стоит в центре нашего внимания, а именно прорыв в общественном сознании психологического
комплекса в форме сочинений Бетховена, который мы пока не называем, не является универсальным механизмом, который можно фиксировать на протяжении всей истории. Совсем нет. Однако проявление этого механизма на рубеже XVIII-XIX вв., и в частности в творчестве Бетховена, развертывалось в исключительных формах. Да, в это время повторилось то, что имело место и раньше, но повторилось как бы в совершенно новых, соответствующих состоянию культуры того времени формах. Музыка Бетховена — факт не только биографии гения или факт искусства. Это факт культуры. Не только немецкой, но и европейской культуры эпохи перехода от Просвещения к романтизму, начавшему, в отличие от модерна, реабилитировать предшествующие культурные эпохи и заявившему свою оппозицию линейному принципу.
Более того, на рубеже ХК-ХХ вв. произошло не столько открытие и объяснение, сколько было сделано обобщение. Было впервые найдено понятие, которое наконец-то сделало возможным обозначение начавшегося на рубеже XVIII-XIX вв. процесса. При этом не следует думать, что то, что было объяснено на рубеже ХК-ХХ вв., не было известно в XVIII в. Многое о будущем открытии уже было известно, но не полностью, а в виде отдельных частностей, которые не воспринимались связанными с чем-то целостным, с каким-то общим состоянием.
3. ФАЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ КАК РЕАЛЬНОСТЬ КРИЗИСА КУЛЬТУРЫ ЧУВСТВЕННОГО ТИПА: ВТОРЖЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ В ФОРМЕ РОМАНТИЗМА. БЕТХОВЕН КАК ГЕНИЙ ПЕРЕХОДНОЙ ЭПОХИ
Перечислим некоторые темы, которые уже были зафиксированы и осмыслены непосредственно в XIX в. Прежде всего обращалось внимание на расширяющийся утилитаризм, что не удивительно, поскольку в этом столетии предпринимательский дух достигает развитых форм. Начинает осмысляться феномен массовости и обособления в связи с ростом населения городов, свидетельствующим о рождении индустриального или, что то же самое, массового общества. А для Бетховена это чувство массы, чувство миллионов важно. В центре внимания оказываются процессы либерализации и демократизации. Так, А. Вебер в этом столетии усматривает мощное движение в сторону бюрократизации. Мертвый государственный аппарат вовлекает в себя не только низшие и средние слои общества, но и аристократию, сохраняющую еще игровые формы культуры [1, с. 110]. Усиление бюрократизации приводит к возрождению имперского комплекса и движению к будущему тоталитаризму. Это процесс, конечно, не может не соотноситься с феноменом массы. Усиление имперского комплекса развертывается в качестве реакции на распад как следствие либерализации и демократизации. Вспышка утилитаризма в связи с ростом предпринимательского бума спровоцировала культивирование исчезающего игрового комплекса, что предстало в появлении эстетики, вызванной к жизни еще в XVIII в. и оказавшейся в это время столь притягательной для
философов всех европейских стран. Наконец, начиная с Ж.-Ж. Руссо начинается культивирование природной стихии, что получает развитие в романтизме. Культ природы также оказался реакцией на бурное развитие утилитаризма а в конечном счете — цивилизации, которая привела не только к оскудению чувств и игрового инстинкта, но к дегуманизации и постепенному угасанию гуманизма, а в общем — к кризису культуры, оказавшейся к рубежу Х1Х-ХХ вв. служанкой цивилизации.
Предпринявший исследование кризиса искусства в европейской культуре Х. Зедльмайр начальной его точкой считает именно XVIII в. Таким образом, все эти частные проявления одного расширяющегося и углубляющегося процесса необходимо было осмыслить уже на каком-то другом уровне, когда они предстают именно частными признаками того состояния, которое, с одной стороны, можно было бы представить как триумф цивилизации, а с другой — как кризис культуры. Казалось бы, это совершенно разные вещи. На самом деле, это только разные стороны одного и того же процесса. Парадокс заключается в том, что этот кризис культуры не был осознан исключительно в первых десятилетиях ХХ в., в частности, как принято считать, в сочинениях О. Шпенглера и Й. Хёйзинги. И не был он осознан исключительно П. Сорокиным в его фундаментальном сочинении, переосмыслившем шпенглеровскую фазу цивилизации и представившим ее в виде смены культурой идеационального типа культуры чувственного типа. А его сочинения появятся в середине ХХ в.
То, что оказалось в поле внимания названных мыслителей, имело место и раньше. Многие идеи такого рода высказывались Ф. Ницше, Г. Зиммелем, а до них — А. Шопенгауэром. Однако гении, представляющие художественную сферу, этот процесс перехода в истории культуры ощутили гораздо раньше, чем философы. На то они и гении, что осмысляли совершающиеся в обществе процессы совсем не в социальном времени. В этом смысле показательны факты биографии Р. Вагнера, творчество которого принято осмыслять в связи с философией А. Шопенгауэра. Ведь «закат» Запада впервые представил не Шпенглер, а Р. Вагнер в своей тетралогии «Кольцо Нибелунга». Он даже продемонстрировал это в ее финале, и его почти апокалиптическое видение предстало в образе даже не «заката», а катастрофы Валгаллы. Впрочем, это одно и то же. Но творчество Р. Вагнера развертывается уже на другом этапе продолжающегося процесса, который хотя развивался стихийно и без влияния философии, но начал осознаваться все-таки с помощью философского языка, что и произошло с Р. Вагнером, творения которого прочитывались сквозь призму концепта воли, который когда-то впервые вызвал к жизни Августин, но заново открыл в XIX в. и истолковал в совершенно новом и необычном для европейского сознания свете именно А. Шопенгауэр. В пессимистическом свете. Он ведь выводил кризис культуры как раз из той воли, которая обеспечивала прогресс Запада, но в конечном счете и подвела его к «закату».
Но контекстом творчества Бетховена философия А. Шопенгауэра быть не могла. Когда творил Бетховен, А. Шопенгауэр еще не был востребован, хотя его знаменитая работа «Мир как воля и представление» уже была издана. Зато этот гений творил, когда настроения руссоизма были весьма распространенными и не могли не оказать на него влияние. А между тем, Ж.-Ж. Руссо был одним из
первых, кто уже догадывался о последствиях развития все более заявляющей о себе цивилизации. Ведь модернистский футуризм и утопизм оказались мощным барьером для осмысления ситуации, в которой оказывалась европейская культура уже в XVIII в. Творчество Руссо, пожалуй, был первой реакцией на «закат» Запада, и его востребованность была интуитивной реакцией на то, что уже ощутил Шопенгауэр, повернувший западную мысль на Восток, но еще не ощущало общество.
Сознание этой эпохи, казалось, было в полной зависимости от философии. Однако в соответствии с этой философией художественные процессы осмыслить невозможно, поскольку ее рождение и становление связано с культурой чувственного типа, а она к этому времени уже клонилась к закату. Тем более, прорывы, осуществляемые гениями, в том числе, Бетховеном, хотя философия эта ему была известна. Искусствоведы по-прежнему пытаются осмыслять его творчество в соответствии с эстетикой и философией Просвещения, но Бетховена скорее можно объяснить исходя из эстетики романтизма как оппозиционной по отношению к модерну. Хотя стереотипы просветительского и романтического сознания для гениев, прорывающихся к культурным глубинам, к самой подпочве культуры, еще не исчерпывают сути дела. Философия, как и все формы познания вообще, в соответствии с Кантом —во многом лишь проекция нашей субъективности на объективный мир, познание которого бесконечно.
В самом деле, когда пишут о Бетховене или о Вагнере, то часто возникает тема революции и ее влияния на гениев. Конечно, симфонии Бетховена создаются в период, когда революционные настроения угаснуть еще не успели. Дух революции ощущается и в некоторых из них. Но исчерпывает ли он их смысл? А что касается Р. Вагнера, то он сам — не только убежденным сторонник революции, но и непосредственный ее участник (он принимал участие в революции 1848 г.), о чем он и пишет в своих статьях. Но это все сознание модерна. Это все суждения, навеянные политическими событиями. Разумеется, сознание эпохи не может не воздействовать на сознание гениев. Но это поверхностный уровень их сознания, и не он решает главное, что привлекает и продолжает привлекать в их творчестве. Гений говорит с нами языком, исчезнувшим из лексикона его современников, лексикона модернистской философии, рождающегося из опыта индустриального общества.
Революционность гения заключается в другом — в его способности прорываться к вытесненной модерном культуре, существующей в своем собственном времени, и осмыслить происходящее на уровне мифологического мышления. Музыка Бетховена достигает глубин мифологического и символического (по Гегелю) сознания, когда даже и большие длительности времени уже перестают быть значимыми. Миф вообще уничтожает время. Это то, что было, и это то, что будет. И уж точно миф в его музыкальных формах выводит за пределы социального времени. Тем-то музыка и сильна.
На протяжении нескольких десятилетий, когда модерн находится в апогее, происходила схватка между слабеющей культурой, которую в XX в. П. Сорокин называет культурой чувственного типа, получившей выражение в модерне и осознанной в философии Просвещения, и нарождающейся куль-
турой идеационального типа, первоначально представшей в оппозиционном мировосприятии, известном как романтизм. Когда мы употребляем слово «романтизм», то под этим подразумеваем уже некую оформленную систему, в свете которой можно осмыслить творчество многих и разных художников. Но до того, как возникнет романтизм как система, ему будут предшествовать одиночные явления, возникающие и воспринимающиеся вне всяких систем, тем более систем стиля,— сочинения индивидуального гения.
Это ситуация Бетховена. В его сочинениях уже можно уловить предвосхищение не только романтизма как системы, но и культуры, для которой романтизм был лишь одной из фаз становления. Да и вообще Бетховен ведь не только пророчил и как бы начинал новую эпоху, прорвавшуюся в своих вульгарных и чудовищных формах — нацизме и социализме,— но увлекал в прошлое. В его музыке предстает не только то, что будет, но и то, что было. Провозвестник культуры специфической, которая в последующей истории будет вспыхивать в разных художественных течениях, будь то неоромантические, т.е. символические, или авангардные течения. И даже эти, уже обретающие системность и преодолевающие индивидуальные формы вспышки все еще будут лишь переходными формами, формами той культуры, которую в середине ХХ в. П. Сорокин назовет культурой идеационального типа, в которой чувственная реальность, ставшая предметом возникшей в XVIII в. эстетической науки, уступает место идеациональной стихии, которую ощущал уже Платон, обозначая ее с помощью понятия «эйдос», и которую позднее, да, собственно, и во времена Бетховена, философы будут называть трансцендентной стихией.
А вообще эта культура, как ее уже ощущали в России П. Флоренский и Н. Бердяев и как потом сформулирует ее суть П. Сорокин, в истории постоянно исчезает, но и постоянно возвращается. Очередное становление культуры идеационального типа будет продолжаться даже не десятилетиями, а уже можно сказать, столетиями и доходить вплоть до нашего времени. Весь этот продолжительный период, который следует называть переходным, в гуманитарных науках всегда получал лишь частичное осмысление. По-настоящему этот процесс, разумеется, будет осмыслен лишь тогда, когда наука о культуре обретет более четкие границы, чем это имело место вплоть до настоящего времени. Но когда это произойдет, появится возможность в художественных процессах последних столетий утвердить соответствующую именно времени культуры новую периодизацию.
Бетховен был гением переходной эпохи, и его творчество несет на себе печать как уходящей, так и нарождающейся систем ценностей. Но в эпоху Бетховена этот процесс находится еще в самом начале. Вот и глубокий интерпретатор его творчества Л. Кириллина опасается назвать его романтиком, хотя иногда его так в свое время и называли, но, с другой стороны, представителем чистого классического стиля его тоже назвать трудно, поскольку именно в силу своей дерзости и конфликтности он начал первым нарушать те музыкальные формы, которые принято называть классическими. Об этом красноречиво свидетельствуют отзывы современников Бетховена. Так, имея в виду Первую и Третью симфонии Бетховена, рецензент одной из лейпцигских газет в свое время писал, что новая симфония трудна для исполнения и демонстрирует
превышенную длительность, а также демонстрирует бесформенность, что в ней «слишком многое выглядит слишком кричащим и причудливым, что сильно затрудняет восприятие целого, так что смысл почти полностью теряется» [5, т. 1, с. 340].
Самоопределение стиля, в соответствии с которым работал Бетховен, естественно, находится в зависимости от самоопределения эпохи, а это последнее получало выражение с помощью таких понятий, как готика, классицизм, барокко и т.д. Применительно к Бетховену использовались все традиционные для самоопределения эпохи понятия, связанные с универсальными стилями. Поэтому Л. Кириллина констатирует:
.. .те, кому музыка Бетховена нравилась, могли называть ее «классической», т.е. совершенной и образцовой, ставя композитора в один ряд с Генделем, Гайдном и Моцартом — или «романтический», т.е. вдохновенной, страстной, захватывающей. А те, у кого она вызывала отторжение или недоумение, именовали ее «барочной», «ученой» и «причудливой» (bizarr), сближая тем самым Бетховена с «неправильным» классиком — И. С. Бахом. Так продолжалось вплоть до последних лет жизни Бетховена, и хотя, как все понимали, по рангу он безусловно принадлежал к «классикам», дух нонконформизма в его творчестве был столь силен, что порою озадачивал даже сторонников его причисления к лику «классиков» [5, т. 1, с. 428].
4. ТВОРЧЕСТВО БЕТХОВЕНА КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ СВЕРХЧУВСТВЕННОГО.
БЕТХОВЕН — ПРОВОЗВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ ИДЕАЦИОНАЛЬНОГО ТИПА
Но достаточно ли будет при интерпретации творчества Бетховена того инструментария, что сложился в «нормальной науке», как следовало бы назвать искусствознание в соответствии с философией науки, в частности, с концепцией Т. Куна? Конечно, недостаточно, ведь уже и сами искусствоведы тяготятся сведением истории искусства к художественным стилям, как это показано в книге Х. Зедльмайра [3]. Феномен Бетховена не исчерпать понятиями, которыми обычно пользуются, чтобы интерпретировать творчество художников, созидающих или в классическом, или в романтическом стиле. В Бетховене есть и то, и другое, но есть и что-то такое, что следует ощутить и назвать. Уж не то ли неопределенное, что А. Ригль когда-то обозначил как «художественная воля»? Это понятие, смысл которого искусствоведы пытаются разгадать вплоть до нашего времени.
Разумеется, Л. Кириллина ощущает уязвимость традиционных трактовок творчества Бетховена. Она прибегает и к философии, и, еще больше, к эстетике. В ее книге так и мелькают имена Канта, Гердера и Руссо. У нее даже встречаются целые цитаты из «Критики способности суждения» Канта. Проблема только в том, что с точки зрения ХХ в. (а Л. Кириллина часто перекидывает мостик от новаций Бетховена в наше время) уязвимой в интерпретации Бетховена кажется не только традиционная искусствоведческая мысль, но и та эстетика, которая называется классической. Скорее здесь может помочь другая эстети-
ка, а именно, неклассическая, с которой, собственно, и начинаются открытия, связанные и с культурой, и с осознанием того состояния культуры, которая начинается именно с ХХ в.
Конечно, эту неклассическую эстетику представляет Ф. Ницше, идеи которого, собственно, и спровоцировали позднее О. Шпенглера на суждение о «закате» Европы, которое продолжает будить мысль вплоть до нашего времени, и не случайно. Шпенглер, как в свое время Кант, открыл и осмыслил это загадочное эстетическое в бытии человека, открыл культуру и пробудил к ней интерес, который с тех пор не ослабевает, трансформируясь в самое последнее время в самостоятельную науку.
Однако парадокс состоит лишь в том, что культура как предмет исследования была открыта уже философами XVIII в., хотя это их открытие в XIX в. в связи с наступлением моды на позитивизм и социологию было похоронено. Мысль была отвлечена проблематикой возникающего нового, т.е. массового, общества. Отсюда и возникновение, и бурное развитие социологического знания. Новое открытие культуры произошло лишь в связи с появлением сочинения Шпенглера, в котором акцент был поставлен на выявлении в исторических длительностях таких состояний, под которыми следовало уже иметь в виду периоды истории, понимаемой как история культуры. И если мы ставим перед собой задачу понять творческий гений Бетховена, то нам следует уяснить именно культурный контекст, т.е. дать характеристику мгновению, получившему выражение в музыкальной стихии Бетховена и спровоцировавшему гения на выражение той стихии, которая могла показаться его современникам чуждой,— стихии, между тем, уже существовавшей в прошлом, но забытой. Здесь нам и потребуется циклическая логика, которой воспользовался П. Сорокин [10].
Эта снова возвращающаяся из небытия стихия ломает все те понятия и категории, словно подтверждая мысль Канта о неполноте всякого знания, развертывающегося в объективных процессах, которые возникли в эпоху Просвещения для научной интерпретации искусства. Это проявляется в том, что творение гения перестает соотноситься с каким-то одним художественным стилем, будь то готика, классицизм или барокко, а демонстрирует синтез сразу нескольких стилей, как это произошло с Микеланджело [3, с. 93]. Вот и творения Бетховена в концентрированной форме выражают все фазы в гегелевской истории Духа. Во-первых, в них уже разрушается, но еще все же сохраняется та казалось бы раз и навсегда достигнутая гармония, что характерна для классической фазы, а во-вторых, это разрушение является необходимостью, что выражает суть уже романтической фазы.
Чтобы выразить дух романтической фазы, классическая гармония должна разрушиться, чтобы впустить в искусство дух первоначальной фазы — символической. Регресс в искусстве как проявление переходности является условием перехода к обособлению духа, характереному для классической фазы. Парадокс состоит в том, что хотя XVIII в. уже как бы открывает культуру, по крайней мере такое впечатление возникает, но это все-таки еще не было открытием культуры, а было тем, что как раз этому открытию способствовало: тем, что от культуры отклонялось и как бы ее разрушало. Культура же как бы
привлекалась для преодоления этого отношения и включения его в некие берега. В данном случае следовало бы это открываемое и осознаваемое XVIII в. нечто обозначить понятием, употребляемым А. Вебером при анализе кризиса европейской культуры, а именно понятием «трансцендентное».
Но прежде чем мы расшифруем, какое содержание в это понятие вкладывается, обратим внимание на то, что одно из самых известных сочинений Бетховена — появившаяся в 1824 г. Девятая симфония, поразившая многих своим новаторством и оказавшаяся чем-то большим, чем симфония и даже чем-то большим, чем музыкальное произведение и музыка вообще, что и свидетельствовало о выходе бетховенской музыки за пределы какого-то конкретного художественного стиля. Это выход из всех уже утвердившихся в эпоху Просвещения форм музыки. Л. Кириллина пишет:
Бетховенская «Ода к радости» не просто финал последней из его симфоний, не просто очередная кантата на шиллеровский текст и даже не просто музыка. Так же, как вся симфония в своей заключительной части разрушает складывающиеся в течение XVIII в. рамки жанра и не хочет быть только инструментальным произведением, финальная «Ода» претендует на то, чтобы вообще перешагнуть границы искусства и сделаться чем-то большим, чем музыка — учением, исповедью, проповедью, неистовым внушением, властно преобразующим совсем не идеальный мир [5, т. 2, с. 359].
Это нечто вроде коллективной молитвы. Это, в конце концов, литургия. Эту форму позднее, уже в Серебряном веке, Вяч. Иванов назвал бы мистерией. А его современник А. Скрябин, которого часто называли «родным братом Бетховена» [8, с. 205], следуя Бетховену, пытается придать ей реальные формы. Это музыка, переходящая в соборное и сакральное действие, в ритуал. В силу этого в ней не могут не улавливаться библейские мотивы, в т.ч. и начальный миф о сотворении света и мира из тьмы. Получается, что это далеко от того, что характеризует культуру чувственного типа. Это уже реальность не чувственного, а сверхчувственного, а значит, речь должна идти о культуре идеационального типа в то время, когда не ушла в прошлое еще альтернативная ей культура.
Точнее всего, пожалуй, об этом выходе за пределы собственно музыки сказал Т. Манн, который, правда, имел в виду не Бетховена, а Вагнера:
Ведь музыка Вагнера так же мало является музыкой, как мало является литературой драматическая основа, которая, дополняя эту музыку, придает ей облик поэтического творения. Ее можно считать психологией, символом, мифом, эмфатикой — всем, чем угодно, но не музыкой в том чистом и полноценном значении, которое вкладывали в это слово смятенные судьи искусства [7, с. 122].
Т. Манн говорит и еще точнее и вернее, утверждая, что она наподобие гейзера бьется из древнейших, пракультурных глубин мифа. Это мысль о начале всякого бытия. Но ведь это именно бетховенская музыка, его традиция, все тот же выход за пределы музыки. Пожалуй, даже можно сказать, что Вагнер сделал более ярким, а потому более доступным то, что, может быть, впервые появилось именно у Бетховена.
Подобное видение, а точнее, такое использование музыки для создания космологической картины мира, что мы позднее увидим в художественном авангарде XX в., явно выводило мышление композитора за пределы социологии. Следовательно, и социального времени. Конечно, Бетховен как человек художественной элиты, какой она была в эпоху Просвещения, был республиканцем по своим политическим воззрениям, сочувствовал Французской революции. Конечно же, он разделял либеральный пафос своего века, как потом он продолжал оставаться гражданином своей страны. Социальный портрет Бетховена хорошо дает ощутить друг композитора А. Шиндлер, отмечающий, что он был сторонником неограниченной свободы и национальной независимости. Почитавший Плутарха Бетховен считал, что в управлении государством должны принимать участие все, хотел всеобщего голосования. Питал надежду на то, что Наполеон введет это общее голосование и тем самым обеспечит отсутствие в мире раздоров и счастье всего человечества. Поэтому Бетховен и боготворил Наполеона, о чем и свидетельствует написанная им в 1804 г. Третья симфония, или «Героическая симфония — Бонапарт». Эта, как выражается Р. Роллан, эпопея славы, или «Илиада империи» [9, с. 25].
Поскольку эта симфония была написана для Наполеона и о Наполеоне, то предполагалось и посвящение своему кумиру. Но Бетховену как гражданину со своими республиканскими идеалами пришлось пережить потрясение, когда он получил известие о короновании Наполеона, ставшего императором. Ведь история словно подтверждала слова А. Токвиля и Э. Берка о том, чем может закончиться революция — реакцией и трансформацией в империю. Его кумир становится императором и, следовательно, предателем революции, следовательно, и республиканского идеала Бетховена. За потрясением и даже гневом следует фраза: «Так, значит, он просто заурядный человек!», а затем и уничтожение уже зафиксированного на партитуре симфонии посвящения. Симфония вошла в мир как воспоминание о великом человеке, а им, этим великим человеком, мог быть не только Наполеон, и даже не просто человек, пусть и великий, а «культурный герой» или мифологический герой, например, Прометей, имя которого тоже часто мелькает в связи с другими замыслами композитора. Это вполне допустимо, поскольку на рубеже XVIII-XIX вв. образ Наполеона и в самом деле превращался в миф. Будучи французским императором, Наполеон ввел войска в Германию. Они появились и в Вене, где пришлось жить Бетховену. Появлялся в Вене и сам император, и его Бетховен мог бы даже видеть.
Конечно, композитор уже был критиком своего кумира и патриотом Германии, Бонна, в котором он родился и в который хотел вернуться, но не мог. Всю жизнь вынужденный проживать в Вене, Бетховен был патриотом, он откликался на все события политической жизни. Он был, конечно же, от мира сего. Но о чем свидетельствует его Девятая симфония? Конечно, о выходе за пределы социального мышления со всеми венскими мещанами, с их пивом и сосисками, и даже с появляющимся в том числе и в Вене Наполеоном. Это какой-то грандиозный прорыв в иное измерение бытия, где уже нет никаких мещан, графов и императоров, которые часто выступали его меценатами, которым он даже посвящал свои сочинения; где уже не существуют земные
страсти людей. Поэтому стоит ли удивляться, что язык, с помощью которого композитор излагает свои музыкальные темы, так расходится с языком, на котором общаются современники Бетховена?
Поэтому исследователи не могут не констатировать, что та идея братства людей, что звучит в используемых композитором строчках, извлеченных из шиллеровской «Оды к радости», в третьем десятилетии XIX в., вроде бы предстает какой-то уж очень несовременной и даже архаичной. Чуждым времени оказывается не только используемый язык музыки, но и центральная идея симфонии — идея того самого братства народов, что было провозглашено в ходе Французской революции как итога всей эпохи модерна, да и философской мысли этой эпохи. О каком братстве, кажется, может идти речь, если Франция поработила Германию, если гений Наполеона, с которым в Европе связывалась идея свободы, что вроде бы естественно, поскольку Наполеон вошел в мир как генерал революции, стал ассоциироваться с угнетателем народов, узурпатором власти и предтечей всех последующих диктаторов? Короче говоря, новая симфония Бетховена казалась, в силу этой идеи, несовременной, расходилась с новыми общественными настроениями, пришлась не ко двору.
Но так кажется только тогда, когда мы воспринимаем этот шедевр с позитивистской или социологической точки зрения, а она предстает весьма поверхностной. Не годится для этого и философия модерна. Об этом будет свидетельствовать и оппозиция Просвещению с его идеей революционных преобразований, которая связана с романтизмом, а он, в отличие от Просвещения, впервые открывает глубинные пласты жизни, в которых добро и зло оказываются в более сложных между собой отношениях. Так, не разрывая с мировосприятием модерна, Бетховен уже одной ногой вступает в ту сферу, которая есть сфера романтизма, а это сфера мифа, в т.ч. космогонического.
Казалось бы, бывший кумир Бетховена, которому композитор поклонялся и которого он боготворил, продолжал быть тем же самым революционно настроенным радикалом и был уверен, что идея объединения европейских народов — это продолжение идеи братства, провозглашенной революцией. Однако на примере Наполеона мы можем уже наблюдать перерождение прогрессивной идеи в идею реакционную. Наполеон, может быть, впервые в истории демонстрирует, как идея братства, идея глобализации в ходе своей реализации трансформируется в свою противоположность, и вместо объединения в жизни развивается процесс разъединения. Да, потому, что именно Наполеон эту прогрессивную идею превращал в имперскую. Это то самое, на чем потерпят потом поражение и Гитлер, и Сталин, и даже современные американские политики. Эта закономерность будет проявляться и в будущем, в т.ч. в ХХ в. Ведь что, собственно, произошло в ходе осуществления наполеоновской идеи объединения Европы? Реализуемая с помощью армии, она привела не к братству, а к политическому регрессу — к империи, похоронившей всякую республиканскую и либеральную идею. Это стало причиной и точкой отправления для разъединения.
Наполеоновская стратегия спровоцировала национальный комплекс, который, с одной стороны, разрушал идею глобализации, а с другой — способствовал разъединению и консолидации народов, возрождающих нацио-
нальный комплекс, способствующий этой консолидации. Реализуемая благая идея спровоцировала нечто прямо противоположное, а именно разъединение. Именно романтическая эпоха возрождает мифологию и фольклор, позволяющие вернуться к национальным корням и в конечном счете добиться обособления. Мифология и фольклор даже в условиях несвободы, как это происходит с Германией, покоренной Наполеоном, становится фундаментом единения и национальной идентичности. Но возрождение мифологии и фольклора демонстрирует и некоторый регресс. В самом деле, идеалом в Германии оказывается уже не античность, не Рим с его республиканскими идеями, как это было в эпоху Просвещения. Для романтиков «золотым веком» становится Средневековье. Оттуда позднее и выйдут оперные герои с их мечами и шлемами, как это позже произойдет у боготворившего Бетховена Р. Вагнера.
Идеальным героем прометеевского типа будет уже не Наполеон, в честь которого будут написаны многие музыкальные и не только музыкальные сочинения, в т.ч. Третья симфония Бетховена, а вагнеровский Зигфрид. Нельзя при этом утверждать, что вагнеровская тетралогия «Кольцо Нибелунга» — нечто, противостоящее музыке Бетховена. Совсем наоборот, ведь уже и Бетховен, опережая и Вагнера, и даже романтизм и, следуя Гердеру, много сделавшему для реабилитации фольклора, вводит в философскую рефлексию все те темы культуры, к которым ныне, на рубеже XX и XXI вв., снова возвращаются, в т.ч. и в России, проявляя интерес к фольклору, что констатируют и музыковеды. Как в оперных реконструкциях Средневековья Вагнера, так и вообще в романтизме возникает нечто такое, что позволит наравне с позитивным началом заявить о своих правах и негативной стихии, способствующей понижению того статуса рационального начала, разума, что так пленяет человечество в модерне XVIII в., но все-таки является лишь проекцией идеалистического и утопического представления о реальности. Вот эта негативная стихия и выйдет на поверхность и проявит себя уже в жизни — в немецком национал-социализме, который позднее воспользуется в виде гипнотически возбуждающей ауры вагнеров-ским наследием. Но более подробно мы выскажемся об этом в последующих публикациях, посвященных творчеству Бетховена.
ЛИТЕРАТУРА
1. Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры.— СПб:. Университетская книга, 1998.
2. Давыдов Ю. Художник и отчужденное искусство // Вопросы эстетики — М.: Искусство, 1968. — С. 197-250.
3. Зедльмайр Х. Искусство и истина. О теории и методе истории искусства.—М.: Библиотека журнала «Искусствознание», 1999.
4. Из истории советской бетховенианы.— М.: Советский композитор, 1972.
5. Кириллина Л. В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т.— М.: Московская консерватория, 2009.
6. Кребер А. Избранное: Природа культуры.—М.: РОССПЭН. 2004.
7. Манн Т. Страдания и величие Рихарда Вагнера // Манн Т. Собр. соч.: в 10 т. — М.: Гос. изд-во художественной лит-ры, 1961.—Т. 10.— С. 102-173.
8. Раку М. Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи.—М.: Новое литературное обозрение, 2014.
9. Роллан Р. Собр. соч.: в 14 т.—М.: Гос. изд-во художественной лит-ры, 1954.—Т. 2.
10. Хренов Н. Искусство в контексте ХХ века на фоне повторяющихся флуктуаций в больших длительностях исторического времени // Циклические ритмы в истории, культуре, искусстве.—М.: Наука, 2004.
11. Якимович А. К. Эпоха сокрушительных творений. Из истории искусства и мысли ХХ века.—М.: Галарт, 2009.





 CC BY
CC BY 46
46