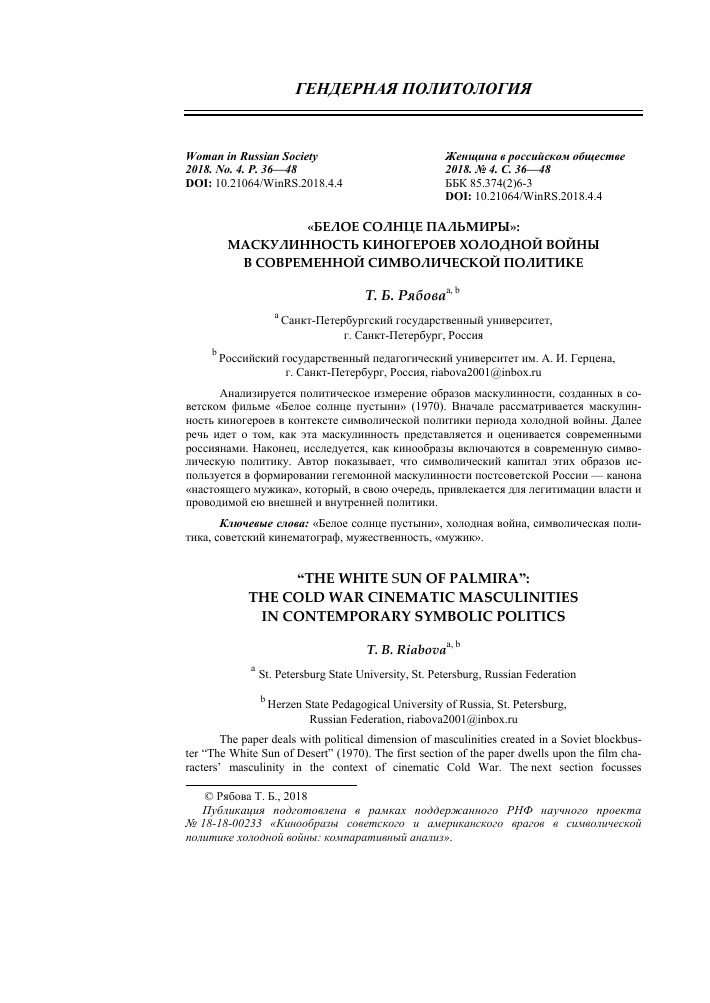ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ
Woman in Russian Society Женщина в российском обществе
2018. No. 4. P. 36—48 2018. № 4. С. 36—48
DOI: 10.21064/WinRS.2018.4.4 ББК 85.374(2)6-3
DOI: 10.21064/WinRS.2018.4.4
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПАЛЬМИРЫ»: МАСКУЛИННОСТЬ КИНОГЕРОЕВ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ В СОВРЕМЕННОЙ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
Т. Б. Рябоваa b
a Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
b Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия, riabova2001@inbox.ru
Анализируется политическое измерение образов маскулинности, созданных в советском фильме «Белое солнце пустыни» (1970). Вначале рассматривается маскулинность киногероев в контексте символической политики периода холодной войны. Далее речь идет о том, как эта маскулинность представляется и оценивается современными россиянами. Наконец, исследуется, как кинообразы включаются в современную символическую политику. Автор показывает, что символический капитал этих образов используется в формировании гегемонной маскулинности постсоветской России — канона «настоящего мужика», который, в свою очередь, привлекается для легитимации власти и проводимой ею внешней и внутренней политики.
Ключевые слова: «Белое солнце пустыни», холодная война, символическая политика, советский кинематограф, мужественность, «мужик».
"THE WHITE SUN OF PALMIRA": THE COLD WAR CINEMATIC MASCULINITIES IN CONTEMPORARY SYMBOLIC POLITICS
T. B. Riabova' b a St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russian Federation
b Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, Russian Federation, riabova2001@inbox.ru
The paper deals with political dimension of masculinities created in a Soviet blockbuster "The White Sun of Desert" (1970). The first section of the paper dwells upon the film characters' masculinity in the context of cinematic Cold War. The next section focusses
© Рябова Т. Б., 2018
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РНФ научного проекта № 18-18-00233 «Кинообразы советского и американского врагов в символической политике холодной войны: компаративный анализ».
on contemporary Russians' perception and evaluation of this masculinity. The final section discusses how these cinematic images are involved in contemporary symbolic politics. The author points out that the symbolic capital of these images are employed in forming the hegemonic masculinity of the Post-Soviet Russia — that of the "real muzhik" that in its own turn contributes to legitimation of power and its domestic and foreign policy.
Key words: "White Sun of Desert", Cold War, symbolic politics, Russian masculinity, Soviet cinema, "muzhik".
В разгар операции Военно-космических сил РФ в Сирийской Арабской Республике в 2016 г. появился календарь, в котором мировые политики были представлены в образах персонажей советского фильма «Белое солнце пустыни» (реж. В. Мотыль, 1969): воплощениями президента В. Путина, министра иностранных дел С. Лаврова, президента Сирии Б. Асада стали положительные герои (соответственно Сухов, Верещагин и Саид), а в облике басмача Абдуллы был изображен президент США Б. Обама. Календарь получил широкий медийный резонанс, и это позволяет предположить, что кинообразы популярных советских фильмов выступают значимым ресурсом современной символической политики. Мы разделяем понимание символической политики как деятельности политических акторов, направленной на производство и продвижение/навязывание определенных способов интерпретации социальной реальности в качестве доминирующих [Малинова, 2010]. Одним из акторов символической политики является кинематограф, который не только транслирует существующие в обществе представления и ценности (и это определяет успешное декодирование информации), но и продуцирует новые, используя для этого создание кинокартин, кинокритику, проведение кинофестивалей, учреждение премий, составление рейтингов и др.
Для исследователей символической политики фильм «Белое солнце пустыни» любопытен тем, что производство интерпретаций социальной реальности, в том числе весьма отличных от первоначальных, появившихся во время выхода картины, активно продолжается и сегодня. Цель настоящей статьи состоит в анализе одного из аспектов символической политики, связанной с политизацией кинообразов холодной войны, — аспекта гендерного. Как созданные в фильме образы участвуют в формировании и поддержании национальных моделей мужественности в современной России? Какую трансформацию эти образы претерпевают по сравнению с оригиналом? Какую оценку они получают в сегодняшних социальных представлениях? Каким образом происходит политизация этих кинообразов? Отвечая на эти вопросы, мы вначале рассмотрим маскулинность героев «Белого солнца пустыни» в контексте символической политики периода холодной войны. Далее речь пойдет о том, как эта маскулинность воспринимается и оценивается нашими современниками. Наконец, заключительная часть статьи посвящена использованию исследуемых кинообразов в современной символической политике.
Наш ответ Джеймсу Бонду: маскулинность героев фильма в контексте кинематографической холодной войны
Явлением политики фильм «Белое солнце пустыни» стал еще на стадии создания, и уже тогда он был связан с дискурсами как ориентализма, так и антизападничества. Что касается «восточной» составляющей фильма, то на соответствие его практикам ориентализма обращали внимание многие исследователи. Так, И. Новикова показала, что в фильме отражается основная идея ориентализма — цивилизующая миссия Запада на Востоке, который предстает отсталым, опасным, кровожадным, необузданным, что проявляется и в гендерных нормах [Новикова, 2004: 78—85] (см. также: [Said, 1978]). Действительно, репрезентации маскулинности Абдуллы как архаичной (включая чрезмерную жестокость и средневековое отношение к женщине) типичны для легитимации колониального присутствия, что описано в работах по ориентализму (напр.: [Niva, 1998]). Лозунг «Долой предрассудки. Женщина — она тоже человек!» (в фильме мы видим его на плакате в «1-м общежитии свободных женщин Востока» (ил. 1)) служит обоснованию идеи необходимости социальных преоб-Ил. 1. Кадр из фильма разований в Средней Азии, осуществ-
«Бел°е солнце пустыни» ляемых при сильной поддержке России1.
Однако у фильма есть и «западное» измерение: он выступает частью кинематографической холодной войны [Shaw, Youngblood, 2010]. Фильм был задуман как историко-приключенческий на волне, с одной стороны, успеха «Неуловимых мстителей» (реж. Э. Кеосаян, 1966)2 и, с другой, популярности тех американских вестернов, которые были допущены в советский прокат (прежде всего, «Великолепной семерки» (реж. Дж. Стерджес, 1960)). Как и в типичном вестерне, в исследуемой картине герой в одиночку расправляется с врагами и спасает женщин от злодеев. Однако совпадения поведенческих моделей героя-индивидуалиста в западном вестерне и героя, сражающегося во имя светлого коммунистического будущего всех порабощенных народов, в советском истерне быть не могло (об истернах и их отличии от вестернов см.: [Лапина-Кратасюк, 2011; Bohlinger, 2014: 380; Gillespie, 2014: 127—128]). Убежденность в том, что вестерн чужд коммунистической морали, проявила себя в критике той же «Великолепной семерки», в которой принял участие сам Н. Хрущев [Раззаков,
1 Сегодня же аналогичные дискурсивные практики обнаруживают себя в русофобской пропаганде некоторых политических акторов на Западе: Россия представлена как отсталый Восток, российские женщины — как жертвы патриархата, что проявилось, например, во время президентской кампании в США в 2016 г. [Riabova, 2018].
2 Бухтеев М. Как сделать кино. Белое солнце пустыни. Рецепт успеха. 2010. 9 января. URL: http://mabuk.ru/content/beloe-solntse-pustyni-retsept-uspekha (дата обращения: 21.08.2018).
2008]3. К тому же образ ковбоя нередко использовался в качестве символа американского империализма, в том числе в советском кинематографе [Riabov, 2017: 202]. Поэтому корректировка персонажей и сюжета в соответствии с иными образцами и стандартами была неизбежной.
Соперничество образов маскулинности играло важную роль в идеологическом противостоянии [Riabov, 2017]. Советские кинорепрезентации западной маскулинности, помимо марксистской критики буржуазного гендерного порядка, имели такой источник, как русское антизападничество, представители которого нередко утверждали, что если западной маскулинности присущ внешний лоск, за которым скрываются эгоизм и гордыня, а иногда и отсутствие подлинного мужества, то русской — при внешней неброскости, смирении, скромности — подлинная стойкость, товарищество и патриотизм [Riabov, 2017: 209— 210]. Истоки этого противопоставления можно обнаружить уже в оппозиции «западный рыцарь — русский богатырь», появляющейся в текстах славянофилов второй половины XIX в. [ibid.: 210].
В этой связи интерес представляет эволюция образов главных героев картины. Образы первой версии сценария оказались слишком схематичными и плакатными; для того чтобы зрители полюбили героев, было решено привести эти образы в соответствие с национальными представлениями о мужественности. В ходе переработки роли Верещагина В. Мотыль «наградил» героя богатырской силой, «как у Ильи Муромца или Алеши Поповича»4. Примечательно, как П. Луспекаев рассказывал о своей правке, внесенной в роль: его убеждали в картине драться «по-американски», по законам жанра, но он был горд тем, что остался верным себе, используя свои «колотушки»5. Идея богатырства Верещагина была оценена: и зрители, и критики увидели то, что хотели показать создатели фильма. Журнал «Советский экран» охарактеризовал героя так: «.. .пленительный, романтический характер, в котором под конец взорвутся благородные силы. И кинется он очертя голову в схватку с бандитами, и погибнет как истинный богатырь.»6
Образ Сухова также подвергся корректировке в соответствии с национальными канонами маскулинности. На заседании худсовета экспериментальной студии «ЭТО» художественный руководитель Г. Чухрай посоветовал придать ему «мужицкий», крестьянский, характер, отметив, что в нем отсутствуют качества, которые могли бы сделать картину оригинальной, отличной от известных запад-
3 Приведем слова кинокритика тех лет, которые свидетельствуют о том, что вестерн расценивался как средство продвижения интересов США во всем мире: «Оказывается, благородные стремления и беззаветная храбрость присущи только американским ковбоям, этим рыцарям без страха и упрека. <...> В вопиющем противоречии с фактами с помощью фильмов вроде «Великолепной семерки» создается легенда о добрых американцах, которые спешат на помощь народам, попавшим в беду» [Цит. по: Раззаков, 2008].
4 Интервью с режиссером В. Мотылем // События. 2008. № 5. URL: http://sobytiya.net.ua/ archive,date-2008_04_07,article-rejisser_filma_beloe_solntse_pystuni_1/article.html (дата обращения: 21.08.2018).
5 Пипия Б. Киногерой, сыгранный Павлом Луспекаевым, стал символом российской таможни // Независимая газета. 2003. 3 февраля. URL: https://bdt.spb.ru/пресса/павел-луспекаев/ (дата обращения: 21.08.2018).
6 Цит. по: Мусский И. А. 100 великих отечественных кинофильмов. М.: Вече, 2005. URL: https://coollib.eom/b/59047/read (дата обращения: 21.08.2018).
ных образцов, чувство мужицкого юмора, мужицкая смекалка, простота и полное отсутствие позы [Раззаков, 2008]. Таким образом, «сознательного бойца революционного пролетарского полка имени товарища Августа Бебеля» превратили в русского солдата, из деревни, который берется за оружие для того, чтобы защищать «правду»7. В условиях холодной войны образ Сухова, утверждая приоритет национальной мужественности, воспринимался как ответ не только на кинематографические образы идеализированной западной маскулинности, будь то вестерны или «бондиана».
«Настоящие мужики»: герои фильма
в представлениях современных россиян
С самого появления на советских киноэкранах в 1970 г. фильм «Белое солнце пустыни» стал, что называется, народным, в первый год кинопроката его посмотрели 34,5 млн зрителей. Официальное признание, тем не менее, последовало только много лет спустя; в 1998 г. ему присудили Государственную премию РФ, что отражало уже новый виток популярности картины. Любовь к фильму в современной России объясняется не только ностальгией по советской культуре: для значительного числа наших современников он, очевидно, призван давать ответы на сегодняшние вопросы. В 2007 г. «Независимая газета», публикуя материал о Луспекаеве, привела ряд мнений деятелей литературы и искусства о причинах востребованности картины у нынешнего поколения зрителей. Приведем одно из них: «В фильме... наше подлинное представление о самих себе. Мы мощные, снисходительные и несуетливые. <...> Зла мы никому не желаем, а, уж когда все напрочь выходит за рамки, молча, но доволь-
Ил. 2. Сувенирная футболка. URL: http://maek-mir.ru/muzhskije-futbolki/futbolka-ja-mzdu-nje-bjeru-1 (дата обращения: 21.08.2018)
но решительно устраняем неправду и зло» . Действительно, картина не просто стала частью массовой культуры (ил. 2), но также превратилась в элемент национальной мифологии и российской идентичности.
Изменение гендерных канонов в России XXI в. выступило, на наш взгляд, одной из причин того, что фильм воспринимают как явление современное: характеристики главных положительных персонажей практически совпали с новыми представлениями о мужественности. Создание новой модели национальной маскулинности стало частью новой политики национальной идентичности в
Киновед Н. Зоркая отмечает, что режиссер приблизил историю красноармейца Сухова к русским фольклорным истокам, к народной традиции рассказа о солдате-миротворце [Зоркая, 2005] (см. также: [Абдуллаева, 2016: 127]).
8 См.: Дунаевская О. Народный Верещагин и подлинная героика // Независимая газета. 2007. 13 апреля. URL: http://www.ng.ru/saturday/2007-04-13/15_luspekaev.html (дата обращения: 21.08.2018).
2000-х гг., которую мы называем «ремаскулинизация России». Таковой стала модель «мужика», представляющая собой синтез традиционной русской, советской и либеральной маскулинности. Она включает в себя соответствие реалиям постсоветского общества, предполагающим экономическую самостоятельность и индивидуальный успех; однако, в отличие от воображаемого мужчины современного Запада, «мужик» вынослив, силен; он надежный товарищ и патриот и при этом далек от норм толерантности и феминизма (см. подробнее об образе «мужика» как гегемонной маскулинности: [Рябова, 2009: 156]). Канон «мужика» формируется под влиянием многих факторов, среди которых социально-экономические отношения; символическая борьба, осуществляемая различными политическими акторами; позиции России на международной арене. Но это тема отдельного исследования. Сейчас мы бы хотели обратить внимание на фактор культурно-семиотический: в культуре функционируют образы, ставшие специфическим строительным материалом этого канона. Легитимация «мужика» как гегемонной маскулинности осуществляется в том числе за счет апелляции к тем образам культуры, которые обладают значительным символическим капиталом. «Мужик», «настоящий мужик» — это приемлемая в большинстве социальных групп современного российского общества оценка соответствия образцовой мужественности. И сам режиссер фильма характеризует главного героя как «мужика» («Я сделал из Сухова настоящего мужика!»9); подобную оценку он высказал уже в наши дни, в 2008 г., что, впрочем, также показательно.
Анализ мнений зрителей исследуемого фильма в последнее десятилетие (высказанных на форумах к сайтам, где можно посмотреть фильм и его фрагменты, в комментариях на специализированных ресурсах, рекламирующих кинопродукцию) показывает, что качества, которые они видят в главных героях картины, соответствуют этому канону. Например, один из отзывов содержит такую оценку: «Сухов и Верещагин — оба являются образцом, сутью настоящего РУССКОГО мужика. Именно за такой характер мы и любим наших мужей»10.
Среди характеристик новой мужественности, прочитываемых зрителями в главных героях, — сила, чувство долга, верность Родине, которая и для «красного», и для «белого» одна. Товарищество, мужское братство — также важный маркер («Как они понимают друг друга с полуслова — Сухов и Верещагин. Хотя враги»11). Комментаторы восхищаются и нежным, уважительным отношением Сухова к Катерине Матвеевне12, при этом рекомендуя смотреть фильм тем, кто «заботится о воспитании мальчиков», поскольку он, по их мнению, учит защищать женщин и быть героем13.
9 Владимир Мотыль: «Я сделал из Сухова настоящего мужика!» URL: http://www.smena.ru/news/2008/02/26/13463/ (дата обращения: 21.08.2018).
10 См. комментарии: Гарем товарища Сухова. 2013. 14 августа. URL: http://back-in-ussr.com/2013/08/garem-tovarischa-suhova.html (дата обращения: 21.08.2018).
11 Фильм «Белое солнце пустыни»: авторский блог. URL: http://znichka.com/ post218098025/comments (дата обращения: 21.08.2018).
12 Отзыв.expert. URL: http://otzyv.expert/zahvativayushiy-interesniy-vestern-868800 (дата обращения: 21.08.2018).
13 Отзыв на фильм «Белое солнце пустыни». URL: https://www.ivi.ru/watch/53922/ comments (дата обращения: 21.08.2018).
Кинокритики и комментаторы нередко акцентируют специфику национальной мужественности Сухова и Верещагина. Приведем показательную характеристику Сухова с сайта «Кинотеатр.гц», которую дает зритель: «Главный герой — обычный русский мужик, из чувства долга и стремления, считаю, именно к идеалам заброшенный далеко от дома, верящий в добро и в свою правоту, продолжает защищать тех, кто в этом нуждается. Он не считает себя героем, а просто делает то, что должен. Сам не сторонник насилия, но ради других пойдет на бой. Тоска по дому и семье не мешает ему заботиться о других: о молодом красноармейце и о женском гареме. Для него они все просто люди, кото-
14
рые нуждаются в его помощи» .
В образе Верещагина акцентируется богатырство. Киноведы, журналисты, зрители нередко вспоминают о персонажах былин, что, как упоминалось выше, было одной из составляющих замысла режиссера. Так, в «Независимой газете» приводится оценка, высказанная современным режиссером: «Верещагин не случайно стал одним из любимых народных героев. Тут совпали редкое актерское обаяние самого Павла Борисовича (Луспекаева. — Т. Р.) и национальный архетип, видимо, восходящий к Илье Муромцу. <...> Он просыпается, выходит из берлоги и восстанавливает попранную справедливость»15.
Как было отмечено, в современной России образ «мужика» формируется в противовес западным моделям маскулинности, что укрепляет символическую границу между «своими» и «чужими», и в восприятии «Белого солнца пустыни» это тоже отражается.
Так, в одном зрительском отзыве говорится, что Сухов «Джеймсу Бонду даст наперед сто очков»16, хотя фильм посвящен совсем другому периоду истории, другой теме и главный злодей в нем олицетворяет Восток. Для этого зрителя важно превосходство над главным кинематографическим героем холодной войны противоборствующего лагеря. Именно Запад, и прежде всего США, играет роль важнейшего значимого Другого в поддержании постсоветской идентичности россиян. Поэтому на форумах главных героев сравнивают с героями американского кино, а фильм — с «голливудскими бреднями» (например: «Когда один тов. Сухов с помощью Саида уничтожает целую банду басмачей, в это веришь, потому что знаешь, что наши люди так могут. А когда смотришь, как это делает задрипанный и разрекламированный американский морпех или рейнджер, хочется только смеяться»17).
14 См. комментарии: Кинотеатр.т. URL: https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/475/ forum/ (дата обращения: 21.08.2018).
15 Дунаевская О. Указ. соч. Заслуживают внимания и «медвежьи» коннотации образа Верещагина: сравнение мужика с медведем не редкость, при том что символ медведя активно привлекается к легитимации власти [Riabov, Lazari, 2009].
16 Фильм «Белое солнце пустыни»: отзыв. URL: https://otzovik.com/review_1064358.html (дата обращения: 21.08.2018).
17 См., напр., комментарии: «Белое солнце пустыни»: фильм. URL: https://www.youtube.com/watch?v=GqnqFhc9aho; «Ваше благородие, госпожа удача»: фрагмент фильма. URL: https://www.youtube.com/watch?v=rwWEMl8RGkI (дата обращения: 21.08.2018). Отметим еще одно отличие от «западных суперменов», приписываемое героям картины, которое было выявлено в ходе проведенного нами социологического исследования (2015), посвященного современному российскому антизападничеству.
Получается, что образы, созданные почти пятьдесят лет тому назад, оказались востребованными в нынешних социальных, культурных и политических реалиях в том числе и потому, что соответствуют нынешним образцам национальной мужественности; неудивительно, что они активно привлекаются акторами символической политики.
«За державу обидно»? Кинообразы фильма в современной символической политике
Кратко охарактеризуем, как «Белое солнце пустыни» используется в различных формах современной символической политики. Патриотизм, как было отмечено, выступает атрибутом канона «мужика». Поскольку герои фильма считаются символом служения стране и верности долгу, то их образы используются для обеспечения легитимности власти или ее делегитимации, включаются как в ее поддержку, так и в ее критику. Скажем, фраза «За державу обидно» часто используется в делегитимации власти, для выражения разочарования ее действиями, будь то на международной арене или во внутренней политике18. В большую политику она пришла, вероятно, вместе с изданной под таким названием книгой А. Лебедя в 1995 г.19 Для генерала это было началом политической карьеры в качестве одного из лидеров Конгресса русских общин, а также кандидата в президенты на выборах 1996 г.; он критиковал власти страны того времени, позиционируя себя в качестве державника.
На вопрос, мог ли фильм «Белое солнце пустыни» быть снят американским режиссером, мы получили отрицательные ответы, сопровождаемые таким комментарием: «Наш человек, в отличие от американского супергероя, человек с душой» (интервью (N=27) проводилось в г. Иваново; выражаем благодарность Е. Лебедевой за работу с информантами).
18 Даже энциклопедические словари предлагают подобную интерпретацию, утверждая, что тот, кто использует эту фразу, хочет подчеркнуть «вопиющее несоответствие между потенциалом страны и ее действительным положением» (Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / авт.-сост. В. Серов. М.: Локид-Пресс, 2003. URL: http://www.bibliotekar.ru/encSlov/8/2.htm (дата обращения: 21.08.2018)). На наш взгляд, это не единственно возможная интерпретация фразы Верещагина «Я мзду не беру — мне за державу обидно», она не содержит критики в адрес страны или власти, а лишь декларирует важнейшее правило его службы на таможне, которое состоит в стремлении не допустить «обиды» державы, защитить ее интересы (ср. слова Александра Невского «За обиду Русской земли встану!» в фильме С. Эйзенштейна).
19 Лебедь А. И. За державу обидно. М.: Моск. правда, 1995. Впоследствии вышло еще несколько книг оппонентов власти с таким названием (напр.: МухинЮ. За державу обидно. М.: Яуза, 2006). Эта фраза регулярно использовалась в левопатриотической риторике (напр.: За державу обидно, за Россию нашу, за кровь родителей. // Советская Россия. 2003. 15 мая. URL: https://www.sovross.ru/old/2003/051/051_4_1.htm (дата обращения: 21.08.2018); «За державу обидно!» На правительственном часе в Госдуме выступили депутаты-коммунисты и задали вопросы министру экономического развития. URL: https://kprf.ru/dep/ gosduma/activities/172818.html (дата обращения: 21.08.2018)), в том числе в дискурсе кандидата в президенты на выборах 2018 г. П. Грудинина: «Меня как-то спросили: "А зачем ты идешь на выборы президента?" Я сказал: "За державу обидно!"» (URL: https://www.omsk-kprf.ru/redway/za-derzavu-obidno (дата обращения: 21.08.2018)).
Что касается вклада в легитимацию власти, то сама популяризация канона «мужика» становится политически значимой. Мы уже отмечали, что одним из способов легитимации являются репрезентации В. Путина как «настоящего мужика» [Ryabova, Ryabov, 2011] (см. также: [Sperling, 2016; Wood, 2016]). При этом такую оценку президента разделяют многие россияне; полученные нами ранее данные [Рябова, 2009; Ryabova, Ryabov, 2011] были подтверждены в ходе недавнего общероссийского опроса, проведенного Левада-центром (24— 25 октября 2017 г.): в ответ на открытый вопрос, чем их привлекает Путин, наибольшее число респондентов (19 %) подчеркивают «мужество», «решительность», «силу», «спокойствие», «смелость», «уверенность в себе» президента и
20
характеризуют его как «настоящего мужика» .
Образ Путина как воплощение традиционной маскулинности появляется в массовой культуре в различных видах: от римского императора до былинного богатыря и от героя вестернов до Супермена [Riabova, 2018]. Встречается и его ассоциирование с Суховым, особенно во внешнеполитическом дискурсе (например, на демотиваторе, изображающем президентов России и США21).
Фильм «Белое солнце пустыни» стал еще более востребованным с началом операции ВКС РФ в Сирии, в условиях актуализации темы борьбы с международным терроризмом (ил. 3). Так, надпись на одном из демотиваторов с портретом Сухова гласит: «Воевал с ИГИЛ еще до того, как это стало мэйнстримом»22. Оценка Сухова российским историком как одного из «вежливых людей» и проведение аналогии с поведением российского офицерства при колонизации национальных окраин [Костров, 2017] также может расцениваться как элемент символической политики, актором которой в данном случае выступает представитель экспертного сообщества. Легитимируя внешнюю политику страны, этот образ вносит вклад и в легитимацию власти, которая ее проводит.
Ил. 3. Демотиватор «Саид, которые тут умеренные?». URL: https://fishki.net/photo/ 1712019-said-kotorye-tut-umerennye.html (дата обращения: 21.08.2018)
20 Настоящий мужик: что россияне думают о Путине? 2017. 20 ноября. URL: http://actualcomment.ru/nastoyashchiy-muzhik-chto-rossiyane-dumayut-o-putine-1711201204.html (дата обращения: 21.08.2018).
21 Увидишь Обаму — не трогай. Он мой! URL: https://twitter.com/pravdiva_pravda/ status/586894140308328448 (дата обращения: 21.08.2018).
22 Россия и Запад: политика в картинках. 2017. 14 марта. URL: http://mykor.ru/blogs/ blog-trang-a/rossija-i-zapad-politika-v-kartinkah-61.html (дата обращения: 21.08.2018).
Кроме того, образ Сухова — борца с международным терроризмом — привлекается и для репрезентаций президента. Примером здесь может служить уже упомянутый календарь «Белое солнце пустыни» фотохудожника А. Будаева. Он был выпущен в 2016 г. ко дню рождения президента, а в 2017 и 2018 гг. переработан и издан под названием «Белое солнце Пальмиры». Телерепортажи об операции в Сирии, по мнению автора календаря, являются продолжением советского блокбастера23; сюжеты и образы фильма помогли интерпретировать операцию ВКС России: Сухов и Верещагин противостоят в сирийской пустыне басмачам (исламистам), они непременно победят зло в лице Абдуллы (который выглядит как президент США, сначала как Б. Обама, а в последнем выпуске — как Д. Трамп) (ил. 4, 5). Документальные кадры (на которых мы видим ракеты «Калибр» и Пальмиру) накладываются на хорошо узнаваемые сюжеты фильма. Образ Путина как Сухова транслирует те ценности, которые включаются в канон «мужика»: главный герой лишен позерства, но силен, умен, хладнокровен, надежен, на него можно положиться...
Ил. 4, 5. Страницы календаря А. Будаева «Белое солнце пустыни» и «Белое солнце Пальмиры». URL: www.budaev.ru (дата обращения: 21.08.2018)
Комментаторы, обсуждающие календарь на форумах, не сомневаются в правомерности параллелей между эпохами, которые разделяют без малого сто лет, хотя не все из них согласны с авторской оценкой современных политиков. Одни подчеркивают органичность Путина в роли Сухова («От него идет такая мощь, такая уверенность. За державу радостно! "Белое солнце пустыни" продолжает жить...»), другие же выражают сомнение в том, что кто-то из нынешних политиков может быть похож на главного героя картины, поскольку тот был «честный коммунист, хозяин, преданный борец с коррупцией, мафией и буржуазией, монополистами.»24. Более единодушны комментаторы в своем отношении к репрезентациям Обамы в облике Абдуллы (например: «. политически Обама, конечно, правильно изображен Абдуллой, но реально Абдулла был воин, а Оба-ма... в гольф играет. Он кабинетный воин»25). Любопытно, что «Белое солнце
23 См.: Грачев И. Операция в Сирии стала продолжением «Белого солнца пустыни»: Путин как Сухов, Асад как Саид // Комсомольская правда. 2015. 27 октября. URL: httys://www.kp.ru/daily/26450/3321275/ (дата обращения: 21.08.2018).
24 Там же.
25 Там же.
пустыни» — фильм, в котором нет американских персонажей, — и на стадии создания, и в сегодняшних интерпретациях несет в себе заметную антиамериканскую составляющую...
Таким образом, этногендерные стереотипы — устойчивые, разделяемые, упрощенные представления о мужчинах и женщинах определенной культуры — выступают важным ресурсом символической политики. Кинематограф как актор символической политики активно использует их в производстве значений и смыслов социальной реальности. Нередко кинообразы продолжают функционировать в политической сфере спустя много лет после выхода фильма, и за их интерпретацию идет символическая борьба между различными акторами.
Успех фильма «Белое солнце пустыни» у зрителей был вызван и тем, что создаваемые образы опирались на этногендерные стереотипы. Образы кинофильма были частью символической политики периода холодной войны, включающей и ориенталистские, и антизападные смыслы. Эти образы использовались в качестве элемента политики памяти, легитимирующей роль России в Средней Азии; вместе с тем они выступали как ответ на модели маскулинности, производимые западным кинематографом.
Символический капитал этих образов используется в том числе в формировании гегемонной маскулинности постсоветской России — канона «настоящего мужика», который, в свою очередь, привлекается для легитимации власти и проводимой ею внешней и внутренней политики. Фильм «Белое солнце пустыни» занимает важное место в социальных представлениях наших современников, и приближающийся полувековой юбилей его выхода, очевидно, сделает этот интерес, а следовательно, и использование его политиками еще заметнее.
Библиографический список
Абдуллаева Л. Х. Мифопоэтические детали в фильме В. Мотыля «Белое солнце пустыни»
// Научный диалог. 2016. № 6. C. 125—132. Зоркая Н. М. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005. 544 с.
Костров А. В. Белое солнце геополитики // Новый исторический вестник. 2017. № 1. С. 152—165.
Лапина-Кратасюк Е. Г. Красное на белом: к вопросу о культурной специфике жанра
«истерн» // Вопросы культурологии. 2011. № 5. С. 117—120. Малинова О. Ю. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России: символическая политика в трансформирующейся публичной сфере // Политическая экспертиза. 2010. № 1. С. 5—29. Новикова И. И. «Тонкие дела» за «горними вершинами»: ориентализм в советских
фильмах // Гендерные исследования. 2004. № 10. С. 66—86. Раззаков Ф. Гибель советского кино. Интриги и споры, 1918—1972. М.: Эксмо, 2008. 704 с.
Рябова Т. Б. Гендерные стереотипы в политической сфере современного российского общества: социологический анализ: дис. ... д-ра социол. наук / Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Иваново, 2009. 385 с. Bohlinger V. «The East is a delicate matter»: White Sun of the Desert and the Soviet western // International Westerns: Re-Locating the Frontier / ed. by C. J. Miller, A. B. van Riper. Lanham: Scarecrow Press, 2014. P. 373—393. Gillespie D. Russian Cinema. Oxfordshire; New York: Routledge, 2014. 201 p.
Niva S. Tough and tender: new world order masculinity and the Gulf War // The «Man» Question in International Relations / ed. by M. Zalewski, J. Parpart. Boulder: Westview Press, 1998. P. 109—127.
Riabov O. Gendering the American enemy in Early Cold War Soviet films (1946—1953) // Journal of Cold War Studies. 2017. Vol. 1, № 1. P. 193—219.
Riabov O., Lazari A. de. Misha and the bear: the bear metaphor for Russia in representations of the «Five-Day War» // Russian Politics and Law. 2009. Vol. 47, № 5. P. 26—39.
Riabova T. «The clash of masculinities»? Gendering Russia-Western relations in popular geopolitics // Russia as Civilization: Critical Perspectives on the Civilizational Turn in Contemporary Russia / ed. by S. Turoma, K. J. Mjor, V. Oittinen. London; New York: Routledge, 2018. P. 88—110.
Ryabova T., Ryabov O. The real man of politics in Russia: (On gender discourse as a resource for the authority) // Social Sciences. 2011. Vol. 42, № 3. P. 58—74.
Said E. W. Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978. 368 p.
Shaw T., Youngblood D. Cinematic Cold War: the American and Soviet Struggle for Hearts and Minds. Lawrence: University Press of Kansas, 2010. 312 p.
Sperling V. Putin's macho personality cult // Communist and Post-Communist Studies. 2016. Vol. 49, № 49. P. 13—23.
Wood E. A. Hypermasculinity as a scenario of power: Vladimir Putin's iconic rule, 1999— 2008 // International Feminist Journal of Politics. 2016. Vol. 18, № 3. P. 329—350.
References
Abdullaeva, L. (2016) Mifopoeticheskie detaili v fil'me V. Motylia "Beloe solntse pustyni" [Mythology and poetics in Motyl's film "The White Sun of the Desert"], Nauchnyi dialog, no. 6 (54), pp. 125—132.
Bohlinger, V. (2014) "The East is a delicate matter": White Sun of the Desert and the Soviet western, in: Miller, C. J., van Riper, A. B. (eds), International Westerns: Re-Locating the Frontier, Lanham: Scarecrow Press, pp. 373—393.
Gillespie, D. (2014) Russian Cinema, Oxfordshire, New York: Routledge.
Kostrov, A. V. (2017) Beloe solntse geopolitiki [The white sun of geopolitics], Novyi istoricheskii vestnik, no. 1, pp. 152—165.
Lapina-Kratasiuk, E. G. (2011) Kpasnoe na belom: k voprosu o kul'turnoi spetsifike zhanra "istern" [Red on the white: on the question about cultural features of eastern as a genre], Voprosy kul'turologii, no. 5, pp. 117—120.
Malinova, O. Iu. (2010) Konstruirovanie makropoliticheskoi identichnosti v postsovetskoi Rossii: simvolicheskaia politika v transformiruiushcheisia publichnoi sfere [Constructing macro-political identity in Post-Soviet Russia: symbolic policy in the transforming public sphere], Politicheskaia ekspertiza, no. 1, pp. 5—29.
Niva, S. (1998) Tough and tender: new world order masculinity and the Gulf War, in: Zalewski, M., Parpart, J. (eds), The "Man" Question in International Relations, Boulder: Westview Press, pp. 109—127.
Novikova, I. I. (2004) "Tonkie dela" za "gornimi vershinami": orientalism v sovetskikh fil'makh ["Delicate matters" behind "mountain peaks": orientalism in Soviet films], Gendernye issledovaniia, no. 10, pp. 66—86.
Razzakov, F. (2008) Gibel' Sovetkogo kino. Intrigi i spory, 1918—1972 [Death of Soviet cinema: intrigues and discussions], Moskow: Eksmo.
Riabov, O. (2017) Gendering the American enemy in Early Cold War Soviet films (1946— 1953), Journal of Cold War Studies, vol. 1, no. 1, pp. 193—219.
Riabov, O., de Lazari, A. (2009) Misha and the bear: The bear metaphor for Russia in representations of the "Five-Day War", Russian Politics and Law, vol. 47, no. 5, pp. 26—39.
Riabova, T. (2018) "The clash of masculinities"? Gendering Russia-Western relations in popular geopolitics, in: Turoma, S., Mjor, K. J., Oittinen, V. (eds), Russia as Civilization: Critical Perspectives on the Civilizational Turn in Contemporary Russia, London, New York: Routledge, pp. 88—110.
Riabova, T. B. (2009) Gendernye stereotipy v politicheskoi sfere sovremennogo rossiiskogo obshchestva: sotsciologicheskii analiz: Dis. ... d-ra sotsiol. nauk [Gender stereotypes in political sphere of contemporary Russian society: sociological analysis: Diss. (Dr. Sc.)], Nizhnii Novgorod.
Ryabova, T., Ryabov, O. (2011) The real man of politics in Russia: (On gender discourse as a resource for the authority), Social Sciences, vol. 42, no. 3, pp. 58—74.
Said, E. W. (1978) Orientalism, New York: Pantheon Books.
Shaw, T., Youngblood, D. (2010) Cinematic Cold War: The American and Soviet Struggle for Hearts and Minds, Lawrence: University Press of Kansas.
Sperling, V. (2016) Putin's macho personality cult, Communist and Post-Communist Studies, vol. 49, no. 49, pp. 13—23.
Wood, E. A. (2016) Hypermasculinity as a Scenario of Power: Vladimir Putin's iconic rule, 1999—2008, International Feminist Journal of Politics, vol. 18, no. 3, pp. 329—350.
Zorkaia, N. M. (2005) Istoriia sovetskogo kino [History of Soviet cinema], St. Petersburg: Aleteiia.
Статья поступила 30.08.2018 г.
Информация об авторе /Information about the author
Рябова Татьяна Борисовна — исполнитель по гранту, Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия (Grant Contractor, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russian Federation); доктор социологических наук, профессор кафедры политологии, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия, riabova2001@inbox.ru (Dr. Sc. (Sociology), Professor at the Department of Political Science, Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, Russian Federation).





 CC BY
CC BY 44
44