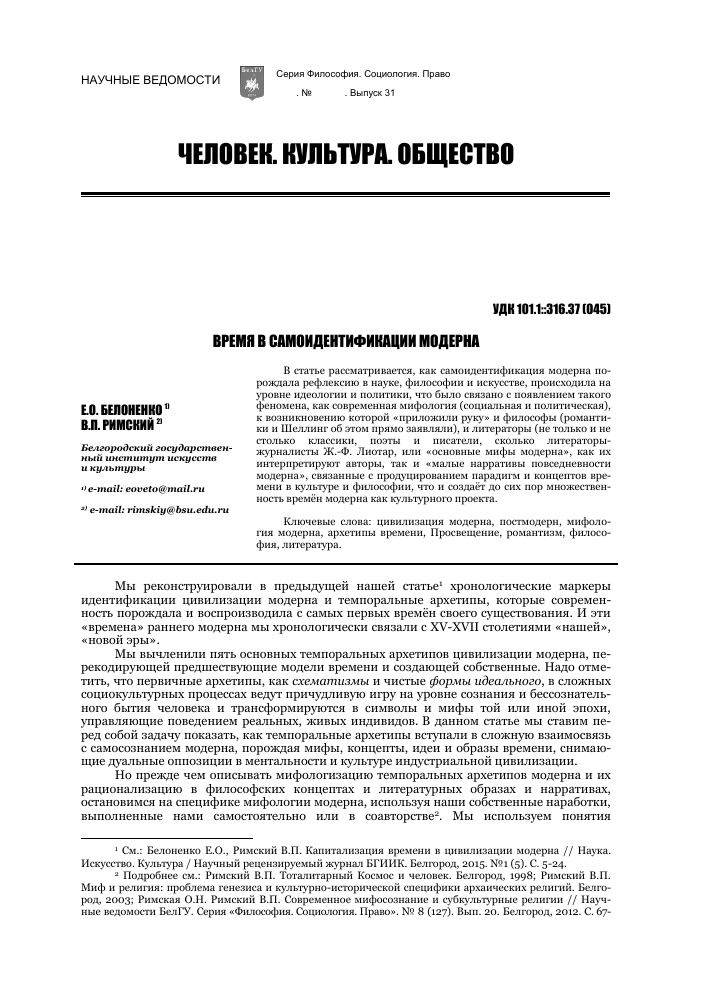НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ рИ Серия филосоФия- Социология. Право.
IЩ ' 2015. № 2 (199). Выпуск 31
ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО
УДК 101.1::316.37 (045)
ВРЕМЯ В САМОИДЕНТИФИКАЦИИ МОДЕРНА
В статье рассматривается, как самоидентификация модерна порождала рефлексию в науке, философии и искусстве, происходила на уровне идеологии и политики, что было связано с появлением такого феномена, как современная мифология (социальная и политическая), к возникновению которой «приложили руку» и философы (романтики и Шеллинг об этом прямо заявляли), и литераторы (не только и не столько классики, поэты и писатели, сколько литераторы-журналисты Ж.-Ф. Лиотар, или «основные мифы модерна», как их интерпретируют авторы, так и «малые нарративы повседневности модерна», связанные с продуцированием парадигм и концептов времени в культуре и философии, что и создаёт до сих пор множественность времён модерна как культурного проекта.
Ключевые слова: цивилизация модерна, постмодерн, мифология модерна, архетипы времени, Просвещение, романтизм, философия, литература.
Мы реконструировали в предыдущей нашей статье1 хронологические маркеры идентификации цивилизации модерна и темпоральные архетипы, которые современность порождала и воспроизводила с самых первых времён своего существования. И эти «времена» раннего модерна мы хронологически связали с ХУ-ХУ11 столетиями «нашей», «новой эры».
Мы вычленили пять основных темпоральных архетипов цивилизации модерна, перекодирующей предшествующие модели времени и создающей собственные. Надо отметить, что первичные архетипы, как схематизмы и чистые формы идеального, в сложных социокультурных процессах ведут причудливую игру на уровне сознания и бессознательного бытия человека и трансформируются в символы и мифы той или иной эпохи, управляющие поведением реальных, живых индивидов. В данном статье мы ставим перед собой задачу показать, как темпоральные архетипы вступали в сложную взаимосвязь с самосознанием модерна, порождая мифы, концепты, идеи и образы времени, снимающие дуальные оппозиции в ментальности и культуре индустриальной цивилизации.
Но прежде чем описывать мифологизацию темпоральных архетипов модерна и их рационализацию в философских концептах и литературных образах и нарративах, остановимся на специфике мифологии модерна, используя наши собственные наработки, выполненные нами самостоятельно или в соавторстве2. Мы используем понятия
1 См.: Белоненко Е.О., Римский В.П. Капитализация времени в цивилизации модерна // Наука. Искусство. Культура / Научный рецензируемый журнал БГИИК. Белгород, 2015. №1 (5). С. 5-24.
2 Подробнее см.: Римский В.П. Тоталитарный Космос и человек. Белгород, 1998; Римский В.П. Миф и религия: проблема генезиса и культурно-исторической специфики архаических религий. Белгород, 2003; Римская О.Н. Римский В.П. Современное мифосознание и субкультурные религии // Научные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». № 8 (127). Вып. 20. Белгород, 2012. С. 67-
Е.О. БЕЛОНЕНКО 11 В.П. РИМСКИЙ 21
Белгородский государственный институт искусств и культуры
1) e-mail: eoveto@mail.ru
e-mail: rimskiy@bsu.edu.ru
«социальный миф» и «современная мифологии» (мифология модерна) как тождественные, синонимичные, так как социальная мифология, приходящая на смену традиционным мифам, становится возможной именно в цивилизации модерна. Специфика базисных мифов модерна и соответствующих архетипов определялась тем, что индустриальная цивилизация вырастает из предпосылок, накопленных всем ходом развития традиционных цивилизаций и культур, но одновременно и ведет к нигилистическому отрицанию самого духа традиционализма3, делая мифологию модерна отличной от предшествующих традиционных религиозно-мифологических форм.
Все мифы модерна были связаны как с традиционными властными элитами, политическими и церковными, так и с новыми, предпринимательскими и интеллектуальными группами и сообществами, которые «захватывали» ментальные стереотипы народных масс и создавали необычные идеологические и религиозные конфигурации. Мифы модерна находили свою благодатную почву в повседневной энергии грядущих ротшильдов, морганов и фордов, эксплуатируемых пролетариев и интеллектуалов, были не только рефлексией над мифологической плотью обыденности, но и создавали идеологические вариации повседневных и парадно-идеологических мифов индустриально-капиталистической цивилизации». Таким образом, мифология модерна имела определённую историю и связана с первоначальным накоплением капитала, религиозными, коммуникативными, научными и политическими революциями XVII века: Реформация Лютера и Кальвина сопрягалась «эрой Гутенберга», «век Декарта» с абсолютизмом Людовика XIV, Английская революция с интеллектуальным переворотом «эпохи Ньютона», философское Просвещение с Американской и Французской революциями.
Все эти кризисные повороты, перевороты и возвраты* были соединены воедино и представлены в истории Англии XVII в., где и произошёл слом привычных рутинных, повседневных практик европейского традиционализма, который породил трансформации средневековой христианской культуры и модернизированные христианские и антихристианские (сектантские) мифы, реанимировал языческие ритуалы и старые архаические практики в их новом, гипертрофированном виде. А это, в свою очередь, привело к новым рутинизирующимся (капиталистическим) жизненным практикам. Здесь мы выделяем ещё неразвитые мифологические формы модерна, которые в будущем приобретут законченный вид, будучи пропущены сквозь идеологические и духовные превращения времени индустриально-капиталистической цивилизации XIX века уже на пространстве всей Европы и Северной Америки. Но именно в Англии формируются первичные мифы модерна и субъекты политического и культурного действия, которые вступали в сложную и неоднозначную связь с архетипами времени, так как миф предполагал не только бессознательный уровень, но и определённую рационализацию в самосознании субъектов, коллективных и персональных.
Во-первых, мы считаем возможным номинировать миф империи, возникающий в среде крупной торговой, ростовщической и церковной элиты (космополитичной не только по мировоззрению, но и по этническому составу). Этот миф начал формироваться ещё до Английской революции, будучи связан с британскими колонизаторскими войнами и враждой с Францией и Испанией, династической борьбой Стюартов и Тюдоров. Старые элиты (крупные земледельцы и торгово-финансовая олигархия, епископы) вполне устраивала скорее католическая династия Стюартов, чем протестантские Тюдоры (этатистская реформация в Англии была порождена прозаичной борьбой за власть, а не религиозными поисками «истинного христианства»).
74; Егоршева О.И. Культурно-цивилизационная специфика современной мифологии. Дисс. ... к. филос. н. / 24.00.01. Белгород, 2002; Динамика гражданского общества, этноконфессиональная толерантность и диалог культур: эпистемологические модели: коллектив. моногр. / В.П. Римский [и др.]; под ред. В.П. Римского. Белгород, 2012. С. 145-179; Белоненко Е.О. Бережная М.П., Римская О.Н. Вечный уход и вечное возвращение: ницшеанская «воля к жизни» и хайдеггеровская «воля к смерти» // Научные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». №16 (187). Вып. 29. Белгород, 2014. С. 197-204; Белоненко Е.О. Образы и парадигмы времени в философии и культуре модерна // Научные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». 22 (193). Вып. 30. Белгород, 2014. С. 147-153; и др.
3 Подробнее см.: Римский В.П. Тоталитарный космос и человек. Белгород, 1998. С. 36.
* Этимология слова «революция» - «revolvere» - содержит первичные смыслы «возврата», «поворота», «возвращения», «превращения», «отката».
Серия Философия. Социология. Право. 2015. № 2 (199). Выпуск 31
Имперский миф в первую очередь был приватизирован англиканской церковью, этатистской версией протестантизма, единственным отличием которой от Римского католичества было упрощение культовых символов и практик и отказ от власти пап - король становился наместник Бога на земле*. Король в этой сакральной ипостаси мог отменять и предписывать почти без ограничений любые законы: здесь создаётся правовой прецедент «чрезвычайной ситуации», когда любые возмущения в обществе позволяли правителю вводить «чрезвычайное положение», о котором уже в наши дни пишет Дж. Агамбен: «Суверен посредством чрезвычайного положения «создает и гарантирует ситуацию», которая требуется праву для того, чтобы быть действенным»4, реализует чрезвычайное положение как приостановку действия права (прерывание «общественного договора» и возврат в «естественное состояние») или вообще его исключение. Собственно, рационализация «естественного состояния» как «войны всех против всех» в политической философии Гоббса, которой в начале революции был роялистом, требовала установления «договорного ритуала» в чрезвычайном положении.
Здесь вступал в свои права «архетип времени цивилизации», время общечеловеческого традиционализма, так как империи всегда оказывались способами создания, легитимации и укрепления цивилизационных систем: в среде финансово-олигархической оживлялись языческие архетипы мифологического героя и императора-героя, культом которых римская античность и закончила свое победное существование в мировой истории. Старые элиты устраивало «спокойное течение времени», абсолютное доминирование прошлого над настоящим и будущим и циклическое моделирование времени. После революций миф империи олигархических элит легитимировал в свою пользу новый конституционный режим эпохи Реставрации*, который освящал как эксплуатацию традиционной, аграрно-ремесленной экономики и основных слоёв населения, так и грабёж «нового света», завоёвание «диких», «варварских народов» колоний. Олигархические элиты создали партию тори, первый образец радикального, реакционного политического консерватизма.
Во-вторых, старым элитам и их духовным легитимациям противостоял протестантский пуританизм, который смог уживаться и с республикой, и с любыми новыми властями после реставрации «конституционной монархии». В сложной борьбе старых и новых элит формировался консервативно-либеральный миф нации и народа, отражавший интересы мелкого дворянства и национальной предпринимательской буржуазии, которые выдвигали требования возврата (опять же «революция») свобод «старых добрых времен» (феодальный парламентаризм и федерализм) и свободы предпринимательства, независимости от налоговых поборов в пользу центральной королевской власти и олигархии, что первоначально и привело к диктатуре Кромвеля. Последняя была поддержана, например, и вернувшимся из эмиграции Т. Гоббсом, что нашло отражение в редакции его «Левиафана».
Миф нации и народа, добровольно делегирующих власть королю во имя прекращения «войны всех против всех», как и пуританизм, противостоял имперской мифологии «избранных». Он также был ориентирован на «старину», но это была «древность» феодальной вольницы, перекодированной в концептах новых свобод: парламентаризма, экономической конкуренции и религиозной толерантности. Здесь давал о себе знать третий -в мифологии нации и народа прошлое легитимировало настоящее и формировало идеологию будущего властного проекта, генерировало достаточно спокойный поток времени. В политическом пространстве этот миф был в большей степени связан с партией вигов - первой версией буржуазного национального, консервативного либерализма.
В-третьих, как и до этого в реформационной Германии, в Английской революции возникли такие движения народных масс, как секта и партия индепендентов, радикальное крыло пуританизма, которые объединяли не только бюргерские низы «третьего сословия», мелких торговцев и ремесленников, но и крестьян, разорявшихся фермеров и пауперов «первоначального накопления капитала». Их чаяниям отвечали причудливые смеси эсхатологических и утопических верований в мифологии эгалитаризма и ради-
* Король Яков I (1603-1625), например, постоянно подчеркивал свое «божественное происхождение» и порой прямо видел себя «земным богом», подобно римским императорам.
4 Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М., 2011. С. 23-24.
* Её то и назвали «революцией», а реставрации всегда заканчиваются имперскими амбициями -так будет потом и в наполеоновской Франции.
кально-демократического либерализма и даже религиозно-утопического социализма, требующих немедленного установления царства божия на земле «здесь и сейчас»: реализация языческого архетипа «золотого века» и христианской эсхатологии в профанной плоскости земной жизни и повседневности. Это была эгалитарная демократическая мифология, которая переносила прошлое в настоящее ради сиюминутной выгоды «здесь и сейчас» и создавала эффект доминирования настоящего над прошлым и будущим. Она парадоксально оказывалась связана как с архетипом «конъюнктурного времени» капитализма, так и с «временем традиционализма модерна», с его «бюргерскими традициями», что и доказали английские радикальные секты, вынужденные переселиться после Реставрации в Новый свет и создавшие там «чистый» североамериканский капитализм и соответствующие политико-партийные конфигурации.
В-четвёртых, профанный эсхатологизм реформационных сект соседствовал с чаяниями второго пришествия Христа и будущего царства божия на земле, превращаясь в утопические мифы социализма и индустриализма устремлённые в будущее по «<стреле времени», телеологическое моделирование будущего (как показала история, социализм и индустриализм друг другу не противоречат). Например, литературно-философские утопии Т. Мора и Ф. Бэкона были рационализациями этих «индустриальных» и «прогрес-систских» мифологий. Особенно это характерно для Ф. Бэкона, который в «Новой Атлантиде» предугадал многие будущие научные и технические открытия грядущего «нового мира». К сожалению, литературно-философские утопии, как и специфику утопического мышления, часто прочитывают только в плоскости топосной (неизведанное место, будущее социальное устройство), а не в темпоральных измерениях «грядущего нового».
После Славной революции перед английскими элитами возникла потребность как политического и экономического, так и духовного компромисса. Собственно, этому отвечало возникновение трансконфессионального дискурса и космополитичной мифологии масонства5. Современные исследователи6, преодолевая политико-идеологические и откровенно паранаучные спекуляции вокруг феномена масонства, отмечают именно такой «объединяющий» потенциал идеологии масонства. Мы склонны рассматривать масонство как специфическую эзотерическую и криптократическую мифологию, которая уходит в глубины истории культуры и опирается на многие архетипы, идеи и символы антисистемных религиозных культов и движений. В.И. Уколова писала по этому поводу: «Возникновение своего братства масоны стремились отнести к «началу времен», провозглашая иногда первым масоном самого творца или - при более «скромных» устремлениях - Адама -первого человека. Понимая всю сомнительность таких попыток «удревления» масонства, все же нельзя не видеть определенных аналогий между масонством и другими известными истории тайными сообществами религиозно-мистического и религиозно-политического толка, начиная от первобытных воинских союзов и древнейших жреческих объединений, подобных зороастрийским магам, вавилонским служителям Астарты, до пифагорейско-орфического братства или сект раннего христианства. Это, однако, не может служить свидетельством какой-либо прямой преемственности между древнейшими тайными союзами и масонством»7. Тот факт, что масонство в его историческом виде, отличном от всех предшествующих «тайных обществ» и соответствующих мифов и ритуалов, зарождается именно в бурных событиях Английской реформации и революции на рубеже ХУ1-ХУ11 веков совершенно не случайно: исследователи отмечают, что первые «масонские следы» (символы, знаки, мифологемы и псевдорационализации) мы с доста-
5 Подробнее см.: Динамика гражданского общества, этноконфессиональная толерантность и диалог культур: эпистемологические модели: коллектив. моногр. / В.П. Римский [и др.]; под ред. В.П. Римского. Белгород, 2012. С. 212-230.
6 См.: Замойский Л.П. За фасадом масонского храма: Взгляд на проблему. М., 1990; Киясов С.Е. Масонство в эпоху Просвещения (генезис, идеология, эволюция, статус): Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. д.и.н. Волгоград, 2008; Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем. - М., 1989; Парнов Е.И. Трон Люцифера. Критические очерки магии и оккультизма. 2-е изд. М., 1991; Парнов Е.И. Властители и маги: в 2 кн. М., 1996; Римский В. П. Демоны на перепутье: культурно-исторический образ тоталитаризма. Белгород, 1997; Тихомиров Л.А. Религиозно-философские основы истории. М., 2004; Уваров П.Ю. Французы XVI века: Взгляд из Латинского квартала. М.,1993; Уколова В.И. Под сенью королевской арки // Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем: Пер. с ит./ Вступ. ст. и общ. ред. В.И. Уколовой. М., 1989. С. 6-21.
7 Уколова В.И. Под сенью королевской арки // Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем: Пер. с ит./ Вступ. ст. и общ. ред. В.И. Уколовой. М., 1989. С. 10.
Серия Философия. Социология. Право. 2015. № 2 (199). Выпуск 31
точной очевидностью находим в повести Ф. Бэкона «Новая Атлантида»8. При этом оформление «систематического масонства» («великих лож») происходит после Славной революции, провозгласившей политико-идеологический компромисс всех элит и низовых народных движений после кровавых событий века. Не останавливаясь подробно на этом феномене, отметим, что мифология масонства отвечала интересам почти всех элит -старых и новых - эпохи раннего модерна.
В масонские ложи принимали не только представителей разных христианских конфессий, протестантов и католиков, но и иноверных, прежде всего иудеев, которых было много в среде торгово-финансовой олигархии и первых торгово-промышленных предпринимателей и учёных (и это распространялось не только на «выкрестов»). Совместно в масонских ритуалах могли участвовать аристократы и священники, бюргеры-купцы и зажиточные крестьяне, виги и тори, индепеденты и роялисты, деисты и атеисты, пантеисты и субъективные идеалисты, и сам этот факт подтверждает то, что здесь не следует искать некую матрицу сознательного «заговора». Всё было и сложнее, и проще в этом бурном мире раннего модерна.
Сложнее потому, что действовал не «сознательный заговор», а «криптократиче-
<-> *
ская» логика и практика всех политических и культовых смут вплоть до наших дней : то была «логика «бессознательного заговора» - сама форма сектантской «эзотеричности» и «криптократичности», типично тоталитарная форма, создавала ситуацию и логику «заговора»»9. Проще потому, что ни о каком сознательном «заговоре» вряд ли вообще можно вести речь: ведь столетием позже после возникновения масонства масон Робеспьер мог вполне «по-братски» казнить масона Дантона, затем пав также от справедливого суда «братьев-масонов»; масоны А.В. Суворов, М.И. Кутузов и молодой император Александр I вполне успешно бивали войска масона-императора Наполеона. Очень интересно было бы проанализировать ироничный образ масонства, созданный Л.Н. Толстым в романе «Война и мир» на примере атеиста Пьера Безухова, посвящённого в масоны и взыскующего «истины, премудрости и добродетели», наученный не питать «никогда злобы или вражды на брата»10. Но нас интересует сугубо ментальная сторона масонства, эффект мифологической синкретичности, на который многие исследователи до сих пор не обратили внимания.
Центральный смыслообраз масонской мифологии связан с Великим Архитектором Вселенной, который представляет деистическое перекодирование идеи Бога-творца, отстранившегося от непосредственного управления созданной им Вселенной, препоручив её князю мира, Сатане (основная масонская диспозиция «Фауста» Гёте). Здесь явно давал о себе знать не столько манихейско-гностический дуализм, лежащий в основе масонской онтологии мироздания, сколько архетип профанной, обмирщённой вечности, который мы реконструировали в первом параграфе. Основной концепт науки, философии и культуры модерна «Природа» (как и производные от него «естественный закон, «естественное состояние», «естественное право», «естественная свобода», «естественная религия», «естественный разум» и т.д.), будучи порождён в лоне пантеизма, деизма или материализма, нёс в себе смыслы и коннотации этой профанной вечности. Даже деистическое признание масонами сотворённости Великим Архитектором Природы наделяло её «вечностью», тем более это было заложено в пантеистическом или материалистическом миропонимании.
Эти смыслообразы масонской мифологии получали собственные рационализации как в различных версиях естественной истории и философии истории, так и в литературно-художественных образах. Наиболее репрезентативным вариантом естестественной истории и философии истории в масонском контексте стал трактат И.Г. Гердера «Идеи к филосо-
8 См.: Динамика гражданского общества, этноконфессиональная толерантность и диалог культур: эпистемологические модели: коллектив. моногр. / В.П. Римский [и др.]; под ред. В.П. Римского. Белгород, 2012. С. 219-222.
* Сейчас можно обнаружить множество криптократических версий интерпретации событий на Украине. Надо отдать должное современным «политологам», что они пока обошлись без стереотипов «жидо-масонского заговора», хотя о «жидобандере» Коломойском всё-таки пишут.
9 Римский В. П. Демоны на перепутье: культурно-исторический образ тоталитаризма. Белгород, 1997. С. 120.
10 См.: Л.Н. Толстой. Война и мир. Т. 2 // Собрание сочинений. В 22-х томах. Т. 5. М., 1980. С. 78-88.
фии истории человечества», в которой масон-просветитель (вступил в масонскую ложу «Zum Schwerte» в 1766 г.), не отрицая самой идеи Творца, излагает историю Вселенной и Земли как одной из планет, а также человека и человечества в качестве органического, саморазвивающегося природного процесса. Все исследователи отмечают влияние этих идей и на И.В. Гёте, которого И.Г. Гердер ввёл если не в масонское братство, то в смыслы масонской мифологии*. Несомненно одно: именно в страсбургский период под влиянием старшего товарища великий поэт и мыслитель пишет в 1974 г. первые «масонские» и «герметические» сцены «Фауста» (одновременно со «Страданиями юного Вертера»).
Здесь очевидно, что все архетипы, мифы и мифологемы масонской идеологии были своеобразным синтезом и ядром единой ментально-идеологической системы мифологии модерна, легитимировавшей индустриально-мануфактурное производство, капиталистическую экономику, правовое государство-нацию, религиозный плюрализм и толерантность. Мифология модерна и была порождена в новое время на почве индустриальной цивилизации. Можно утверждать, что классические политико-идеологические мифы и проекты - империалистический, консервативный, либерально-демократический, социалистический, масонский, - выделенные нами, принадлежали к одному культурно-историческому типу мифологии модерна.
Символические маркеры первичной идентичности модерна, связанные с темпоральными архетипами, становятся специфическими концептами, формирующими одновременно «инновации» и «традиции» в ритуалах новой культурно-цивилизационной системы. Продолжая реконструкцию и интерпретацию времени модерна, обратимся к примерам первичного самосознания «современности» в его связи с мифологией. Для конкретизации приведём некоторые эстетические факты из «конъюнктурной» истории литературы.
Именно в 70-е годы XVII столетия, когда, как мы отмечали, закрепились в европейском сознании термины и концепты «новый» и «новое время», при дворе французского короля Людовика XIV разгорелся спор между «древними» и «новыми» литераторами11. Надо отметить, что французский абсолютизм в том столетии сумел пройти между сцил-лой религиозной реформации и харибдой политической смуты Фронды, так как движение гугенотов было подавлено не только силой, но и вовремя начавшейся католической Контрреформацией. Именно Людовику XIV принадлежит приоритет в создании классического самодержавного абсолютизма, на который равнялись в то время многие монархи Европы (в том числе и русские): он не только подавил властные аппетиты феодальной и купеческо-финансовой олигархии, но и сумел приручить дворянскую и буржуазную, городскую вольницу. И хотя Король-Солнце с его властным императивом «Государство -это я!» не объявил себя императором, но мы можем в сиянии его ореола увидеть все признаки имперской мифологии в модернистском обличье, которую и формировали придворные литераторы в своих интеллектуальных спорах, за которыми не так уж и трудно увидеть вполне политические и меркантильные интересы новых элит.
«Древность» получила звучание «античности» ещё в эпоху Возрождения (antiquus в переводе с латыни и означает «древний»), так как под «античностью» тогда и стали понимать по преимуществу культуру, философию и литературу Древней Греции, исключая как таковой «древний» Восток из исторического пространства и времени, что потом скажется на многих философско-исторических схемах (надо отдать должное Гердеру, который в своей «философии истории», основанной на позитивном материале, не исключил Восток из цивилизационного времени). А.А. Генис тонко подметил, что «Ренессанс любил свою эпоху больше чужой, поэтому художники всегда наряжали древних в современные костюмы»12. Однако, даже при поверхностном знании историко-культурных фактов можно увидеть различие в отношении к «античности» Возрождения и барокко или клас-
* Есть разные сведения о приёме в масоны Гёте: по одной версии он был посвящен в ложе «Amalia aux Trois Roses» ещё в 1770 г. в Страсбурге под влиянием Гердера; по другой - 23 июня 1780 г. в веймарской ложе «Амалия»; по третьей - имеется расписка «брата» Гёте от 11 февраля 1783 г., которая связана, скорее всего, с попытками объединения нескольких лож в «Национальную ложу Германии». Подробнее см.: Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем. М., 1989. С. 269; Масонская расписка Иоганна Гете // Nosecret.com.ua. 02.10.2103 г. URL: http://nosecret.com.ua/stati-kategorii/teorii-zagovorov/item/198-masonskaya-raspiska-gete.
11 См.: Спор о Древних и Новых. М., 1985.
12 Генис А.А. Вавилонская башня: искусство настоящего времени. Эссе. М., 1997. С. 53.
Серия Философия. Социология. Право. 2015. № 2 (199). Выпуск 31
сицизма как основных стилей XVII века. Век королей и джентльменов, свободного времени утончённого досуга и бесшабашных карнавалов делал всё наоборот (революция?): он наряжал «новых» в древние костюмы, греческие туники и римские тоги, не забывая водрузить на короля императорский «венец» (лавровый венок победителя)*.
В окружении Людовика XIV «древние» - это уже собственно не те «античные» авторы от Гомера и греческих трагиков до Вергилия и Овидия, а так называемые «классицисты», т.е. «современные» литераторы в ореоле «античности», для которых древнегреческое и древнеримское искусство стало образцом собственного творчества (dassicus в переводе с латинского языка и означает «образцовый» и «нормативный»)13. Это были представители нового стиля классицизма - Н. Буало, П. Корнель, Ж. Рассин, Ж. Лафон-тен, Ф. Лабрюйер, - которые внешним образом, в рамках литературного канона формально подражали древнегреческим «образцам», хотя содержательно создавали иные, новые образы и экзистенциальные смыслы. Их творчество прямо испытало на себе влияние не только поэтики Аристотеля или Горация, но и нормативной философии Р. Декарта (его рационалистический догматизм как-то ускользает в свете преувеличенного значения его «когитальности» кантианцами и феноменологами), поэтому в их драмах, комедиях, баснях и максимах мы находим тот культ «природы» и «разума», разрыв «личного» и «общественного», «страсти» и «долга», интерес исключительно к «сознанию», преобладание логизированной, дискурсивной риторики над действием, что уже само по себе свидетельствует об их «нововременной» культурной принадлежности. И если говорить об их «следовании традиции», то только в том плане, что они создают собственную традицию модерна, не просто воспроизводят античные формы - эта подражательность, как мы отметили, была характерно для литературы, философии и культуры эпохи Возрождения. Потому их правильнее называть «новыми древними».
Вот им и противостояли собственно «новые», первые модернисты: Ш. Перро и Б. Фонтенель, как главные идеологи «новых», выступили с критикой «античности» и апологией «современности» - эпохи Людовика XIV. Критика «древних» и «античности» ими велась с позиций «прогресса» в науке и технике, «новые» обосновались в «Академии надписей и изящной словесности» (1663), что совпало с началом институализации духовного производства и его внутренней специализации, «разделения труда» по различным видам интеллектуальной работы, связанных с многочисленными «академиями»*: онаучивание новоевропейской философии, разделение науки и философии на «дисциплины», а искусства на «жанры» происходило по образцу мануфактур.
Однако, и «древние», и «новые» внесли свой «творческий вклад» в создание французской национальной литературы и культуры модерна. Если «новые» реализовали литературную обработку жанра народного бурлеска и закрепилив моду на оригинальные жанры салонного романа и оперы на французском языке (и в этом они - плоть от плоти культуры барокко), то древние, опираясь на нормы классицизма, создали новую национальную трагедию и комедию (П. Корнель, Ж. Рассин, Мольер - он же Ж.-Б. Поклен). Однако, можно назвать и такие жанры и авторов (галантно-героический роман Ж. де Скюдери и М. де Скюдери, бытовые и сатирические романы А. Фюретьера, Ш. Сореля, П. Скаррона), которые не вмещались ни в каноны классицистов, ни в инновации «новых», а были именно барочным смешением древних образцов и новых стилей и жанров. Случайно ли, что некоторые современные «постмодернисты» идентифицируют себя как «необарокко»? Вся эта новая, творческая эклектика причудливо преломилась в эпоху Просвещения и романтизма, обеспечив небывалый подъём искусства и литературы модерна именно в XVIII веке.
* Римские тоги и императорские венцы будут примерять во всех революциях и контрреволюциях, как и возвращаться от революционного романтизма к классицизму в литературе, искусстве и градостроительстве: американские отцы-основатели и якобинцы, большевики и итальянские фашисты... 13 См.: Сигал Н.А. Классицизм // Краткая литературная энциклопедия. Т. 3. И-Л. М., 1966.
13 См.: Сигал Н.А. Классицизм // Краткая литературная энциклопедия. Т. 3. И-Л. М., 1966.
с. 585-590.
* Университеты до поры до времени оставались своеобразными схоластическими ремесленными мастерскими, которым противостояли «академии», превращавшие духовное производство модерна в подобие «интеллектуальной мануфактуры».
С. 585-590.
Таким образом, мы видим, что и «древние», и «новые» представляли собой всё тех же «нововременных». Б. Латур пишет об этом феномене: «Когда появляются слова «нововременной», «модернизация», «модерн», то мы определяем прошлое, архаичное и устойчивое по контрасту с ними. Более того, это слово всегда произносится в ходе полемики, в ссоре, где существуют выигравшие и проигравшие, «Древние» и «Новые» (Modemes). Слово «нововременные» оказывается дважды асимметричным: оно обозначает разлом, образовавшийся в обычном движении времени (выделено нами - авт.); оно обозначает битву, в которой есть победители и побежденные. И если столько людей, живущих в настоящий момент, с сомнением используют это прилагательное, если мы сегодня уточняем его с помощью приставок «до- », «анти-» или «пост-», то происходит это потому, что мы чувствуем себя не столь уверенными в своей способности поддерживать эту двойную асимметрию: мы больше не можем ни указать направление необратимого движения времени, ни присудить награду победителям. В бесчисленных столкновениях Древних и Новых первые оказываются победителями столько же раз, сколько и последние, и ничто не позволяет нам сказать наверняка, подводят ли революции черту под старыми режимами или являются их окончательным воплощением»14. Очевидно, что ни «новые», ни «древние» не были «проигравшими» - выигрывали все.
Просвещение в критике предшествующей культуры барокко и классицизма впервые синтезировало целостную мифологию Нового времени с её конструированием и воспроизводством веера мифологических дипластий и рационализированных ментальных оппозиций. Обвинения просветителей в провоцировании фашизма и тоталитарной мифологии раздавались ещё в двадцатые годы XX века, что подвигло Т. Манна в романе «Волшебная гора» (1924 г.) развить художественную апологию Просвещения в ироничном образе убеждённого либерального прогрессиста Лодовико Сеттембрини, сына итальянского карбонария, масона и гуманиста. В тридцатые годы Э. Кассирер, развивая собственную концепцию политической мифологии в увязке с тоталитаризмом, пытался спасти и просветительскую философию от односторонних интерпретаций и примитивной критики15. О мифологическом потенциале Просвещения в разгар Второй мировой войны и неоднократно после её окончания высказывались Т.В. Адорно и М. Хоркхаймер. Они, одновременно и критикуя мифологическое двуличие Просвещения и защищая его рационализм, писали, что «уже миф есть Просвещение, и: Просвещение превращается, обратным ходом, в мифологию», но «причину регресса Просвещения в мифологию следует искать не столько в специально придуманных с целью регресса националистических, языческих и прочих современных мифологиях, сколько в самом парализованном страхом перед истиной Просвещении»16. Страх перед истиной, наверное, присущ человеку во все времена, как и его тяготение к мифологизации и рационализации собственных страхов и надежд.
Мы исходим из того, что эпоха Просвещения, темпоральное самосознание которой не совсем правомерно рассматривать лишь как прогрессистскую «стрелу времени», направленную от прошлого через текущее, переменчивое настоящее в дурную бесконечность будущего*, впервые и воспроизвела не только всё многообразие нововременных оппозиций, архетипов и мифологем, но и их будущие трансформации в радикальные формы тоталитарной мифологии, как и в гибкие, усыпляющие мифы массового общества позднего модерна и культуры постмодерна.
Сам концепт «просвещение» имел эзотерическую масонскую природу и лишь на поверхности производил смыслы «рациональности», «свободы», «равенства» и «братства»17. Смущает нас в характеристике Просвещения и отнесение всех французских философов - Вольтера и Дидро, Монтескье и Руссо, Гольбаха и Даламбера - к одному типологическому ряду. Сложную природу просветительской философии и философского мыш-
14 Латур Б. Нового времени не было: эссе по симметричной антропологии. СПб., 2006. С. 70-71.
15 См.: Кассирер Э. Философия Просвещения. 2-е изд. М., СПб., 2013.
16 Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М.-СПб., 1997. С.13,11.
* Действительно, это «время индустриализма» было рациональным продуктом духовного производства первого поколения западных интеллектуалов-просветителей, но оно носило первоначально ограниченный, субкультурный характер.
17 См.: Римский В.П. Демоны на перепутье: культурно-исторический образ тоталитаризма. Белгород, 1997. С. 156.
Серия Философия. Социология. Право. 2015. № 2 (199). Выпуск 31
ления Просвещения вне историко-философских стереотипов реконструирует на примере Дидро и Гольбаха итальянский автор Джузеппе Рикуперати: «Обращаясь к Дидро и Гольбаху, представлявшим, скорее, радикальную фазу зрелого Просвещения, чем его «особое течение», можно заметить, что они не остановились ни на стадии критическо-деструктивного отрицания, ни на стадии конструктивной натурфилософии, грозившей заключить зарождающегося мыслящего человека в рамки жесткого детерминизма... Дидро, по своей природе менее склонный к следованию какой-либо системе, пошел иным путем. Его кипучий материализм вырвался из плена детерминистской логики: как мыслящий человек и как философ он понял, что существует огромный потенциал творчества, связанный с эстетикой, с областью чувств, с освобождающей, а не сковывающей человека этикой, и что этот потенциал не тождествен действенному разуму. Таким образом, облик философа усложнялся и становился все более бунтарским. Он устанавливал новые связи с прошлым и с будущим»18. Здесь Дидро оказывался близок не только зарождавшемуся романтизму, но и немецкой философской диалектике.
Аналогичную сложность представляет и фигура Ж.-Ж. Руссо. Разве Руссо, повлиявший на самого великого немецкого просветителя И. Канта19, не был первым «романтиком» и «антимодернистом» с его идеей «нравственного регресса» и обожествлением «первобытной стадии» в истории человечества, будучи одновременно плоть от плоти Просвещения? Да и сами романтики уже не вмещались в некие схемы «древние - новые», «классика - новое». Мы ранее отмечали, что новая мифология показала свою двойственность - рационализм и иррационализм, созидательно-объединительный и разрушительный потенциал в управлении обществом - уже в эпоху Французской революции. Та концепция линейного поступательного прогресса «цивилизации», которую выработали просветители в борьбе с христианско-католической теологией, в реальной жизни обнаружила тенденцию замыкания в круг по образцу культурологической доктрины Ви-ко - Европа столкнулась с «живым мифом», с новым мифотворчеством. Разум Просвещения под знаменем которого буржуазия вступила в эпоху Великой Французской революции, вдруг обернулся, как двуликий Янус, иррациональным движением стихии народных масс и якобинской диктатурой, религией Разума и обожествлением императора Наполеона. Европа столкнулась с новым мифотворчеством на почве капиталистического фетишистского сознания. На стыке рационализма Просвещения и политического мифотворчества родился европейские романтизм, попытка которого утвердить нового Прометея в человеческой культуре, в конце концов, закончилась ницшеанским Сверхчеловеком20. Очень интересную интерпретацию романтизма в этом плане дал А.В. Михайлов. Приведём наиболее существенные идеи философии романтизма, связанные с темпоральной картиной мира модерна.
Романтики в своей эстетической, литературной и философской мифологии* воспроизводят как онтологическую профанную вечность (время очень большой длительности Броделя), так и темпоральную цикличность традиционализма. Критикуя просветителей и революцию, романтики сами находятся в плену «диалектики Просвещения»: «Таким образом, мысль романтика становится полем, на котором противоречиво сосуществуют старое и новое: с одной стороны, громадная традиция культурной истории, идеал как вневременной полюс бытия, с другой стороны, самый свежий опыт истории и непосредственное переживание происходящего. В распоряжении романтического мыслителя нет таких средств - таких представлений, понятий, - которые могли бы преодолеть зазор между идеалом и действительностью, между опытом творимой людьми истории и надыс-
18 Рикуперати Дж. Человек Просвещения // Мир Просвещения. Исторический словарь. М.: Памятники исторической мысли, 2003. С. 19.
19 Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение? // Кант И. Собрание сочинений в восьми томах. Том 8. Статьи. Лекции. Избранные письма. Из рукописного наследия. М., 1994. С. 29-37.
20 См.: Римский В.П. Проблема соотношения мифа и религии: методологический анализ. Дисс... к. филос. наук. Ростов н/ Д., 1985. 26-27; Римский В.П. Миф и религия: проблема генезиса и культурно-исторической специфики архаических религий. Белгород, 2003. С. 28; Динамика гражданского общества, этноконфессиональная толерантность и диалог культур: эпистемологические модели: коллектив. моногр. / В.П. Римский [и др.]; под ред. В.П. Римского. Белгород, 2012. С. 171.
* Сами романтики достаточно критично относились к попыткам мифологизации современности. Так, А. Шлегель писал: «Имевшая место недавно во Франции безумная попытка вдруг создать новую республиканскую мифологию обречена была на неудачу из-за насильственных действий зачинщиков этой попытки (мифология может возникнуть только путем естественного и длительного развития)». См.: Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. С. 126.
торической сферой идеальности, между традиционным языком искусства, который в своей сущности воспринимается как залог осмысленности, как сфера вечного, хотя и развивающегося смысла, и окружающей действительностью в ее конкретности и непосредственности. Обобщенный образ истории возносит романтика над его временем, которое он чутко переживает. Идеи цикличности бытия, времена года, мифы о Небе и Земле, о творении мира из первозданных стихий могут становиться такими формами, в которых романтик - философ или поэт - передает свое очень четкое и весьма обобщенное представление о человеческом существовании: постоянство вечного - в союзе с конкретностью переживания»21.
А.В. Михайлов пишет о философской и эстетической реакции романтиков на Французскую революцию и Просвещение, в которой они занимают сложную политическую и культурную позицию, являясь одновременно и политическим контрмодерном (антипросвещением), и своеобразным модернизмом. «Романтические мыслители критикуют реальную революцию за тот совершающийся в ней разрыв идеального и реального, который сами же воспроизводят в своем сознании умозрительно, - отмечает он. - Поэтому, пока романтический мыслитель находится в плену своего основного противоречия, он выступает как своего рода реакционер. Новое вызывает в нем реакцию возвращения к старому, но, что крайне существенно, к старому в его обобщенном виде. Это - старое, но только озаренное светом нового! Это - не эмпирическое бытие былых эпох, а идеальная сущность всего накопленного человечеством; если можно так сказать, это - вечность как культурное достояние человечества, культура как форма бытия вечного. Все шедевры художественного творчества, равно как язык и миф, выступают как форма бытия вечного - первозданного, истинного. Старина влечет романтика не как «старый режим», но именно как пребывание изначально-истинного... Романтик выступает как своего рода реакционер - именно своего рода: он, безусловно, не ретроград, но человек, вынужденный возводить все новое к обобщенной старине - возвращать новое в лоно идеализированного старого. Весь романтизм - в движении к новому, в переходе, в динамике, которая осмысляется как разрушение и восстановление, как разрушение и строительство. Романтизм творит все новые и новые комбинации идей; не просто отстаивая новое, но и противодействуя ему, он вбирает новое в свой напряженный синтез»22. Романтизм в этой своей парадоксальной диалектике, наверное, порой оборачивался ещё более радикальным проектом культурного модерна, чем критикуемое ими Просвещение. Не поэтому ли Наполеон даже в египетском походе зачитывался «Вертером» Гёте, фактически романтической повестью?
Б. Латур, анализируя эту «диалектику модерна», впервые явленную в Просвещении, высказался о наличии в самом цивилизационном основании Нового времени глубинных культурных и ментальных оппозиций и разломов, составлявших, по его образному выражению, «Конституцию Нового времени», «деление мира надвое» как «сущностное, онтологическое различие»23. С этим и связана его парадоксальная идея о том, что «Нового Времени не было». Но сам парадоксализм его «социологии модерна» говорит о том, что и он не преодолел искушений модерна (возможно ли это для нас, пойманных в темпоральную ловушку «нового времени»?), как и те «модернизирующие философии», которые он критикует. Однако, некоторые его положения мы готовы принять. С оговорками.
Б. Латур пишет о тех дихотомиях, которые порождают Новое время, а оно в свою очередь воспроизводит их: «природа транцендентна по отношению к человеку и обществу» / «природа искусственная конструкция человека и общества»; «общество транцен-дентно по отношению к человеку» / «общество нами искусственно конструируется»; «Бог транцендентен по отношению к миру и человеку» / «Бог имманентен по отношению к миру и человеку»24. И делает вывод: «Такова тройная трансцендентность и тройная имманентность этой крестообразной схемы, блокирующей все остальные возможности. Мы не создали природу; мы создаем общество; мы создаем природу; мы не создали общество; мы не создали ни то ни другое, Бог все создал; Бог ничего не создал, мы все создали»25. Эту ментальную парадоксальную конструкцию он и называет Конституцией Нового Вре-
21 Михайлов А.В. Эстетические идеи немецкого романтизма // Эстетика немецких романтиков. М., 1986. С.9.
22 Там же, с. 9, 10, 43.
23 Латур Б. Нового времени не было: эссе по симметричной антропологии. СПб., 2006. С. 74.
24 См.: Там же, с. 94-99.
25 Там же, с. 100.
Серия Философия. Социология. Право. 2015. № 2 (199). Выпуск 31
мени. Мы думаем, что если и говорить о «Конституции модерна», то она, как и сама идея конституционализма, была впервые манифестирована в идеологии Просвещения, наследнице не только декартовского догматического рационализма и классического феноменологического когито, но и локковского сенсуализма, и материализма Гоббса, и пантеизма Спинозы, и монадологии Лейбница26, и эстетического спора «древних» и «новых» времени абсолютизма Людовика XIV.
Но есть ли нечто среднее, что снимает все эти оппозиции и дихотомии, вопрошает Б. Латур? Да, есть. Это «гибриды» (вспомним «гермафродиты» М.К. Петрова) - продукты человеческой деятельности, в которых снята основная оппозиция модерна, оппозиция «природа - культура» (вариант «природа - цивилизация»), которая впервые была воспроизведена с различными оценочными коннотациями в эпоху Просвещения и воспроизведена в качестве «универсальной» уже применительно к «первобытности» в структурной антропологии К. Леви-Строса, модернизировавшего архаичное мифомышление. Б. Латур утверждает, что эти оппозиции снимаются в «гибридах» как в традиционных обществах, так и в обществе модерна: «На практике они располагаются в старой антропологической матрице, разделяют компетенции людей и вещей и все же не создают границы между чистой социальной силой и чистым природных механизмом»27. Но у нас возникают замечания и вопросы: насколько правомерно умножать без нужды концепты? Не являются ли латуровские «гибриды» и «нечеловеки», как и операции «смешения» и «очищения», просто новыми терминологическими замещениями марксисткой и неомарксистской концепции отчуждения и «опредмечивания - распредмечивания» продуктов человеческой деятельности? То, что он говорит о смешении-гибридизации и очищении-критике (аналитике), очень напоминает марксистскую и неомарксистскую теорию опредмечивания: человек опредмечивает себя в продуктах собственной деятельности, труда и практики, создавая новые предметы - материальные (для потребления и производства) и идеальные (семиотические), которые в определённых социальых условиях (господства и подчинения, неравенства и владения) становятся отчуждёнными и независимыми от самого человека и общества; начинают господствовать над ним также, как и сами люди и коллективы (сообщества) господствуют друг над другом. Тогда что тут новое?
Новое то, что мы упустили из виду: мы забываем, что человек очеловечивает и сами «предметы», материальные, идеальные и семиотические, преобразуя природу и общество. Человек, создавая Вторую Природу как Культуру, искуссственную природу и среду (Цивилизация) наделяет её своими же способстностями и свойствами, в том числе и «нехорошими» и негуманными. Вторая природа - этот великий «гибрид» как техника и власть, искусство и наука-знание - становится способной «говорить» и «думать» сама по себе, обладает собственной логикой (рациональностью) и нелогичностью (иррациональностью); желает, требует, удовлетворяет и исполняет свои потребности наподобие скатерти-самобранки; повелевает и господствует; освобождает и угнетает; играет силой и насилует; продлевает жизнь и убивает...
Не является ли Б. Латур - критик постмодернизма - в своём умножении концептов сам постмодернистом? А всё новое опять оборачивается хорошо забытым старым? Это так характерно для культуры, времени и мифологии Нового времени. Когда он замечает, что «постмодернизм - симптом, а не свежее решение»28, мы с ним вполне солидарны. Но мы не согласны с ним, когда он пишет: «Нововременной мир в потенции является тотальным и необратимым изобретением, которое порывает с прошлым так же, как Французская революция или революция большевиков в потенции принимает роды нового мира. Рассматриваемый «в сетях» нововременной мир, так же как и революции, допускает только пролонгирование практик, ускорение циркуляции знаний, расширение обществ, рост числа актантов, многочисленные уточнения прежних воззрений. Когда мы рассматриваем их «в сети», инновации Запада продолжают оставаться признаваемыми и значимыми, но больше уже не из чего творить всю эту историю - историю радикального разрыва, историю нашей неизбежной судьбы, необратимого счастья или несчастья»29.
26 В своё время Э. Кассирер одним из первых попытался показать всю сложность дискурса Просвещения как «эры философии». См.: Кассирер Э. Философия Просвещения. 2-е изд. М., СПб., 2013.
27 Там же, с. 95.
28 Латур Б. Нового времени не было: эссе по симметричной антропологии. СПб., 2006. С. 114.
29 Там же, с. 116.
Модерн, в конечном счёте, не был «радикальным разрывом», хотя и воспроизводил его и в практиках, и в мифологии, и в темпоральности, так как постоянно стремился этот разрыв снять. И не только «теоретически», но и «практически». Но как же происходило это «снятие»?
Новая эпоха использовала теперь не столько мифологические образы и символы в чистом виде, сколько их превращенные, рационально-понятийные, псевдонаучные формы... Современная мифология начинает функционировать в виде нарративного дискурса и наррадигмальнъх «<мыслеобразов», которые ранее принадлежали другим культурным формам (философии, искусству, религии), а теперь, переплавленные в горниле массовой культуры, обрели свою мифологическую образную и знаково-символическую телесность. Нарративность и «наррадигмальность современного мифа - какой-то кентавр, сплав рационального и образного, рационального и иррационального, естественного и сверхъестественного, научного и паранаучного, обыденного и праздничного, и т.п.30. Мы в своё время ввели понятия «наррадигма» и «наррадигмальность». Но насколько оправдано их употребление, как и латуровских «гибридов»?
Эти термины предложил ростовский исторический психолог и культуролог В.А. Шкуратов для характеристики стилей мышления на стыке формально-логического и художественного дискурсов, домодернистских форм знания («искусств» в отличие от «науки»): «С помощью слова «наррадигма» я пытаюсь определить тип мышления, который скрывается между художественным выражением, окутанным образами, и сциентистской речью, пропадающей в формализмах. Наррадигма дает образец превращения грамматической структуры в мыслеобраз. Концептуальная мысль внедрена в этой сердцевине языка своей понятийностью, чуть-чуть недоформализованной»31. Таким образом, «наррадигма» - это «мыслеобраз», характерный, например, и для древнегреческого дискурса, о чём писала ещё О.М. Фрейденберг32, реконструируя переход от мифологической образности к философско-понятийному мышлению.
С.С. Аверинцев характеризовал подобный тип мышления и познания как риторико-логическую рациональность33, которая заканчивается с уходом эпохи Просвещения XVIII века. С последним вряд ли можно согласиться, так как даже в XX веке, веке «научно-технической революции», мы наблюдаем в философии и социально-гуманитарных науках «неориторический поворот», о чём пишут С.С. Неретина и А.П. Огурцов34. С.С. Неретина и А.П. Огурцов связывали специфику подобного рода «мыслеобразности», «наррадигмальности» и «логико-риторического рационализма» с таким извечно присущим человеку ментальным формообразованием как «концепт», отличающимся от понятийного, рационально-логического мышления ещё в средневековой богословско-философской традиции, как образно-смысловой и метафорический. Они отмечали, что концепт не является «открытием» постструктуралистов, и даже Кант в своей дискурсив-но-рационалистической философии разводит «понятие» и «концепт»35. Концепт и становится доминирующим в мифологическом дискурсе модерна, поэтому нет нужды изобретать новые термины и понятия, если именно «концепт» и есть «наррадигмальность», специфический «смыслообраз», «образо-понятие», «понятие-метафора» - извечная форма реального человеческого сознания и мышления, разрываемая только в дискурсе нововременных рационализаций, критической аналитики или в феноменологических экспериментах на «рациональное» («логическое», «рассудочное», «разумное» и т.п.) и «чувственное» («эмоциональное», «образное», «интуитивное» и т.п.).
Можно отметить, что мы вряд ли исчерпаем все оппозиции модерна, которые выделил Б. Латур: «природа - культура»; «природа транцендентная - природа сконструи-
30 См.: Римская О.Н. Римский В.П. Современное мифосознание и субкультурные религии // Научные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». №8 (128). Вып. 20. Белгород, 2012. С. 70, 71.
31 Шкуратов В.А. Историческая психология. М., 1997. С. 174, 175.
32 См.: Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. 2-е изд., испр. и доп. М., 1998.
33 См.: Аверинцев С.С. Два рождения европейского рационализма // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 67-79; Аверинцев, С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции / С.С. Аверинцев. М., 1996.
34 См.: Неретина С.С., Огурцов А.П. Концепты политической культуры. М., 2011. С. 162-197. Но избежало ли естествознание риторичности, всегда ли оно придерживалось «математической строгости» и «объективности»?
35 См.: Там же, с. 176.
Серия Философия. Социология. Право. 2015. № 2 (199). Выпуск 31
рованная»; «природа - Бог»; «природа - человек»; и т.д. Сюда относятся и классические «субъект - объект», «чувственное - рациональное», «рационализм - иррационализм», «логика - интуиция», «классика - неклассика», «просвещение - романтизм», «модерн просвещения - антимодерн романтизма», «просвещение Канта - антипросвещение Гегеля», «домодерн - модерн», «модерн - постмодерн», и т.д.
Все эти дихотомии и оппозиции по принципу мануфактурного разделения труда институционально закрепляются в духовном производстве модерна за разными видами интеллектуальной деятельности: рациональное и «очищение» объекта от субъекта входит в компетенцию «науки», естествознания (к чему стремится поначалу и «классическая философия» - и просветительская, и немецкая, а затем в XIX веке социально-гуманитарные науки); чувственное, иррациональное и созерцательное (интуитивное) закрепляются за художественное литературой и искусством; рассудок и прагматическое це-леполагание отходят в сферу обыденности и повседневности. Такой разрыв сознания модерна не мог не порождать его болезненные проявления в виде одностороннего, сухого рационализма философии, науки и техники, или столь же одностороннего иррационального безумия, практикуемого в повседневности, в литературе и искусстве. В концептах формализованные понятия (значения) отрывались от образов (смыслов); язык отрывался от мышления и формализовался в искусственных «языках» науки; «языки» отрывались от «вещей»; «означающее» - от «означаемого»; и всё это разорванное многообразие формализованных дихотомий закреплялось за разными интеллектуальными практиками и культурными сферами. Эти оппозиции и дихотомии раздирали концепты как смысло-образы реального, живого человеческого мышления и сознания, которое модерн и попытался, как показал М. Фуко36, запихнуть в нормативность смирительной рубашки психиатрических лечебниц и мифологии психоанализа, в образцовое поведение учеников общеобразовательных школ, в дисциплинарные уставы казармы и хронометраж труда на фабриках и заводах капиталистического индустриализма. Но культурные и ментальные оппозиции и дихотомии, как и отчуждённое бытие человека нашего времени модерна, при этом оставались некими несовместимыми формализмами логической шизофрении цивилизации модерна.
Как они могли эффективно сниматься? Каков ментальный механизм возможного их преодоления?
Имеет смысл обратиться к исследованиям по исторической психологии. Б.Ф. Поршнев для характеристики палеопсихологии ввёл понятие «дипластии», которое оказывается более релевантным для характеристики глубинных структур человеческого сознания и, прежде всего, мифомышления. Он писал: «Универсальная операция, с одной стороны, высшей нервной деятельности животных, с другой - формальной логики человека - дихотомия, т.е. деление на «то» и «не то», иначе, на «да» и «нет». Однако в эволюции между тем и другим, несмотря на всё их сходство, лежит уровень операций, которые не являются дихотомией и обратны ей: дипластия. Принцип последней тоже бинарный (двоичный), но это не бинарные деления, а бинарные сочетания... Создание дипла-стий - сублогика, преодоление дипластий - формальная логика. Преодоление дипластий можно определить так же, как десабсурдизацию абсурда»37. Именно миф преобразует и снимает несовместимые формальные дихотомии в ментальных дипластиях.
Применительно к ментальности модерна можно проследить следующую цепочку: религиозно-мифологический традиционализм домодернистского сознания разрывается на формально-логические дихотомии по закону исключенного третьего (или - или); сам этот разрыв и порождает тотальный формально-логический абсурд человеческой жизни в модерне, в которой оказываются рядоположенными и рациональное, и иррациональное; затем происходит вторичная мифологизация, и формально-логические дихотомии оказываются снятыми в дипластиях (концептах) современной мифологии. Просветительская мифология только воспроизводила эти формально-логические схематизмы живого человеческого мышления в «конституции модерна», что и зафиксировал Кант в антино-
36 См.: Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996; Фуко М. История безумия в классическую эпоху. М., 2010; Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999; Фуко М. Психиатрическая власть: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1973-1974 учебном год. СПб., 2007; Фуко М. Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978-1979 учеб. году. СПб., 2010; Фуко М. Рождение клиники. М., 2010.
37 Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. М., 1974. С. 470.
миях «чистого разума», т.е. естествознания. Гегель пытался их преодолеть в «диалектическом разуме», но его триада «тезис - антитезис - синтез» оставалась в пределах дихотомий, так как «синтез» не давал искомой целостности, вынуждая или остановить процесс мышления (постмодерн), или воспроизводить новые оппозиции.
И только романтики и Гёте стали первыми «неклассиками», пытаясь преодолеть эти дихотомии и соединить в творчестве дипластий литературного мифа в философской прозе и поэзии, в создании первых интуиций «философии жизни» и постньютоновской натурфилософии. Это и была истинная мифология модерна, обладающая собственной спецификой воспроизводства и снятия оппозиций в воспроизводстве темпоральных моделей. Здесь возникали уже даже не дипластии, а трипластии: «Для этого дипластия должна слиться с другой. Ведь возможна встреча двух дипластий, у которых один из двух элементов общий. Образуется трёхэлементная цепочка. Её можно изобразить так же, как треугольник. Назовём её трипластией»38. Временная трипластия «прошлое - настоящее - будущее», преобразованная в многообразии темпоральных моделей модерна (модель семантически связана и с модой, и с модерном-новизной), преодолевала абсурд человеческой жизни в ситуации капиталистического индустриализма гораздо эффективнее, чем гегелевская триада или кантовское «синтетическое суждение». Снимали выявленные Б. Латуром оппозиции не «гибриды», эти нововременные трикстеры, а именно темпоральные смыслообразы (концепты) новой мифологии, репрезентированные в литературе и искусстве.
Всё это говорит о том, что вряд ли уместно говорить о том, что «романтизм», например, является антиподом «просвещения», появляясь как реакция на его идеологию и Французскую революцию; что немецкий идеализм был выше, позже и «развитее» философии просвещения в качестве «классического»; что иррационализм Шопенгауэра или Ницше появился в качестве «неклассики» позже «немецкой классической философии» и был её «критикой». Не только с точки зрения Бога и профанной вечности модерна это было всё одновременно, но и с соизмерения временем коротким, конъюнктурным. Наука, философия, искусство и литература «нашего времени» оказываются до сих пор ангажированными и подозреваются нами в концептуальных (концептных) инвестициях в смыслообразы мифологии модерна, вплоть до её постмодернистских и масскультовых ипостасей.
«Модерну» Просвещения, включая кантовскую философию, изначально противостоял не только революционный «антимодерн» романтизма, но и консервативный «контрмодерн» гегелевской философии, и «немодерн» бюргеровского традиционализма и повседневности: все эти оппозиции становились мифологемами и рационализациями, воспроизводились как собственное культурное богатство и самовозрастающий культурный капитал «Нового времени».
1. Аверинцев С.С. Два рождения европейского рационализма // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 67-79.
2. Аверинцев, С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции / С.С. Аверинцев. М., 1996.
3. Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М., 2011. С. 23-24.
4. Белоненко Е.О. Бережная М.П., Римская О.Н. Вечный уход и вечное возвращение: ницшеанская «воля к жизни» и хайдеггеровская «воля к смерти» // Научные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». №16 (187). Вып. 29. Белгород, 2014. С. 197-204.
5. Белоненко Е.О. Образы и парадигмы времени в философии и культуре модерна // Научные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». 22 (193). Вып. 30. Белгород, 2014. С. 147-153.
6. Генис А.А. Вавилонская башня: искусство настоящего времени. Эссе. М., 1997.
7. Динамика гражданского общества, этноконфессиональная толерантность и диалог культур: эпистемологические модели: коллектив. моногр. / В.П. Римский [и др.]; под ред. В.П. Римского. Белгород, 2012.
8. Егоршева О.И. Культурно-цивилизационная специфика современной мифологии. Дисс. ... к. филос. н. / 24.00.01. Белгород, 2002.
9. Замойский Л.П. За фасадом масонского храма: Взгляд на проблему. М., 1990.
38 Там же, с. 473.
Список литературы
НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ рИ Серия филосоФия- Социология. Право.
IЩ ' 2015. № 2 (199). Выпуск 31
10. Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение? // Кант И. Собрание сочинений в восьми томах. Том 8. Статьи. Лекции. Избранные письма. Из рукописного наследия. М., 1994. С. 29-37.
11. Кассирер Э. Философия Просвещения. 2-е изд. М., СПб., 2013.
12. Киясов С.Е. Масонство в эпоху Просвещения (генезис, идеология, эволюция, статус): Автореферат дисс. на соиск. уч. ст.
13. д.и.н. Волгоград, 2008.
14. Латур Б. Нового времени не было: эссе по симметричной антропологии. СПб., 2006.
15. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
16. Масонская расписка Иоганна Гете // Nosecret.com.ua. 02.10.2103 г. URL: http://nosecret.com.ua/stati-kategorii/ teorii-zagovorov/item/198-masonskaya-raspiska-gete.
17. Михайлов А.В. Эстетические идеи немецкого романтизма // Эстетика немецких романтиков. М., 1986.
18. Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем: Пер. с ит./ Вступ. ст. и общ. ред. В.И. Уколовой. М., 1989.
19. Неретина С.С., Огурцов А.П. Концепты политической культуры. М., 2011.
20. Парнов Е.И. Трон Люцифера. Критические очерки магии и оккультизма. 2-е изд. М., 1991.
21. Парнов Е.И. Властители и маги: в 2 кн. М., 1996.
22. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. М., 1974.
23. Рикуперати Дж. Человек Просвещения // Мир Просвещения. Исторический словарь. М.: Памятники исторической мысли, 2003.
24. Римская О.Н. Римский В.П. Современное мифосознание и субкультурные религии // Научные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». № 8 (127). Вып. 20. Белгород, 2012. С. 67-74.
25. Римский В. П. Демоны на перепутье: культурно-исторический образ тоталитаризма. Белгород, 1997.
26. Римский В.П. Миф и религия: проблема генезиса и культурно-исторической специфики архаических религий. Белгород, 2003.
27. Римский В.П. Проблема соотношения мифа и религии: методологический анализ. Дисс... к. филос. наук. Ростов н/ Д., 1985.
28. Римский В.П. Тоталитарный Космос и человек. Белгород, 1998.
29. Белоненко Е.О., Римский В.П. Капитализация времени в цивилизации модерна // Наука. Искусство. Культура. Научный рецензируемый журнал БГИИК. Белгород, 2015. №1 (5).
30. Сигал Н.А. Классицизм // Краткая литературная энциклопедия. Т. 3. И-Л. М., 1966. С. 585-590.
31. Спор о Древних и Новых. М., 1985.
32. Тихомиров Л.А. Религиозно-философские основы истории. М., 2004.
33. Толстой Л.Н. Война и мир. Т. 2 // Собрание сочинений. В 22-х томах. Т. 5. М., 1980.
34. Уваров П.Ю. Французы XVI века: Взгляд из Латинского квартала. М.,1993; Уколова В.И. Под сенью королевской арки //
35. Уколова В.И. Под сенью королевской арки // Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем: Пер. с ит./ Вступ. ст. и общ. ред. В.И. Уколовой. М., 1989. С. 10.
36. С. 70-71.
37. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. 2-е изд., испр. и доп. М., 1998.
38. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996.
39. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. М., 2010; Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999.
40. Фуко М. Психиатрическая власть: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 19731974 учебном год. СПб., 2007.
41. Фуко М. Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 19781979 учеб. году. СПб., 2010.
42. Фуко М. Рождение клиники. М., 2010.
43. Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М.-СПб., 1997. С.13, 11.
44. Шкуратов В.А. Историческая психология. М., 1997. С. 174, 175.
НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ СеРия Философия. Социология. Право.
ЩШ 2015. № 2 (199). Выпуск 31
TIME IN MODERN IDENTITY
The article discusses how identity modernism gave rise to reflection in science, philosophy and art, occurred at the level of ideology and policy that was associated with the emergence of such a phenomenon as modern (social and political) mythology, the occurrence of which "had a hand" and philosophers (romance and Schelling about it directly stated), and writers (not only classical poets and writers, many writers-journalists J.-F. Lyo-tard, or "the main myths of modernity", as the authors interpret them, and "small narratives of everyday life modern" associated with the production of the paradigms and concepts of time in culture and philosophy, which creates still the multiplicity of modern times as a cultural project.
Keywords: civilization, modern, postmodern, modern mythology, archetypes time, the Enlightenment, romanticism, philosophy, literature.
УДК 1:78.01:78.071.1
ПРАВОСЛАВНОЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ Г.В. СВИРИДОВА
Содержание статьи раскрывает духовный контекст музыкального наследия Г.В. Свиридова на примере «Песнопений и молитв» (1985-1997 гг.), последнего произведения композитора, имеющее общее название «Из литургической поэзии», являет собой образец духовного строя русской музыки нашего времени, светской по форме и духовной по содержанию. Сочинение «Песнопения и молитвы», ставшее классикой духовной музыки, по-праву считается нетленным музыкальным мифом о православной России, художественным слепком её.
Ключевые слова: духовный строй, мировоззренческая константа, духовная музыка, песнопения и молитвы, литургическая музыка, христианство, древнерусская певческая традиция, канонические тексты.
В условиях кардинального реформирования духовной сферы российского общества музыкальное творческое наследие Г.В. Свиридова вызывает особый интерес, поскольку формирование «человеческого в человеке» с позиции целостного сознания: идеологического, политического, религиозного, духовно-нравственного, художественного, эстетического и т.д. (М.С. Жиров).
Музыка композитора, не познанная и не осмысленная в полной мере до сих пор, являет пытливому слушателю - обобщённый символический образ России, точнее -обобщающую идею, в которой воспета «родина кроткая» с её огромным необъятным миром «дали неоглядной», очеловеченной, согретой теплотой чувств народа, выстраданной в горниле суровых исторических испытаний. Созерцание, любование, смирение, раздумье, убеждённость, гордость - обширная гамма настроений и чувств, обращённых к Руси и её народу, выражена в музыке национальной не только по содержанию, мелодике и гармонии, но по своему психологическому строю. В ней запечатлена цикличность природной и человеческой жизни, преходящей как отдельной материальной частицы, но бессмертной и возвышающейся над личностью в духовном её величии.
Так, в музыкальной иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» (1965 г.) Г.В. Свиридов от своего имени говорит о судьбах мира посредством, казалось бы, максимальной простоты высказывания, за которой слышится Апокалипсис мировых войн XX века, идея одиночества перед лицом Природы, возвышенное любование её красотой, склонность к мистически восторженному и одновременно трагическому восприятию Мира и вера в высокую духовность человека и её непобедимость.
E.O. BELONENKO11 V.P. RIMSKIY21
Belgorod state institute of arts and culture
1) e-mail: eoveto@mail.ru
2) e-mail: rimskiy@bsu.edu.ru
М.С. ЖИРОВ 11 Л.А. КИНАШ 21
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
1) e -mail: zhirov@bsu.edu.ru
2) e-mail: l.kinasch@yandex.ru





 CC BY
CC BY 273
273