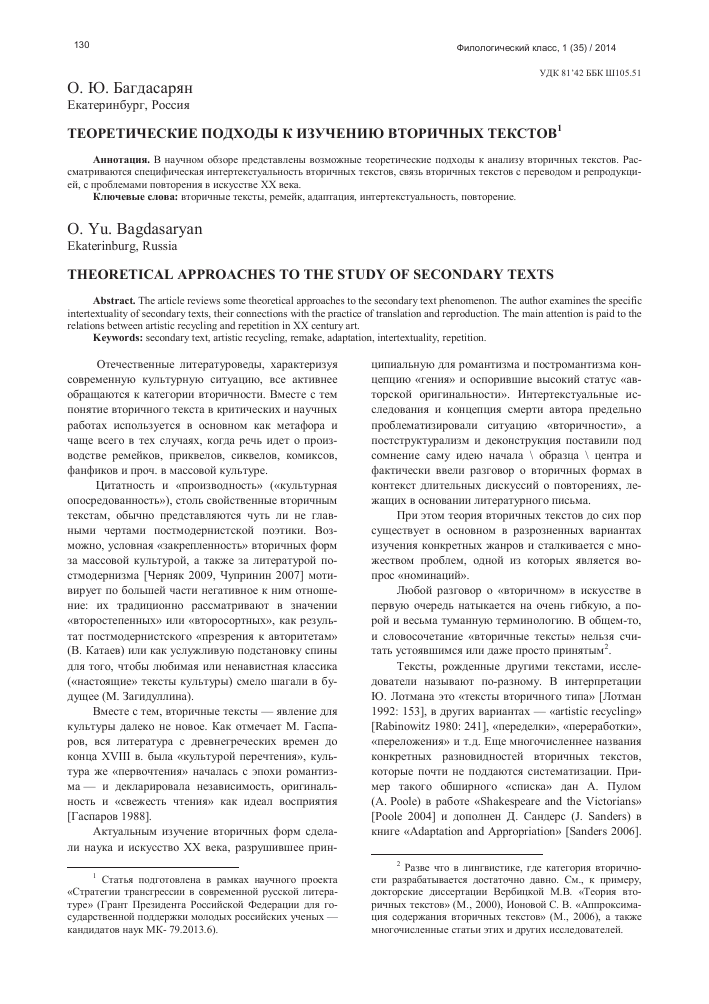УДК 81’42 ББК Ш105.51
О. Ю. Багдасарян
Екатеринбург, Россия
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВТОРИЧНЫХ ТЕКСТОВ1
Аннотация. В научном обзоре представлены возможные теоретические подходы к анализу вторичных текстов. Рассматриваются специфическая интертекстуальность вторичных текстов, связь вторичных текстов с переводом и репродукцией, с проблемами повторения в искусстве ХХ века.
Ключевые слова: вторичные тексты, ремейк, адаптация, интертекстуальность, повторение.
O. Yu. Bagdasaryan Ekaterinburg, Russia
THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF SECONDARY TEXTS
Abstract. The article reviews some theoretical approaches to the secondary text phenomenon. The author examines the specific intertextuality of secondary texts, their connections with the practice of translation and reproduction. The main attention is paid to the relations between artistic recycling and repetition in XX century art.
Keywords: secondary text, artistic recycling, remake, adaptation, intertextuality, repetition.
Отечественные литературоведы, характеризуя современную культурную ситуацию, все активнее обращаются к категории вторичности. Вместе с тем понятие вторичного текста в критических и научных работах используется в основном как метафора и чаще всего в тех случаях, когда речь идет о производстве ремейков, приквелов, сиквелов, комиксов, фанфиков и проч. в массовой культуре.
Цитатность и «производность» («культурная опосредованность»), столь свойственные вторичным текстам, обычно представляются чуть ли не главными чертами постмодернистской поэтики. Возможно, условная «закрепленность» вторичных форм за массовой культурой, а также за литературой постмодернизма [Черняк 2009, Чупринин 2007] мотивирует по большей части негативное к ним отношение: их традиционно рассматривают в значении «второстепенных» или «второсортных», как результат постмодернистского «презрения к авторитетам» (В. Катаев) или как услужливую подстановку спины для того, чтобы любимая или ненавистная классика («настоящие» тексты культуры) смело шагали в будущее (М. Загидуллина).
Вместе с тем, вторичные тексты — явление для культуры далеко не новое. Как отмечает М. Гаспаров, вся литература с древнегреческих времен до конца XVIII в. была «культурой перечтения», культура же «первочтения» началась с эпохи романтизма — и декларировала независимость, оригинальность и «свежесть чтения» как идеал восприятия [Гаспаров 1988].
Актуальным изучение вторичных форм сделали наука и искусство ХХ века, разрушившее прин-
1 Статья подготовлена в рамках научного проекта «Стратегии трансгрессии в современной русской литературе» (Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук МК- 79.2013.6).
ципиальную для романтизма и постромантизма концепцию «гения» и оспорившие высокий статус «авторской оригинальности». Интертекстуальные исследования и концепция смерти автора предельно проблематизировали ситуацию «вторичности», а постструктурализм и деконструкция поставили под сомнение саму идею начала \ образца \ центра и фактически ввели разговор о вторичных формах в контекст длительных дискуссий о повторениях, лежащих в основании литературного письма.
При этом теория вторичных текстов до сих пор существует в основном в разрозненных вариантах изучения конкретных жанров и сталкивается с множеством проблем, одной из которых является вопрос «номинаций».
Любой разговор о «вторичном» в искусстве в первую очередь натыкается на очень гибкую, а порой и весьма туманную терминологию. В общем-то,
и словосочетание «вторичные тексты» нельзя счи-
2
тать устоявшимся или даже просто принятым .
Тексты, рожденные другими текстами, исследователи называют по-разному. В интерпретации Ю. Лотмана это «тексты вторичного типа» [Лотман 1992: 153], в других вариантах — «artistic recycling» [Rabinowitz 1980: 241], «переделки», «переработки», «переложения» и т.д. Еще многочисленнее названия конкретных разновидностей вторичных текстов, которые почти не поддаются систематизации. Пример такого обширного «списка» дан А. Пулом (A. Poole) в работе «Shakespeare and the Victorians» [Poole 2004] и дополнен Д. Сандерс (J. Sanders) в книге «Adaptation and Appropriation» [Sanders 2006].
2 Разве что в лингвистике, где категория вторичности разрабатывается достаточно давно. См., к примеру, докторские диссертации Вербицкой М.В. «Теория вторичных текстов» (М., 2000), Ионовой С. В. «Аппроксимация содержания вторичных текстов» (М., 2006), а также многочисленные статьи этих и других исследователей.
В этот сводный словарь входят: заимствования, «присвоения», стилизации, пародии, подражания, ремиксы, ремейки, приквелы, сиквелы, вариации, произведения по мотивам, адаптации, инсценировки, оммажи, плагиаты, импровизации на тему, версии, интерпретации, переписывания, апгрейды, палимпсесты, сэмплинги и мн. др. Часть из приведенных понятий имеет более или менее устоявшееся определение, а обозначенные ими феномены — продолжительную историю изучения (как, например, пародия), некоторые же входят в литературоведческий лексикон под влиянием других видов искусства — например, кинематографа или музыки (ремейк, сэмплинг), при этом возникает естественный вопрос о соотношении понятий (не дублируют ли некоторые из них друг друга?), а также — при всех возможных различиях — о некоторых общих свойствах, позволяющих все же включать их в один список.
Вопрос этот отчасти решается в исследованиях Л. Хатчен (L. Hutcheon) и Д. Сандерс, сделавших попытку найти объединяющий термин, который мог бы более или менее внятно отразить специфику повторительных форм в современном искусстве (естественно, и в литературе тоже). Для Л. Хатчен таким понятием становится «адаптация» [Hutcheon 2006], Д. Сандерс предлагает использовать два термина: «адаптация» и «присвоение» Под первым термином исследовательница подразумевает тексты, которые прямо указывают на свой «источник», под вторым
— те, которые «обрабатывают» первичный материал без его «анонсирования» [Sanders 2006: 26-43]. И Л. Хатчен, и Д. Сандерс рассматривают адаптацию не просто как «интермедиальную транспозицию», но расширяют ее значение до любого текста, «осуществляющего развернутую и тщательную переработку другого произведения искусства», включая в этот ряд, например, и пародии, которые рассматриваются как «ироническая разновидность» адаптации, невзирая на то, что медиальность в данном случае не меняется [Hutcheon 2006: 170].
При всей спорности термина «адаптация», который в настоящее время ассоциируется в первую очередь с киноадаптациями, попытка прийти к общей терминологии свидетельствует о том, что анализа отдельных разновидностей вторичных текстов (будь то пародия, стилизация, подражание или ремейк) уже недостаточно. В каждом конкретном случае возникают одни и те же требующие обсуждения вопросы: например, о своеобразной интертекстуальности вторичных текстов (далее — ВТ) и обусловленном ею специфическом режиме восприятия такого рода произведений, о связи ВТ с феноменом повторения, о статусе ВТ в истории культуры: являются ли они «маршрутами памяти» или, напротив, способом вытеснения текста-предшественника?
Обозначим некоторые подходы к решению этих вопросов.
ВТ и интертекстуальность
Импульс «переписывания» в теоретических работах отчетливо связывается с интертекстуальностью и позволяет рассматривать ВТ как особый случай ее проявления.
Как известно, понятие интертекстуальности в научный оборот было введено Ю. Кристевой в 1967 году в статье «Бахтин, слово, диалог, карнавал», в более поздних трудах Кристевой, а также Р. Барта была разработана теория интертекстуальности. В концепции Кристевой и Барта интертекстуальность (процесс) противопоставляется интертексту как объекту, «подобно тому, как принципиальная незавершенность текста, с его неопределенностью и многосмысленностью, противостоит завершенному произведению» [Пьеге-Гро 2008: 55].
По-другому определяет интертекстуальность Ж. Женетт, рассматривая ее лишь как один из вариантов транстекстуальных отношений (литература «во второй степени»). Под транстекстуальными отношениями в данном случае подразумевается все, что включает «данный текст в явные или неявные отношения с другими текстами» [Оепей 1997: 1].
Женетт выделяет пять типов транстекстуальных отношений: интертекстуальность, паратекстуальность, метатекстуальность, архитекстуальность и гипертекстуальность. Интертекстуальность в данном случае отчасти совпадает с определением Ю. Кристевой и включает цитирование (маркированное или немаркированное), аллюзии, плагиат и т. д. Паратекстульность характеризуется автором как отношения и связи, в целом «скрепляющие» текст (к этой категории относятся заголовок, подзаголовок, предисловие, послесловие, введение, комментарии, эпиграфы, сноски, иллюстрации, книжные обложки и мн.др.). Метатекстуальностью Же-нетт называет то, что часто обозначается как «критический комментарий»: он связывает два текста, один из которых не называется прямо и не цитируется, но подразумевается. Архитекстуальность подразумевает связь текста с более общими художественными категориями (жанровыми, родовыми и проч.), и артикулируется, как правило, с помощью паратекста, например, заголовков и подзаголовков [Оепей 1997: 1-7].
ВТ в концепции Женетта могут быть рассмотрены как пример «гипертекстуальности» — связи между двумя текстами, первый из которых (предшествующий) является гипотекстом, а второй (последующий) — гипертекстом [Оепей 1997: 5]. По Ж. Женетту, один текст образуется от другого в процессе «трансформации» и пробуждает память о
«предшественнике», при этом не обязательно прямо указывая на свою связь с ним или «цитируя его».
Женетт предлагают свою типологию гипертекстуальности, основываясь на двух критериях: характере связи между гипотекстом и гипертекстом (имитация или трансформация) и модальностью этой связи (серьезная, игровая и т. д.) [Genett 1997: 2431]. Отграниченность разных типов транстекстуальных отношений, естественно, выступает здесь как теоретическая условность: Женетт указывает на принципиальную проницаемость границ, и в этом смысле вторичные тексты существуют в режиме постоянной интерференции гипертекстуальности и интертекстуальности, не говоря уже о многообразии
3
модальностей, которые они могут варьировать .
Итак, ВТ подразумевает вполне определенную связь с первичным текстом («источником»), и хотя все разновидности ВТ работают по-своему: «актуализируют или конкретизируют какие-либо идеи», «делают упрощающие выборки», «проводят аналогии», «критикуют» или «демонстрируют уважение» (Хатчен) и т. д., — при всех отличиях, общим остается то, что те фабулы, образы или отдельные мотивы, с которыми они имеют дело, «взяты откуда-то, не выдуманы и не изобретены» [Hutcheon 2006: 3]. Связь ВТ с текстом-предшественником может демонстрироваться с разной степенью открытости, однако изучение своеобразия этого феномена невозможно без понимания его двуголосой, многослойной природы.
По сравнению с другими вариантами интертекстуальных отношений (такими, например, как аллюзии или цитаты), ВТ конституируют с конкретным текстом-источником более долгую и прочную связь, соответственно, предполагая и особый механизм взаимоотношений двух «откликающихся» друг другу произведений, и особый режим их восприятия.
В какой-то степени механизм функционирования таких текстов сравним с тем, что Ю. Лотман описал в работе «Каноническое искусство как информационный парадокс» (конечно, Ю. Лотман не ВТ имел в виду). Он указывал в этой статье на су-
3 Теория интертекстуальности, ее происхождение и развитие подробно прослеживает Н. Пьеге-Гро в упомянутой выше книге. Автор справедливо указывает на постоянные колебания, существующие между предельно широким подходом к интертекстуальности (а именно пониманием ее как «подвижности \ динамики \ гетерогенности» письма (Барт, Кристева)) и предельно узким восприятием этого феномена как чего-то объективного (Женетт). В этом случае, указывает Пьеге-Гро, «возникает напряжение между эксплицитным, поддающимся недвусмысленному опознанию интертекстом, и презумпцией интертекста имплицитного, с трудом выявляемого; проблема объективности такого интертекста также вызывает вопрос о границах интертекстуальности». Еще более усложняет вопрос другой подход к интертексту — как к продукту чтения, а не письма. См.: Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. — М, 2008. С. 56.
ществование текстов, которые работают по принципу «платка с узелком» и связанного с ним воспоминания, в результате текст становится «возбудителем информации» (а не только ее носителем) [Лотман 2002: 314-321].
Отчасти это справедливо по отношению к ВТ, которые, с одной стороны, сохраняют свою эстетическую полноту и независимость, а с другой — подразумевают наличие какого-то смысла и вне этого текста (в данном случае — в «первичном» тексте). Этот смысл извлекается читателем из сопоставления текста с одним (или несколькими) «предшественниками», причем последовательность текстов, существующих в состоянии «сцепления», способна произвести огромный эвристический эффект в случае нахождения своего читателя — носителя (по У. Эко) «интертекстуальной энциклопедии».
Гипотетическая «энциклопедия интертекстов» не считается минимальным условием понимания текста, но если читатель или зритель «адаптации» уже настроен на «палимпсестность», удовольствие в данном случае рождается от «вибрации», возникающей между «прошлым и настоящим», от непрерываемого «диалога, в котором мы невольно сравниваем уже знакомую нам работу с той, которую в данный момент воспринимаем» [Stam 2000: 64].
Связь ВТ с, как правило, одним текстом-источником, невольно поднимает вопрос о взаимоотношениях «оригинала» и «копии», а также активирует традиционную по отношению к вторичным формам риторику (с характерным для нее требованием верности оригиналу), которая вырастает, во-первых, из представлений о тождественности повторения и копирования, во-вторых, из достаточно распространенной идеи «имперского отношения» к классике, в котором «верная» интерпретация устанавливается при наиболее бережном отношении к оригиналу.
Эта идея «верности» оригиналу проблематизи-руется в подходе к вторичным формам как к практике «интерпретационного чтения» (поскольку автор ВТ в первую очередь представляется читателем текста-«источника»).
ВТ как «креативное чтение»
Идея интерпретационного чтения лежит в основе многих исследований вторичных форм в разных видах искусства: так, о сходстве адаптации с внимательным прочитыванием, невольно пробуждающим разные варианты интерпретации, говорит Brian McFarlane в книге «Novel to Film» [McFarlane1996] и Л. Хатчен в уже упомянутой работе «Теория адаптации» [Hutcheon 2006].
Ф. Кермоуд в книге «Классика», используя аналогию между классикой и Империей (вернее, идеей Империи), показал, как аристотелевское пред-
ставление о различии между неизменяемой сущностью и ее изменчивым существованием работает по отношению к классике, и фактически прочертил два главных варианта взаимоотношений классики и «следующих поколений» (и, соответственно, литературой следующих поколений).
Читатели классики, по Кермоуду, традиционно подтверждают ее особый статус двумя путями. Одна часть аудитории придерживается так называемого «исторического подхода», а именно осуществляет такой вариант чтения, при котором главной становится попытка реконструкции значения, обусловленного историческим и художественным контекстом создания произведения — когда читатель-интерпретатор пытается определить, как тот или иной текст воспринимался аудиторией своего времени. Сценарии такого чтения обычно связываются с традициями герменевтики, попыткой зафиксировать определенный «смысл» каждого текста, подкрепляя его авторитетом творца [Kermode 1975: 40]. Второй подход условно может быть назван «присвоением». Он предполагает выявление жизнеспособности классического текста по отношению к современной ситуации, актуальному контексту. В этом случае важно не то, какое значение произведение имело для читателей своей эпохи, а то, как оно может быть прочитано сейчас.
Р применимостью концепции Ф. Кермоуда по отношению к ВТ — в частности к разновидностям ремейка — полемизирует Т. Лейч в статье «Twice-Told Tales: The Rhetoric of the Remake». Идея Кермоуда, по мнению Т. Лейча, фактически приводит нас к тому, что любые варианты «переделок» могут быть описаны как «старые истории, реинкарнированные в новый дискурс», что не исчерпывает всего многообразия риторических отношений между «оригиналом» и «вторичным текстом», тем более что верность и обращенность к оригиналу далеко не всегда является целью ВТ [Leitch 2002: 45-63].
Концепция создания вторичного текста как реализации идеи креативного чтения подробно рассмотрена Н. Скороход на материале инсценировок в книге «Как инсценировать прозу». Автор анализирует практику и механизмы инсценирования как разные сценарии чтения исходного («оригинального») текста (в случае данной работы — прозаического текста), поскольку «именно чтение описывает всеобщий уровень опыта и позволяет охватить сущность инсценирования вне зависимости от субъекта, референта и конечного продукта этой деятельности» [Скороход 2010: 104].
Сосредоточившись в основном на неклассической парадигме чтения (феноменологической эстетике, структурализме, постструктурализме, деконструкции), Скороход показывает, как разные подходы определяют способы «прослушивания текста»: от выявления интерпретационных границ (поддер-
живаемых текстом интерпретаций) при структурносемиотическом подходе; через связь текста с другими текстами и современными контекстами в пост-структуралистском анализе; до деконструктивист-ского свободного и отстраненного воплощения «одного или нескольких из вычитанных и/или „вчитан-ных“ из/в Текста/Текст вариантов интерпретаций, связанных по принципу игры» [Скороход 2010: 215].
Подход к ВТ через призму различных практик интерпретационного чтения многое объясняет в самом процессе их создания и таким образом минует необходимость систематизировать, группировать результаты, описывать различные варианты ВТ, а также вдаваться в детали взаимоотношений, возникающих между исходным и вторичным текстом. Такой подход позволяет миновать и вопрос о статусе ВТ в культуре, т. к. любое творческое прочтение оригинала в данном случае оказывается допустимым и «позитивным».
ВТ как работа памяти
В сущности, любой вопрос, так или иначе касающийся феномена вторичных форм, приводит к дискуссии о том, какие функции в истории культуры закреплены за ним: являются ли вторичные тексты способом «стирания памяти» или ее «актуализации»?
С позиции Ю. Лотмана, культура предстает как своего рода «коллективный интеллект» — пространство, в пределах которого сохраняются и актуализируются некоторые общие тексты, актуализация и деактуализация текстов в культуре имеет синусоидный характер — наиболее «простой вид смены культурного „забывания“ и „припоминания“». Сама память культуры, по Лотману, «составляет часть ее текстообразующих механизмов». С течением времени меняется не только состав текстов, но и сами тексты, которые представляются не столько хранителями смыслов, сколько их генераторами: «Тексты, образующие «общую память» культурного коллектива, не только служат средством дешифровки текстов, циркулирующих в современносинхронном срезе культуры, но и генерируют новые» [Лотман 1992: 200-202].
Разрушение текстов и «превращение их в материал создания новых текстов вторичного типа — от постройки средневековых зданий из разрушенных античных до создания современных пьес "по мотивам" Шекспира» [Лотман 1992: 153] рассматривается Ю. Лотманом как естественная часть процесса культуры. Поскольку прагматические связи текста с современным контекстом могут актуализировать некоторые его структуры, но не способны вносить в текст принципиально отсутствующие в нем коды,
неизбежно начинают возникать тексты вторичного типа.
Еще один подход к роли ВТ определен идеей литературной борьбы, описанной Х. Блумом в книге «Страх влияния». Теория Х. Блума развивает фрейдистскую концепцию «эдиповой борьбы» между писателями младшего поколения и их литературными «отцами». Блум формулирует свою теорию литературных отношений с акцентом на индивидуальное авторство: фактически его история литературы — это история «сильных поэтов», или литературных гениев. Концепция литературной эволюции строится им на рассматривании творчества как «ложного чтения» (misreading), которое проходит несколько стадий — от выбора (определения и «фиксирования» предшественника) до сложного процесса ревизии текстов предшественника и утверждения собственного «Я», в результате чего между поэтом и предшественником устанавливаются парадоксальные отношения «противостояния» и в то же время зависимости. Блум понимает творчество как борьбу с предшественником, в этой борьбе по утверждению собственного поэтического «Я» одна из важных ролей отведена механизму вытеснения «источника», который оставляет свой след в произведении на уровне поэтического языка [Блум 1998]. В контексте идей Х. Блума работа вторичных форм может быть рассмотрена как оспаривание власти/авторитетности канонического текста, стремящееся к окончательному вытеснению текста-источника и — соответственно — к блокировке читательской памяти о нем.
Об отношениях цитирующего и цитируемого текста — пишет М. Ямпольский в книге «Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф». Ямпольский рассматривает цитату как особый фрагмент текста, который, по существу «не связан с авторским намерением и конституируется в процессе чтения». Как следствие «ответственным за слой цитирования в этом смысле оказывается не автор, но читатель, зритель» (это положение Ямпольский относит к тем случаям, «когда автор сам не указывает на источник цитирования, когда цитата существует в тексте, так сказать, «без кавычек» [Ямпольский 1993: 92]).
Рассматривая интертекстуальность с позиции получателя (интерпретатора), Ямольский говорит о том, что существуют цитаты, которые аномальны для линеарной структуры (случай, «когда фрагмент не может получить достаточно весомой мотивировки из логики повествования»), поэтому «вынуждают читателя искать иной логики, иного объяснения, чем то, что можно извлечь из самого текста. И поиск этой логики направляется вне текста, в интертекстуальное пространство» [Ямпольский 1993: 61]. Другой вариант цитации может условно быть назван «скрытым», он не нарушает линеарности текста (это случай «исчезновения цитаты в мимесисе») [Ям-
польский 1993: 62]. Если упростить проанализированный Ямпольским сложный механизм работы интертекста, то условно он может быть сведен к двум основным типам цитирования: к «декларации» источника и к его «вытеснению». Собственно, в пределах этих двух полюсов может быть рассмотрено и функционирование разных видов ВТ.
ВТ и перевод
Определение специфики вторичных форм с позиции отношений между «источником» и его «вариантом» (ВТ) часто осуществляется через соотнесение с практиками перевода и воспроизведения. Именно перевод в его традиционном понимании, на первый взгляд, и дает наиболее чистый пример верности источнику, однако, эта привычная точка зрения в ХХ веке уже представляется спорной.
Сравнение ВТ с переводом актуализируется, если речь идет о так называемой «интермедиальной транспозиции», когда создание ВТ подразумевает не просто трансформацию «источника», но и смену вида искусства (как в случае с экранизациями, театральными адаптациями, постановками оперы на основе литературного произведения и мн.др.), однако терминология, связанная с переводом, нередко применяется и по отношению к трансформациям текстов в пределах одного семиотического ряда.
Перевод воспринимается как «включенный в непрекращающийся процесс становления», как порой «утопические попытки преодолеть течение времени» [Ямпольский 2004: 286], прикоснуться к «истине оригинала». Собственно, идея перевода как «восстанавливающего присутствие» [Ямпольский 2004: 287] была актуализирована еще В. Беньями-ном в статье «Задача переводчика».
Перевод и воспроизведение объединены самой идеей повторения, однако обычно они противопоставляются друг другу. Если перевод воспринимается как то, что продлевает жизнь оригиналу, как то, что «не заслоняет собой оригинал, не закрывает ему свет, а наоборот, позволяет чистому языку, как бы усиленному его собственной средой, лишь все более ярко освещать оригинал» [Беньямин 2012: 266], то воспроизведение обычно уравнивается с «уничто-
4
жающим» копированием .
В статье «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» В. Беньямин писал о том, что идея воспроизведения никогда не была чужда искусству (см. живописные копии картин или процесс создания гравюр), но с конца 19 века воспроизводимость переводится на новый уровень: подлинность, авторитетность искусства в эпоху тотального воспроизводства оказывается уязвимой:
4 См. в той же статье Беньямина о том, что в переводе «intentio оригинала должно звучать не как воспроизведение, но гармония» (С. 266).
произведение искусства теряет свою «ауру». Речь идет о том, что репродукционная техника, по Бень-ямину, выводит репродуцируемый предмет из сферы традиции, заменяя его уникальное существование на массовое и уязвляя его историческую ценность. Таким образом, вещь не просто теряет свою ауру, но в более широком смысле процесс репродуцирования способствует ликвидации традиционной ценности в составе культурного наследия. [Бенья-мин 2012: 190-234].
История развития кино и фотографии опровергает теорию Беньямина — очевидно, что наличие множества копий ни в кино, ни в фотографии не девальвирует их художественный эффект, не говоря уже о том, что озвученный Беньямином подход не учитывает и особенностей восприятия произведения, протекающего отнюдь не в физическом медиуме. Однако важно, что позднее идеи Беньямина, воспринятые, скорее, метафорически, синхронизировались с «апокалиптическим» видением исследователей медиакультуры и были осмыслены в контексте широкой практики воспроизведения, в том числе и по отношению к вторичным формам в разных видах искусства.
Так, о воспроизведении как «уничтожающем повторении» размышляет А.Базен в двух своих статьях 1950-х годов5. Несмотря на то, что речь в статьях идет о киноремейках, некоторые обобщения
А. Базена важны, поскольку фактически обозначают два магистральных подхода к вторичным текстам в целом.
В статье «По поводу повторов» (1951) А. Базен говорит о противостоянии важного для французского кино «синефильского» подхода, который «превращает отдельные произведения киноискусства в исторические фетиши и культивирует их музейную ценность» [Ямпольский 2004: 290] и ремейка, который «отрицает прошлое», стремится к его вытеснению и свидетельствует о репрессии памяти, манифестируя тем самым культурную амнезию.
Однако в статье 1952 года «Переделано в США» Базен пересматривает свою точку зрения, теперь анализируя ремейк как продолжение «фетишистской практики синефилии», как ностальгический опыт, основанный на тщательном преобразовании оригинала во всех его деталях. Практика переписывания, по Базену, осуществляемая ремейком, создает у аудитории «чувство относительности различных стилей» [Ямпольский 2004: 291]. В результате переписываемый текст приобретает некоторую независимость от настоящего времени, становится атемпоральным. Парадоксальным образом ремейк в размышлениях Базена утрачивает свою связь с ис-
5 Статьи не переводились с французского. Они обстоятельно прореферированы и проанализированы М. Ямпольским в книге «Язык-тело-случай. Кинематограф в поисках смысла». — М.: НЛО, 2004. — С. 286-299.
торией, культурная память и забвение породившего текст исторического контекста оказываются сплетены воедино в акте повторения. Аналогично соединяются в ремейке репродукция и трансформация [Iampolsky 1997: 37-42]. Фактически А. Базен снимает оппозицию «перевод-воспроизведение», связывая и то и другое со специфической работой культурной памяти.
ВТ и проблема повторения в искусстве ХХ века
Как уже было отмечено, проблема повтори-тельности, напрямую связанная с концепцией вторичных текстов, особенно актуализировалась в ХХ веке — в дискуссиях о модернистском и постмодернистском типах мировидения.
Исследователи неклассических художественных систем подчеркивают, что модернистская культура — культура переходного типа, сформировавшаяся в результате глубоко ментального кризиса [Лейдерман 2010: 610-629]. Фоккема и Ибш главным импульсом модернистской культуры считают эпистемологическое сомнение: в первую очередь — сомнение в выработанном эпохой Просвещения представлении об упорядоченности и познаваемости мира, в котором укоренен человек, — и далее — по нарастающей — сомнение в возможности адекватного описания мира, сомнение в верности любой «озвученной» точки зрения на мир и т.д [Fokkema, Ibsch 1988: 1-47].
Именно сомнение определило «ревизионерский дух» модернистской и постмодернистской парадигм: «исторически модернизм формировался в конце XIX — начале XX вв. как полилог спорящих друг с другом дискурсов, одновременно критикующих модерность и предлагающих свои сценарии ее обновления ... Постмодернизм появился на рубеже 1960-70 гг. (как на Западе, так и в России) как критика модернистских версий модерности — что, впрочем, вполне вписывается в логику модернистского сознания, постоянно и неуклонно подвергающего сомнению собственные аксиомы, подрывающего свой фундамент» [Липовецкий 2008: VIII].
Идея ревизионерства, актуальная для модернизма и постмодернизма, родственна тому, что составляет ядро вторичных форм. Так, по мнению М. Брашинского, вторичный текст, осуществляя даже маргинальные поправки в тексте «оригинала», тем самым демонстрирует «некий внутренний маршрут культуры, изменившуюся самоидентификацию персонажа и аудитории» [Брашинский, Добротворский 1995]. Именно поэтому бесконечно осуществляемый в культуре процесс «переделки» рассматривается исследователями «как вечно продолжающийся поиск истины, которая всегда выскальзывает из рук» [Fear, cultural anxiety 2009: 3].
Именно в русле споров о модернистской и постмодернистской парадигмах вызревают новые подходы к рассмотрению пары «инновация-повторение», диалектика которых в целом лежит в основе языка и литературного письма, а в более локальном варианте определяет и функционирование ВТ.
Вокруг этой оси разворачивает свои размышления о своеобразии модернизма и постмодернизма У.Эко в хрестоматийной статье «Инновация и повторение». В паре «инновация-повторение» модернизм интересовался именно «ответственной за ценность» инновацией. «Модернистским критерием оценки художественной значимости являлась новизна, высокая степень информации» [Эко]. Постмодернистское видение в паре «инновация-повторение», по словам У. Эко, принципиально смещает акценты (фактически отказываясь «выбирать» между первым и вторым). Настоящий интерес представляют уже не разрозненные вариации, а «вариативность как формальный принцип», «сам факт того, что можно варьировать до бесконечности». Эко констатирует рождение новой эстетической чувствительности, в которой акцент падает на неразрывный узел «схема-вариация», где вариация представляет гораздо больший интерес, чем схема [Эко].
В философии постмодернизма, в ходе пост-структуралистских дискуссий о повторении, в исследованиях о модернистской и постмодернистской художественных парадигмах пересматриваются традиционные представления о тождестве и различии. Так, в системе идей Ж. Деррида происходит «расщепление диалектической пары противоположностей тождество-различие», и на первый план выводится различие [Автономова 2000: 23]. Как доказывает философ, повторительность существует только в системе постоянного различания — того, что в принципе делает возможным движение значения — когда «каждый элемент, именуемый «присутствующим»,... соотносится с чем-то иным, нежели он сам, сохраняя в себе печать элемента прошлого и уже уступая опустошающему влиянию печати своего отношения к элементу будущему...» [Гурко 1999: 183-184]. По сути, оппозиция первичного и вторичного (как и любая другая) по Деррида представляет собой теоретическую фикцию, поскольку вторичное не просто приходит на смену первичному, но «конституирует его, позволяет ему быть первичным усилием собственного запаздывания» [Гри-цанов 2003: 305].
Повторение и различие, рассматриваемые Деррида, связуются им в логике итерабельности — повторения, неизбежно совмещенного с искажением, повторения как бесконечной и неисчислимой отсрочки-откладывания финальных заключений в от-
сутствии «самотождественной истины» (и в отсутствии источника как такового) [Деррида 1996].
В русле деконструктивистского подхода к литературе свою классификацию «повторений» разработал Д. Хиллис Миллер в книге «Fiction and repetition» (1982). Он опирался на работу Ж. Делеза «Различие и повторение» (1968), в которой философ пытается инвертировать традиционные метафизические представления о различии как производном повторения (а именно предположение о том, что различение явлений осуществляется на основе наличия у них некоторых общих качеств). Любое повторение в философии Делеза рассматривает как «продуцирование различия», а любые тождества, в его концепции, оборачиваются бесконечными цепочками различий. Отталкиваясь от идей Ж. Делеза, Х. Миллер разрабатывает типологию повторений, основанных на двух основных моделях: «платонической» и «ницшеанской».
Первый («платонический») тип повторения в культуре основывается на представлениях о некой существующей архетипической модели, которая сама не подвластна повторению, но генерирует копии, отсылающие к изначальному «образцу». Такой тип повторения предполагает, что различие устанавливается на фоне заранее предустановленного сходства или тождества (две копия одного и того же похожи, потому что является репродукцией некой изначальной модели). Подобное предположение подчеркивает идею подражания в литературе, когда ценность и обоснованность миметической копии устанавливается степенью ее соответствия тому, что она «копирует». Миллер отмечает, что эта идея «верности оригиналу» властвовала в реалистическом искусстве и до сих пор имеет огромную силу.
Второй вариант повторения условно может быть назван «ницшеанским» и постулирует мир, основанный на различии (любое явление всегда отличается от другого явления). Сходство в данном случае вырастает на фоне «изначально существующего несоответствия» и является необоснованным удвоением, возникающим между разными элементами, находящимися в одной плоскости. Неопределенность основания делает, по мнению Х. Миллера, такие повторения «призрачными» [Miller 1982: 122].
Опираясь на идеи Ж. Деррида, Ж. Делеза, Х. Миллера и мн. др. и анализируя принципы постмодернистского смыслопроизводства, М. Липовецкий в книге «Паралогии: трансформации
(пост)модернистского дискурса» предлагает выделять три типа художественных структур, основанных на повторении.
По мысли автора, в классической культуре преобладает «повторение сходных или контрастных элементов» [Липовецкий 2008: 231]. Такого рода повторы обнажают связь «цитирующего» текста с
традицией: вписанность в нее и/или противопоставление авторитетному тексту-предшественнику.
В неклассической культуре акцент переносится с повторений «на повторяемость неповторимого, единичного, феноменального» [Липовецкий 2008: 232]. Такой тип повтора соотносим с «ницшеанским повторением», «ночной памятью», описанной Д. Х. Миллером и может быть распространен, по мысли М. Липовецкого, на весь модернистский дискурс, «всегда раскрывающий единичность и неповторимость даже в том, что кажется повторением» [Липовецкий 2008: 232].
В позднем модернизме и в постмодернизме особую роль приобретает структура третьего типа, основанная на повторении с разрывом или смещением смысла. Повтор подобного типа формирует не единства, а так называемые «дивергентные серии»
— «цепочки различий, производимые, казалось бы, одним и тем же, повторяемым, но непрерывно смещающим свой смысл образом, мотивом, сюжетным повтором, словесной конструкцией или цитатой» [Липовецкий 2008: 237]. Смысловая новизна, создаваемая таким повтором, возникает на основе внутреннего резонанса между сериями (ср. с «бесконечной» серийностью в концепции У. Эко). Делезов-ские «дивергентные серии», по мнению Липовецко-го, соотносимы с тем, что выше было названо «итерацией» — «повторяющийся, непредсказуемый, алогичный, абсурдный сдвиг, формирующий рваный ритм смещений, в свою очередь порождающий новые, проблематизирующие, смыслы» [Липовец-кий 2008: 238]. Формирующаяся в модернизме «риторика итерации», по Липовецкому, предполагает два пути возможного развития: «центростремительная» повторяемость (например, мотивов, связывающих разные уровни повествования) как отражение-обозначение трансцендентного неомифологического центра; и «центробежная» повторяемость иррегулярности, материализующая «отсутствие центра» [Липовецкий 2008: 240].
Конечно, проанализированные автором типы повторительности не уникальны для каких-то конкретных культурных периодов, однако важной для нас является мысль о том, некоторые из них в определенные эпохи доминируют и «воспринимаются как соответствующие эстетическим нормам» [Липо-вецкий 2008: 231]. И в этом исследовательском контексте вторичные формы, работа которых основана на повторе, могут достаточно отчетливо высвечивать именно структуры повторяемости, которые выходят на первый план в то или иное время.
Постструктуралистские размышления о повторениях (концепция Ж. Делеза, логика итерабельно-сти Ж. Деррида, «платоническое» и «ницшеанское» повторения Х. Миллера), не столько разрабатывающие методологию исследования, сколько предлагающие более гибкий взгляд на феномен повтори-
тельности, во многом повлияли на осуществляемый частью исследователей анализ некоторых видов ВТ
— в частности, на исследования Л. Хатчен о пародии и адаптациях, а также на целый ряд работ о ремейках, авторы которых видят перед собой следующую задачу: отрефлексировать специфические идеологические, общехудожественные, индивидуально-авторские и исторические импульсы, связанные с созданием вторичных текстов6.
В качестве примера анализа вторичного текста может быть рассмотрена работа Л. Хатчен о пародии, которую она интерпретирует как одно из явлений более широкого круга — а именно как феномен, родственный «имитациям», как разновидность «двуголосых форм», если следовать терминологии Бахтина. Удовольствие от восприятия вторичного текста, по мнению Л. Хатчен, во многом связано с характером повторения, лежащего в его основе — повторения с вариациями, которое соединяет «успокоение от ритуального узнавания с удовольствием от новизны», позволяет «одновременно оставаться собой и быть другим» [НШсИеоп 1984: 129].
Исследовательница опирается на концепцию Ж. Делеза, согласно которой повторение — это всегда «трансгрессия, изъятие», однако, по Хатчен, это
7
всегда «авторизированная трансгрессия» — осуществляемая в эстетических границах «перерабатываемого» текста.
Любая разновидность вторичной формы может быть рассмотрена как «повторение без копирования», повторение, «которое маркирует как сходство, так и различие». Это не способ «ностальгической имитации прошлых моделей», но в первую очередь «стилистическая конфронтация», «нападение, которое устанавливает различие в самом сердце сходства». Различие входит в саму структуру вторичных форм, потому что никакая интеграция в новый контекст не может избежать изменений значения — и даже изменений ценностей [НШсИеоп 1984: 8].
Соединение «консервативного повторения и революционного различия» определяет одно из самых важных качеств ВТ — амбивалентность: сам акт повторения наделяет (квази)исходный текст «властью», делая его авторитетным, и в то же время трансформирует его связь с литературными норма-
6 Michael B. Druxman. Make it again, Sam: a survey of movie remakes. A. S. Barnes, 1975; Play it again, Sam: retakes on remakes / edited by Andrew Horton and Stuart Y. McDougal. University of California Press, 1998; Dead ringers: the remake in theory and practice / edited by Jennifer Forrest and Leonard R. Koos. SUNY Press, 2002; Verevis С. Film remakes. New York: Palgrave Macmillan, 2005; Anat Zanger. Film remakes as ritual and disguise: from Carmen to Ripley. Amsterdam University Press, 2006. и др.
7 Идея «авторизированной трансгрессии», которую Хатчен высказывает по отношению к пародии, очевидно, связана с размышлениями М. Бахтина о карнавальной пародии и ее «легитимизированной свободе».
ми. ВТ, таким образом, в самом широком смысле связаны с одновременным обеспечением культурной непрерывности и стимулированием «изменений», «проблематизацией как устоявшихся художественных конвенций, так и современности». По теории Л. Женни, роль саморефлективных «революционных» текстов, к которым могут быть отнесены и некоторые вторичные формы, заключается в переработке тех дискурсов, «вес которых стал слишком тяжелым», «подавляюще-тираническим». Это не имитация, но переосмысливание-приспосабливание прошлого8.
Парадоксальность вторичных форм становится более очевидной именно в контексте поисков художников и философов ХХ века, которые «осознали, что изменчивость — гарантия непрерывности, продолжительности искусства — и предложили свою модель процесса трансформации, реорганизации прошлого» [Hutcheon 1984: 29]: поиск новизны в ХХ веке по иронии судьбы оказался тесно связан и основан на поиске и даже, более того, «изобретении» традиций.
Подходы, выводящие обсуждение вторичных текстов за пределы традиционно используемых оппозиций, позволяют, как кажется, найти наиболее гибкий и в то же время продуктивный путь к их дальнейшему анализу. Очевидно, что вторичные тексты представляют собой сложные и странные маршруты культуры, которые постоянно нарушают границы между традиционными оппозициями (инновация-повторение; оригинальность — подражательность; ностальгия по прошлому — блокировка памяти) и вскрывают «странную» логику культурного смыслопорождения, когда смысл обнаруживается «между текстами», в самой диалектике сходства и различия.
ЛИТЕРАТУРА
Fear, cultural anxiety, and transformation: horror, science fiction, and fantasy films remade / edited by Scott A. Lukas and John Marmysz. Lanham: Lexington Books, 2009.
Fokkema, Douwe and Ibsch, Elrud. Modernist Conjectures. A Mainstream in European Literature 1910-1940. New York: St Martin's Press, 1988.
8 Цитата по: Hutcheon, Linda. A Theory of Parody. p. 72. В подобном ключе рассматривает одну из разновидностей вторичных форм (пародию) Драган Куюнджич, анализируя теорию Ю. Тынянова и сопоставляя ее с работами Поля де Мана о письме и чтении, с теорией «вечного возвращения» Ницше и идеями Г. Блума. Пародия в интерпретации Куюнджича, следует траектории «повторной переработки», которая «позволяет нам отдавать прошлому дань памяти и должным образом хоронить это прошлое, но при этом оживлять его, снова пускать в оборот, заново использовать». См.: Куюнджич Д. Пародия как повторная переработка (литературной) истории // Новое литературное обозрение — 2006 — №80 — С. 84-90.
Genett, Gerard. Palimpsests. Literature in the Second Degree. University of Nebraska, 1997.
Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation, New York and London: Routledge, 2006.
Hutcheon, Linda. A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-century Art Forms, Methuen: New York and London, 1984.
Kermode, Frank. The Classic: Literary Images of Permanence and Change. New York: The Viking Press, 1975. London: Faber and Faber, 1975.
Leitch, nomas. Twice-Told Tales: The Rhetoric of the Remake, in Dead ringers: the remake in theory and practice / edited by Jennifer Forrest and Leonard R. Koos. SUNY Press, 2002.
Iampolsky, Mikhail. Translating images..., in Anthropology and Aesthetics, No. 32 (Autumn, 1997)
McFarlane, Brian. Novel Into Film: An Introduction to the Theory of Adaptation Oxford University Press, Incorporated, 1996.
Miller, J. Hillis. Fiction and repetition. Cambridge, London.: Harvard University Press, 1982.
Poole, Adrian. Shakespeare and the Victorians. Arden (The Arden Critical Companions Series), 2004.
Rabinowitz, Peter J. «What’s Hecuba to us?»: The audience's experience of literary borrowing // Susan R. Suleiman and Inge Crosman, eds., The reader in the text. Princeton: Princeton University Press, 1980.
Sanders, Julia. Adaptation and appropriation, New York and London: Routledge, 2006.
Stam, Robert. The Dialogics of Adaptation, in Film Adaptation, ed. James Naremore. New Brunswick: Rutgers University Press, 2000.
Автономова Н. Деррида и грамматология // Деррида Ж. О Грамматологии. / Пер. с франц., вступит ст. и комм. Н. С. Автономовой. М: Ad Marginem, 2000.
Беньямин В. Задачи переводчика. // Беньямин
B. Учение о подобии: медиаэстетические произведения. М.: Изд. центр РГГУ, 2012.
Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Беньямин В. Учение о подобии: медиаэстетические произведения. М.: Изд. центр РГГУ, 2012.
Блум Г. Страх влияния. Карта перечитывания. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1998.
Брашинский М., Добротворский С. Что такое ремейк? // Сеанс. 1995. № 10. URL:
http://seance.ru/n710/theory-10/chto-takoe-remake/ (дата обращения: 20.06.2013).
Гаспаров М. Л. Первочтение и перечтение: к тыняновскому понятию сукцессивности стихотворной речи // Третьи тыняновские чтения. Рига, 1988.
C. 15-28.
Грицанов А. А. Деррида // Новейший философский словарь: 3-е изд., испр. Мн.: Книжный Дом. 2003. С. 305.
Гурко Е. Тексты деконструкции. Деррида Ж. Б1йегапсе. Томск: Водолей, 1999.
Деррида Ж. Подпись — событие — контекст // Дискурс. 1996. №1. иКЬ:
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Derr/pod р.ркр (дата обращения: 20.06.2013)
Куюнджич Д. Пародия как повторная переработка (литературной) истории // Новое литературное обозрение. 2006. № 80.
Лейдерман Н.Л. Теория жанра. Екатеринбург: ИФИОС «Словесник», 2010.
Липовецкий М. Паралогии: трансформации (пост)модернистского дискурса в культуре 19202000-х годов. М.: НЛО, 2008.
Лотман Ю. М. Каноническое искусство как информационный парадокс // Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства (Серия «Мир искусств»). СПб.: Академический проект , 2002.
Лотман Ю. М. Память в культурологическом освещении // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллинн: «Александра», 1992.
Лотман Ю. М. Текст в тексте // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин: «Александра», 1992.
Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертексту-альностн: Пер. с фр. / Общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М: Издательство ЛКИ, 2008.
Скороход Н. Как инсценировать прозу. СПб: Петербургский театральный журнал, 2010.
Черняк В. Д., Черняк М. А. Базовые понятия массовой литературы: Учебный словарь-
справочник. СПб: Издательство РГПУ им.
А. И. Г ерцена, 2009.
Чупринин С. Русская литература сегодня. Жизнь по понятиям. М.: Время, 2007;
Эко У. Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна // Философия эпохи постмодерна. иЯЬ: http://www.gumer.info/bibliotek_ Buks/Culture/Eko/Inn_Povt.php (дата обращения: 20.06.2013).
Ямпольский М. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. — Москва, РИК «Культура», 1993.
Ямпольский М. Перевод и воспроизведение. // Ямпольский М. Язык-тело-случай: кинематограф в поисках смысла. М.: НЛО, 2004.
ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Ольга Юрьевна Багдасарян — кандидат филологических наук, доцент кафедры современной русской литературы Уральского государственного педагогического университета.
Адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26.
E-mail: obagdasar@gmail.com
ABOUT THE AUTHOR
Olga Yurievna Bagdasaryan is a Candidate of Philology, Docent of the Department of Modern Russian Literature of the Ural State Pedagogical University (Yekaterinburg).





 CC BY
CC BY 412
412