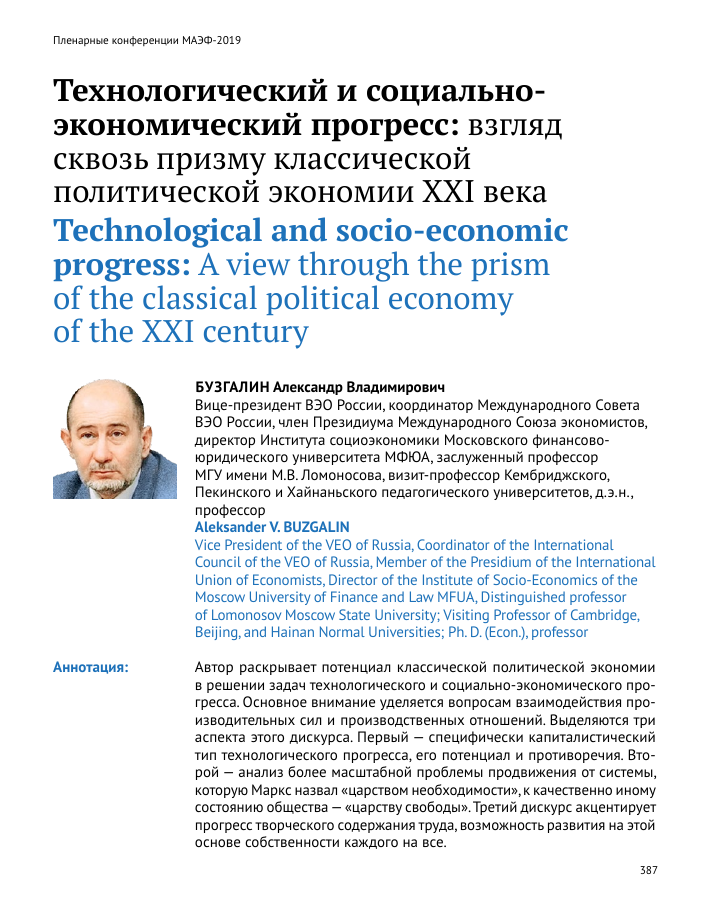Технологический и социально-экономический прогресс: взгляд сквозь призму классической политической экономии XXI века
Technological and socio-economic progress: A view through the prism of the classical political economy of the XXI century
БУЗГАЛИН Александр Владимирович
Вице-президент ВЭО России, координатор Международного Совета ВЭО России, член Президиума Международного Союза экономистов, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета МФЮА, заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, визит-профессор Кембриджского, Пекинского и Хайнаньского педагогического университетов, д.э.н., профессор
Aleksander V. BUZGALIN
Vice President of the VEO of Russia, Coordinator of the International Council of the VEO of Russia, Member of the Presidium of the International Union of Economists, Director of the Institute of Socio-Economics of the Moscow University of Finance and Law MFUA, Distinguished professor of Lomonosov Moscow State University; Visiting Professor of Cambridge, Beijing, and Hainan Normal Universities; Ph. D. (Econ.), professor
Автор раскрывает потенциал классической политической экономии в решении задач технологического и социально-экономического прогресса. Основное внимание уделяется вопросам взаимодействия производительных сил и производственных отношений. Выделяются три аспекта этого дискурса. Первый - специфически капиталистический тип технологического прогресса, его потенциал и противоречия. Второй - анализ более масштабной проблемы продвижения от системы, которую Маркс назвал «царством необходимости», к качественно иному состоянию общества - «царству свободы». Третий дискурс акцентирует прогресс творческого содержания труда, возможность развития на этой основе собственности каждого на все.
Аннотация:
Abstract: The author reveals the potential of classical political economy in solving
problems of technological and socio-economic progress. The focus is on the interaction of the productive forces and production relations. The author highlights three aspects of this discourse. The first is a specifically capitalist type of technological progress, its potential and contradictions. The second is an analysis of the larger problem of moving from the system, which Marx called the 'realm of necessity', to a qualitatively different state of society - the 'realm of freedom'. The third discourse emphasizes the progress of the creative content of labor, the possibility of developing on this basis of the property of everybody for everything.
Ключевые слова: Политическая экономия, глобальные проблемы, технологическое развитие, социально-экономическое развитие, планирование, социальный сектор, творческий труд.
Keywords: Political economy, global problems, technological development, socio-
economic development, planning, social sector, creative labour.
Классическая политическая экономия, особенно ее марксистская версия, в настоящее время большинству ученых, реализующих свой креативный потенциал в рамках неоклассической парадигмы, кажется чем-то давно забытым, устаревшим.
Автор этого короткого текста покажет ошибочность этого утверждения на примере нескольких ключевых положений, показывающих потенциал названной парадигмы в решении ряда фундаментальных
проблем современной экономики и общества.
* * *
Первое. Едва ли не общим местом в сегодняшних размышлениях о будущем человечества стали акценты на технологическом прогрессе и вопросы формирования таких институтов, которые создали бы стимулы для его свободного и эффективного развертывания при соблюдении экологических, социальных и гуманитарных ограничений и при ориентации этого прогресса на первоочередное решение проблем прогресса человеческих качеств, загрязнения природной среды, бедности и неравенства.
Такая постановка проблемы сегодня становится все более востребованной, и современные авторы дают ответы на эти вызовы, предлагая свои концепции и формируя системы аргументов, их обосновывающих. Среди таких концепций, приобретающих сегодня в России (и не только в России) все большее признание, выделим теорию Нового индустриального общества второго поколения и Ноономики С.Д. Бодрунова [1,2], теорию технологических укладов С.Ю. Глазьева и его учителей [3-5] и др.
Несколько менее общеизвестно, что основа этой фундаментальной проблемы - достаточно подробно раскрытое в марксистской литературе, как философской, так и политико-экономической (см., напр.: [6-8]), противоречие производительных сил и производственных отношений. Среди не-марксистов этот тезис выделяет в своих работах С.Д. Бодрунов, но это то исключение, которое подтверждает правило. Правило же состоит в том, что определенная система производственных отношений формирует конкретно-историческую систему социально-экономических стимулов технологического прогресса и основные направления, по которым он идет.
Так, стремление к бесконечному увеличению объема прибавочной стоимости (непосредственно - избыточной, опосредованно - относительной) становится основным стимулом технологического прогресса в условиях капитализма (в России эту систему в последние десятилетия предпочитают называть рыночной экономикой). Взаимосвязь и противоречие наемного труда и капитала вкупе с товарным и денежным фетишизмом формируют облик этого технологического прогресса, ориентированного в своем классическом виде на увеличение производства вещей и лишь косвенно - на прогресс человеческих качеств.
Решение глобальных экологических, социальных, гуманитарных проблем эта система сама по себе не предусматривает, и только тогда, когда эти проблемы обостряются, возникает вопрос о необходимости формирования других социально-экономических и политико-идеологических отношений, которые позволят как минимум ограничить разрушение природной среды и дегуманизацию общества.
Достаточно хорошо известно, что такими отношениями становятся социальные, экологические, гуманитарные нормативы, а это ростки иной, нежели частно-рыночная, системы экономических отношений.
Еще одно направление формирования рамок и приоритетных направлений технологического прогресса - пострыночные механизмы общественного регулирования воспроизводственных процессов (о том, как и в какой мере они могут быть реализованы при помощи экономической политики и институциональных преобразований, остающихся в рамках реформирования капиталистической экономики - ниже). Перечень можно продолжить.
Все сказанное выше - не более чем очень краткая аннотация того, как выглядит проблема регулирования технологического прогресса в условиях рыночной экономики с точки зрения политико-экономического подхода. В теоретико-методологическом плане этот тезис будет звучать еще более определенно: капиталистическая система производственных отношений требует, как минимум, дополнения и ограничения со стороны посткапиталистических отношений, иначе успешно решать проблемы технологического развития она не сможет.
В этой формулировке нет ничего нового, она просто повторяет хорошо известный тезис Маркса о том, что на определенном этапе
развития старые производственные отношения становятся тормозом развития производительных сил.
Что все это означает с практической точки зрения?
Ответ достаточно хорошо известен: активная промышленная политика и стратегическое планирование вкупе с активным включением гражданского общества в решение проблем технологического развития и вопросов выработки социально-экономических «правил игры», т.е. тех экономико-правовых норм, которые станут формами претворения в жизнь реформ, приводящих к развитию в ткани рыночно-капитали-стической системы элементов новых производственных отношений и тех переходных форм, которые соединяют последние с по-прежнему господствующими частно-капиталистическими отношениями.
Это указывает на то, что сама по себе рыночно-капиталистическая система не решает задачи обеспечения социальных, экологических и гуманитарных приоритетов развития. Эти императивы в XXI веке требуют, как минимум, дополнения рынка общественным регулированием.
Все это, однако, будет не более чем частичным реформированием
уже существующей системы экономических отношений.
* * *
Развитие качественно новых технологий (по сравнению с господствующими до сих пор технологиями, относимыми уже упомянутым нами выше С.Ю. Глазьевым к 3-му и 4-му технологическим укладам) потребует гораздо более глубоких изменений в производственных отношениях. И это второе положение классической политической экономии, которое хотелось бы выделить в рамках этого текста. Оно достаточно хорошо известно. Именно этот вывод сделал Маркс, завершая первый том «Капитала». Еще более важным в этом отношении нам представляется положение из третьего тома «Капитала», где автор этой фундаментальной работы показывает реперные точки перехода от господствовавших тысячелетиями отношений метасистемы, которую он называет «царством необходимости», к обществу, которое лежит «по ту сторону» собственно материального производства и которое он в данном случае называет «царством свободы», а в других работах - коммунизмом.
Приведем фрагмент этого текста Маркса полностью, ибо он мало известен новому поколению ученых обществоведов вообще и экономистов, в особенности: «Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства. Как первобытный человек, чтобы удовлетворять свои потребности, чтобы сохранять и воспроизводить свою жизнь, должен бороться с природой, так должен бороться и цивилизованный человек, должен во всех общественных формах и при всех возможных способах производства. С разви-
тием человека расширяется это царство естественной необходимости, потому что расширяются его потребности; но в то же время расширяются и производительные силы, которые служат для их удовлетворения. Свобода в этой области может заключаться лишь в том, что коллективный человек, ассоциированные производители рационально регулируют этот свой обмен веществ с природой, ставят его под свой общий контроль, вместо того чтобы он господствовал над ними как слепая сила; совершают его с наименьшей затратой сил и при условиях, наиболее достойных их человеческой природы и адекватных ей. Но тем не менее это все же остается царством необходимости. По ту сторону его начинается развитие человеческих сил, которое является самоцелью, истинное царство свободы, которое, однако, может расцвести лишь на этом царстве необходимости, как на своем базисе. Сокращение рабочего дня - основное условие» [9, с. 386-387].
Эти положения марксизма долгое время казались либо утопией, либо размышлениями об отдаленном будущем, однако ситуация существенно изменяется именно в настоящее время.
Долгие десятилетия неолиберального «конца истории» в конечном итоге убедили всех, что история не заканчивается.
Действительно, на протяжении последнего полувека значимые изменения в производительных силах происходили преимущественно в сфере создания, хранения и передачи информации. В собственно материальном производстве происходило, скорее, совершенствование старых технологий, нежели создание качественно новых способов производства материальных благ.
Однако ситуация начала изменяться. Человечество стоит на пороге качественного скачка в технологическом развитии, и именно политическая экономия может помочь понять, какие производительные силы могут прийти на смену господствовавшим на протяжении последнего столетия, и какие производственные отношения могут стать адекватными формами их развития. * * *
Третье положение, которое мы хотели бы акцентировать в этом тексте.
Политическая экономия марксизма с самого начала поставила труд в основание исследования природы экономических систем. Противоречие частного и общественного, конкретного и абстрактного труда лежит в основании теории стоимости. Противоречия, рождаемые не только формальным, но и реальным подчинением репродуктивного индустриального труда наемного рабочего капиталу, лежат в основании теории эксплуатации. Во всех этих случаях Маркс и его последователи апеллируют к содержанию труда и затем, на этом основании, рассматривают его социально-экономическую форму, рождающуюся в процессе включения работников в определенные производственные отношения.
Так, развитие машинных технологий привело к смене репродуктивного ручного труда репродуктивным индустриальным, сделав работника придатком машины.
Изменения, которые происходят в настоящее время - это экстенсивная и интенсивная экспансия творческого по своему содержанию труда. Воспользуемся для его характеристики парафразой на основании фрагмента ранее написанного автором текста (см.: [10, с. 45-46]). Итак, творчество - это деятельность, которая соединяет в себе распредмечивание культурного феномена и созидание нового культурного феномена - идеального в диалектико-материалистическом смысле. Результат творческой деятельности характеризуется такими свойствами, как неограниченность и потенциальная общедоступность (затраты на тиражирование культурных благ стремятся к нулю их можно раздавать, не теряя). Результат творчества многогранен: им могут быть и культурные феномены, и новые творческие качества самого субъекта творчества. Творческая деятельность обладает свойством самомотивации (творческий труд перестает быть обременением и превращается в потребность). Творческая деятельность есть одновременно и особое общественное отношение — субъект-субъектный диалог творца со всеми остальными деятелями культуры во времени и пространстве. В силу этого творчество - это одновременно и всеобщая и сугубо индивидуальная деятельность. Всеобщность творческой деятельности обусловливает то, что она создает феномен, априори являющийся всеобщей [культурной] ценностью и потому не требует социально-экономического опосредования для своего общественного признания (покупки рыночным агентом или иной). Признание его ценности происходит исключительно в процессе распредмечивания данного феномена в иной творческой деятельности (в процессе сотворчества).
Как мы видим, этот труд является неотчуждаемым по своей природе. Он создает блага, которые по своему содержанию являются неограниченными. Более того, результаты этого труда можно распределять среди сколь угодно большого круга потребителей этого блага, ничего не теряя, и при этом с издержками копирования, стремящимися к нулю. Это качественно новые производительные силы, которые обусловливают, как минимум, возможность формирования качественно новых производственных отношений, одной из важнейших сторон которых становится возможность диалектического отрицания интеллектуальной частной собственности и распространения собственности каждого на все (подробнее см. [11]).
Существенно, однако, что даже в тех пространствах экономической жизни, где отсутствует частная собственность на то, что принято обозначать словосочетанием «интеллектуальные блага», присвоение этих благ требует определенных предпосылок. Главные из них - высокий уровень культуры у субъекта присвоения (точнее было бы в данном случае сказать - распредмечивания) этих благ, во-первых, и, во-вторых, наличие больших объемов свободного времени.
Первая предпосылка обусловливает (эта связь далеко не очевидна, но в этом кратком эссе мы опустим промежуточные звенья доказательства) необходимость массового развития общедоступного образования или, воспользуемся работами О.Н. Смолина [14], образования для всех и через всю жизнь.
Вторая реализуется еще сложнее, ибо предполагает не только сокращение рабочего времени (которое в условиях нестабильной занятости 21 века, особенно в России, для большинства работников креатосферы - в сфере образования, здравоохранения и т.п. - в большинстве случаев растет, а не сокращается), но и наполнения культурным содержанием времени, свободного от работы. Последнее, в частности, предполагает продвижение от общества потребления к новому типу общественного развития, ориентированного не на количественный рост ВВП, а на качественные результаты. Отсюда императив социальных, «зеленых», гуманитарных приоритетов экономического развития или того, что в политической экономии называется воспроизводством.
Этот императив, в свою очередь, имеет вполне практические следствия и предполагает глубокие коррекции как в экономической политике, так и в институтах, что, как и во всех остальных случаях, будет способствовать реформированию системы производственных отношений и формированию отношений, более адекватных, нежели нынешние, задачам обеспечения простора для развития производительных сил и социального прогресса.
Библиографиче- 1. Бодрунов С.Д. Грядущее. Новое индустриальное общество: переза-ский список: грузка. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2016.
2. Бодрунов С.Д. Ноономика. М.: Культурная революция, 2018.
3. Глазьев С.Ю.,Львов Д.С., Фетисов Г.Г.Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного регулирования. М., 1992.
4. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития российской экономики в условиях глобальных технологических сдвигов. М., 2007.
5. Глазьев С.Ю. Современная теория длинных волн в развитии экономики //Экономическая наука современной России. 2012. № 2. С. 27-42.
6. Келле В.Ж., Ковальзон М.Я. Исторический материализм. М., 1969.
7. Келле В.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история. М.: Политиздат, 1981.
8. Курс политической экономии. В 2-х т./Под ред. НА. Цаголова. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Экономика, 1973.
9. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том третий // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 25. Ч. II. М.: Политиздат, 1962.
10. Бузгалин А.В. Креативная экономика: частная интеллектуальная собственность или собственность каждого на все?// Социологические исследования. 2017. № 7. С. 43-53.
11. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Трансформации социальной структуры позднего капитализма: от пролетариата и буржуазии к прекариату и креативному классу? // Социологические исследования. 2019. № 1. С. 18-28.
12. Батищев Г.С. Опредмечивание и распредмечивание // Философская энциклопедия. В 5 т. Т. 4. / Под ред. Ф.В. Константинова М.: Советская энциклопедия, 1967. С. 154-155.
13. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 2. Теория. Глобальная гегемония капитала и ее пределы («Капитал» re loaded). Изд. 5-е, доп. М.: ЛЕНАНД, 2019.
14. Смолин О.Н. Образование - для всех: философия, экономика, политика, законодательство. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Академ-книга, 2014.
List of References: 1. Bodrunov S.D. The future. New Industrial Society: Reloaded. 2nd ed., rev. and
add. Saint-Petersburg, 2016.
2. Bodrunov S.D. Noonomy. Moscow, 2018.
3. Glazyev S. Yu., Lvov D. S., Fetisov G.G. The evolution of technical and economic systems: possibilities and limits of centralized regulation. Moscow, 1992.
4. Glazyev S. Yu. The strategy of advanced development of the Russian economy in the context of global technological developments. Moscow, 2007.
5. Glazyev S. Yu. Modern theory of long waves in economic development. Ekonomicheskaya Nauka Sovremennoi Rossii [Economic science of modern Russia]. 2012. No. 2. P 27-42.
6. Kelle V.Zh., Kovalzon M.Ya. Historical materialism. Moscow, 1969.
7. Kelle V.Zh., Kovalzon M. Ya. Theory and history. Moscow, 1981.
8. The course of political economy. In 2 volumes/Ed. by N.A. Tsagolov. 3rd ed., rev. and add. Moscow, 1973.
9. Marx K. Capital. Critics of political economy. Volume Three // K. Marx and F. Engels. Works. 2nd ed. Vol. 25. Part II. Moscow, 1962.
10. Buzgalin A.V. Creative economy: private intellectual property or the property of everybody for everything? Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological studies]. 2017. No. 7. P 43-53.
11. Buzgalin A.V, Kolganov A.I. Social structure transformation of late capitalism: from proletariat and bourgeoisie towards precariat and creative class?. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. 2019. No 1. P 18-28.
12. Batishchev G.S. Objectification and disobjectification. In Philosophical Encyclopedia. In 5 volumes. Vol. 4. Ed. by F.V. Konstantinov, Moscow, 1967. P 154-155.
13. Buzgalin A.V, Kolganov A.I. Global capital. In 2 vols. Vol. 2. Theory. Global hegemony of capital and its limits ('Capital' reloaded). Ed. 5th, add. Moscow, 2019.
14. Smolin O.N. Education is for everyone: philosophy, economics, politics, legislation. 2nd ed. Add. Moscow, 2014.





 CC BY
CC BY 35
35