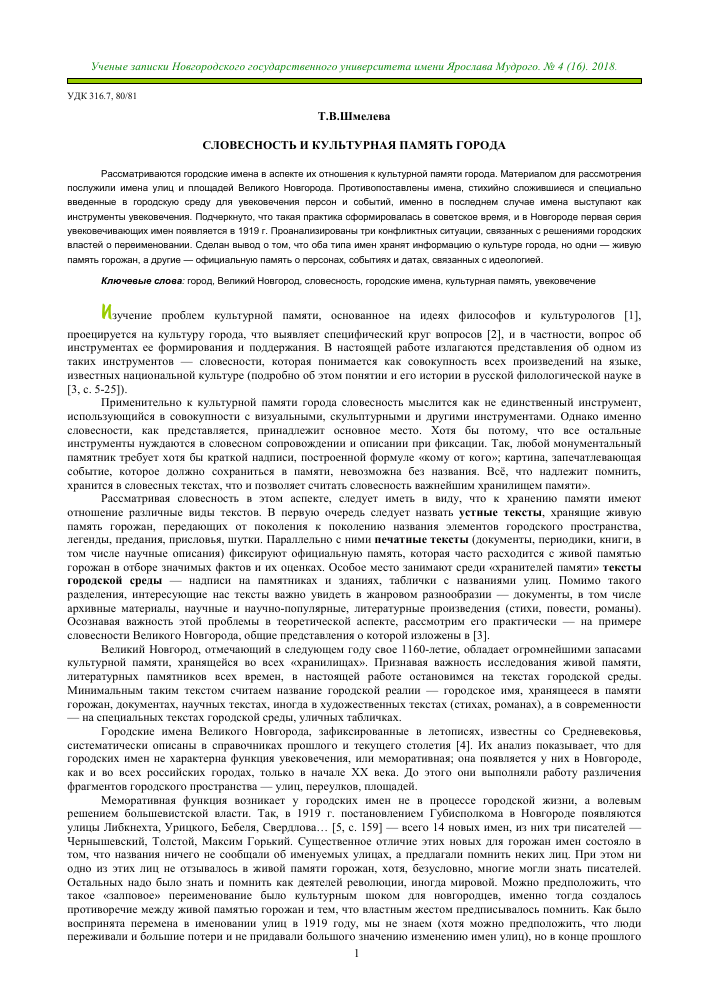УДК 316.7, 80/81
Т.В.Шмелева
СЛОВЕСНОСТЬ И КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ ГОРОДА
Рассматриваются городские имена в аспекте их отношения к культурной памяти города. Материалом для рассмотрения послужили имена улиц и площадей Великого Новгорода. Противопоставлены имена, стихийно сложившиеся и специально введенные в городскую среду для увековечения персон и событий, именно в последнем случае имена выступают как инструменты увековечения. Подчеркнуто, что такая практика сформировалась в советское время, и в Новгороде первая серия увековечивающих имен появляется в 1919 г. Проанализированы три конфликтных ситуации, связанных с решениями городских властей о переименовании. Сделан вывод о том, что оба типа имен хранят информацию о культуре города, но одни — живую память горожан, а другие — официальную память о персонах, событиях и датах, связанных с идеологией.
Ключевые слова: город, Великий Новгород, словесность, городские имена, культурная память, увековечение
Изучение проблем культурной памяти, основанное на идеях философов и культурологов [1],
проецируется на культуру города, что выявляет специфический круг вопросов [2], и в частности, вопрос об инструментах ее формирования и поддержания. В настоящей работе излагаются представления об одном из таких инструментов — словесности, которая понимается как совокупность всех произведений на языке, известных национальной культуре (подробно об этом понятии и его истории в русской филологической науке в [3, с. 5-25]).
Применительно к культурной памяти города словесность мыслится как не единственный инструмент, использующийся в совокупности с визуальными, скульптурными и другими инструментами. Однако именно словесности, как представляется, принадлежит основное место. Хотя бы потому, что все остальные инструменты нуждаются в словесном сопровождении и описании при фиксации. Так, любой монументальный памятник требует хотя бы краткой надписи, построенной формуле «кому от кого»; картина, запечатлевающая событие, которое должно сохраниться в памяти, невозможна без названия. Всё, что надлежит помнить, хранится в словесных текстах, что и позволяет считать словесность важнейшим хранилищем памяти».
Рассматривая словесность в этом аспекте, следует иметь в виду, что к хранению памяти имеют отношение различные виды текстов. В первую очередь следует назвать устные тексты, хранящие живую память горожан, передающих от поколения к поколению названия элементов городского пространства, легенды, предания, присловья, шутки. Параллельно с ними печатные тексты (документы, периодики, книги, в том числе научные описания) фиксируют официальную память, которая часто расходится с живой памятью горожан в отборе значимых фактов и их оценках. Особое место занимают среди «хранителей памяти» тексты городской среды — надписи на памятниках и зданиях, таблички с названиями улиц. Помимо такого разделения, интересующие нас тексты важно увидеть в жанровом разнообразии — документы, в том числе архивные материалы, научные и научно-популярные, литературные произведения (стихи, повести, романы). Осознавая важность этой проблемы в теоретической аспекте, рассмотрим его практически — на примере словесности Великого Новгорода, общие представления о которой изложены в [3].
Великий Новгород, отмечающий в следующем году свое 1160-летие, обладает огромнейшими запасами культурной памяти, хранящейся во всех «хранилищах». Признавая важность исследования живой памяти, литературных памятников всех времен, в настоящей работе остановимся на текстах городской среды. Минимальным таким текстом считаем название городской реалии — городское имя, хранящееся в памяти горожан, документах, научных текстах, иногда в художественных текстах (стихах, романах), а в современности — на специальных текстах городской среды, уличных табличках.
Городские имена Великого Новгорода, зафиксированные в летописях, известны со Средневековья, систематически описаны в справочниках прошлого и текущего столетия [4]. Их анализ показывает, что для городских имен не характерна функция увековечения, или меморативная; она появляется у них в Новгороде, как и во всех российских городах, только в начале ХХ века. До этого они выполняли работу различения фрагментов городского пространства — улиц, переулков, площадей.
Меморативная функция возникает у городских имен не в процессе городской жизни, а волевым решением большевистской власти. Так, в 1919 г. постановлением Губисполкома в Новгороде появляются улицы Либкнехта, Урицкого, Бебеля, Свердлова... [5, с. 159] — всего 14 новых имен, из них три писателей — Чернышевский, Толстой, Максим Горький. Существенное отличие этих новых для горожан имен состояло в том, что названия ничего не сообщали об именуемых улицах, а предлагали помнить неких лиц. При этом ни одно из этих лиц не отзывалось в живой памяти горожан, хотя, безусловно, многие могли знать писателей. Остальных надо было знать и помнить как деятелей революции, иногда мировой. Можно предположить, что такое «залповое» переименование было культурным шоком для новгородцев, именно тогда создалось противоречие между живой памятью горожан и тем, что властным жестом предписывалось помнить. Как было воспринята перемена в именовании улиц в 1919 году, мы не знаем (хотя можно предположить, что люди переживали и большие потери и не придавали большого значению изменению имен улиц), но в конце прошлого
века и начале текущего наметившееся противоречие вызывало конфликты, в которые втягивались широкие слои горожан.
Первый такой конфликт относится к 1993 году. В сентябре 1991 года в Новгороде решение горсовета были переименованы практически все улицы в пределах окольного вала. Инициаторы этой номинативной операции (историки, главным образом) полагали, что, возвращая на карту города досоветские названия, они восстанавливают справедливость. А многим показалось, что таким образом пытаются стереть память о тех, кто отдал свои жизни за город во время войны. Память о войне была в конце века живее, чем память о средневековых улицах, которые не были предметом живого памятования. К тому же отказ от имен героев выглядел неблагодарностью по отношению к тем, кто воевал за город. Этот серьезный конфликт «разных памятей» привел к тому, что властью было принято компромиссное решение сделать названия улиц двойными, сохраняя имена героев и восстанавливая из небытия средневековые названия. В итоге в городе до сих пор десяток двойных имен улиц — Конюхова-Черемнова, Фрунзе-Оловянка, Герасименко-Маницына на Торговой стороне; Мерецкова-Волосова, Мусы Джалиля-Духовская, Бредова-Звериная, Каберова-Власьевская, Литвинова—Лукина, Телегина-Редятина — на Софийской. Уникальные в языковом отношении, эти имена оказываются своеобразным памятником конфликтности культурной памяти, сложности выбора приоритетов для меморативных фиксаций средствами имен городской среды.
Этот конфликт повторился в 2005 году, когда в рамках подготовки к полувековому юбилею Победы ветераны обратились в Топонимическую комиссию с требованием вернуть главной площади города название «площадь Победы», видя в этом средство более эффективного поддержания памяти о славной Победе. Другие горожане уже успели за почти полтора десятка лет привыкнуть к возвращенному в 1991 году названию Софийская, тем более что оно существовало с XVIII века, и только советской властью было заменено на «9 января», а затем в 1946 году — на «Победы». Дискуссия вышла в городское публичное и медийное пространство, было устроено голосование в интернете, но в итоге — снова принято компромиссное название «Победы-Софийская» [5, с. 152]. Это имя — тоже памятник невыявленности мемориальных приоритетов, разнонаправленности векторов культурной памяти горожан.
В 2010 году меморативный конфликт возник вокруг проспекта Карла Маркса, который в связи с присвоением городу звания «Город воинской славы» властью решено было переименовать в «Проспект Воинской славы». Это решение вызвало сопротивление как членов топонимической комиссии, так и горожан, которые активно выражали свое отношение в интернете. Процесс поиск компромиссов длился десять месяцев: комиссия собиралась снова и снова, публикации следовали одна за другой, интернет стал картиной мнений и собранием аргументом против переименования. Подробно эта ситуация рассмотрена в [6], в плане обсуждаемых здесь вопросов стоит подчеркнуть такой момент: обнаружилось, что если для власти городское имя — только инструмент увековечения, то для горожан — оно оказывается объектом памяти, частью биографического контекста. Кроме того, новгородцы устали от бесконечных переименований городского пространства, это лишает город идентичности самому себе: то, что вчера было одним, сегодня уже другое, а послезавтра — неизвестно что. Безотносительно к оценке лица, которое увековечено в имени улицы, само это имя воспринимается горожанами как примета городского пространства, и они не хотят жить в городе бесконечно меняющихся примет. Сегодня мы можем судить об отношении горожан к городским именам уже потому, что у них появился канал выражения своего мнения — интернет.
Интересно, что в топонимическом сознании новгородцев, которое теперь есть возможность наблюдать и анализировать, нет протеста против меморативных имен вообще (это внедрено советской властью накрепко), но есть требование к отбору увековечиваемых — они должны быть связаны с городом — хоть как-то. Видимо, это требование сформировано изменениями списка меморативных имен в ходе прошлого века: отбор персон и событий для поддержания памяти о них, можно сказать, «приближался» к городу. Если в списке 1919 года преобладали деятели революции, деятельность которых осуществлялась вне Новгорода, то после войны их вытеснили имена героех, отдавшие жизнь за город. Имена этих людей надо было помнить потому, что с городом была связана не жизнь их, а геройская гибель.
Лишь несколько человек из меморативного списка Великой Отечественной войны разделили с новгородцами послевоенное житье. Это герой Сталинграда Яков Павлов (выражение «дом Павлова» вошел в общенациональную память о Сталинградской битве) и Игорь Александрович Каберов, который уходил на фронт из Новгорода, был летчиком-истребителем, вернулся, работал на заводе «Квант», основал авиаклуб, который носит его имя наряду с улицей. Примечательно, что и новая школа, принявшая первых школьников 1 сентября 2018 года, стала носить имя Каберова.
Итак, городское имя как инструмент официально культивируемой памяти — инструмент в руках власти; горожане готовы пользоваться такими именами, предпочитая персоны, связанные с историей города и его современной жизнью.
При этом важно отметить, что независимо от политики увековечения с помощью городских имен, многие из них оказываются хранителями памяти просто потому, что они присутствуют в городской среде и оказываются свидетелями разнообразных событий. Это можно продемонстрировать, обратившись к трем таким имена — Торговая сторона, Софийский собор, Акрон.
Городское имя ТОРГОВАЯ СТОРОНА именует правобережную часть Великого Новгорода, но это не просто географическое обозначение — оно хранит память о новгородском Торге, который уже в XII веке был
«центром экономической жизни не только города, но и всей Новгородской земли» [7, с. 455]. Торг состоял из множества рядов, которые составляли лавки («лавицы»), поэтому современная мода на лавки в новгородском контексте воспринимаются как цитата из древнего Торга, хотя именно такие лавки вряд ли можно было найти там ТАБАЧНАЯ, ЦВЕТОЧНАЯ, ЧАЙНАЯ, РЫБНАЯ, ИНТЕРЬЕРНАЯ, ЛАВКА МАСТЕРОВ — это реальные вывески современного города. О том, какие лавки и какие ряды были на Торгу в далекие века, можно прочитать хотя бы в процитированной энциклопедической статье. Память о Торге поддерживают не только энциклопедические статьи, но и сама городская среда: линия торговых павильонов на улице Федоровский ручей украшена вывеской ТОРГОВАЯ СТОРОНА.
Имя СОФИЙСКИЙ СОБОР, или в городском речевом обиходе София, носит самый древний собор в России. Построенный в середине XI века, собор стал эмблематическим изображением города и «центром городской панорамы» [8, с. 504]. Новгород мыслился как Дом Софии, премудрости Божией (тогда как Псков — Дом Троицы), София — небесным покровителем города, новгородцев называли софиянами [9, с. 645]. Софийский собор (в отличие от Торга) — реально присутствует в современной городской среде, трудно представить новгородца, который не бывал в нем. Однако память сохраняет события, которые пришлось пережить храму: разрушения и обрушения, ремонты, пристройки и перестройки, реконструкции, закрытие, музей атеизма, возвращение церкви [10]. София постоянно дает повод писать и говорить о ней: пасхальные и рождественские крестные ходы, возвращение из Испании купольного креста и размещение его в алтарной части, орнитологическая охрана куполов.
АКРОН — название новгородского предприятия, производящего минеральные удобрения. Горожане помнят старое название химического комбината «Азот», как заманчиво звучали в 60-годы прошлого века слова «большая химия», как завод построил новый район Новгорода, который назвали Западный, а одним улицам в нем дали имена ученых Ломоносова, Зелинского, а другим — главных ценностей Мира, Свободы. АКРОН — один из основных ньюсмейкеров в городе: то объявляется об открытии новой производственной линии, то о сокращении рабочих мест.
Три приведенных имени называют фрагмент городского пространства, храм и завод, но все они оказываются «носителями» памяти об именуемых объектах, которая пополняется новой информацией или «стирается» временем, но остается частью культурной памяти города. Сопоставление их с меморативными именами, рассмотренными ранее, позволяет сформулировать ряд выводов об отношении городских имен к культурной памяти.
Имя городского объекта, независимо от того, дано оно для увековечения кого-то / чего-то или только для отличия именуемого объекта от других, становится хранителем памяти как в масштабах культуры города, так и в плане биографическом для горожан. Это обстоятельство позволило советской власти сделать городские имена инструментом насаждения официальной памяти о персонах, событиях и датах, значимых для коммунистической идеологии. Однако этот грандиозный и многолетний эксперимент (его масштабы можно оценить при знакомстве с [11]) нельзя признать удачным: городское имя растворяется в повседневной жизни города, и из персоноориентированного становится знаком локуса. А локальные знаки, оказываясь частью городской жизни, становятся хранителями памяти не столько об увековеченной персоне, сколько о городе и живущих в нем людях. Если бы рассмотреть реальные смыслы, которые складываются вокруг названия «улица Ленина» в разных городах, можно было бы увидеть интересную картину.
Формулируя отношение к проблеме, вынесенной в название статьи, можно сказать, что минимальные произведения словесности — городские имена, оказываются хранителями культурной памяти города независимо от того, используют ли их в качестве инструментов увековечения. Однако память, которую они хранят, надо изучать, обращаясь как к официальным источникам, так и к живой памяти горожан разных поколений. Другие произведения словесности — мемориальные доски, надписи памятников, стихи и проза — требуют особого рассмотрения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Новгородской области в рамках научного проекта № 18-411-530001 «Культурная память города в современных коммуникативных практиках».
Статья написана на основе выступления на научно-практической конференции ИГУМ НовГУ «Инструменты формирования культурной памяти города» (30 мая 2018).
1. Культурная память в контексте формирования национальной идентичности России в XXI веке: Коллективная монография / Новый ин-т культурологии; отв. ред. Н.А.Кочеляева [Электр. ресурс]. М.: Совпадение, 2015. 168 с. URL: http://newrik.ru/wp-c0ntent/upbads/2016/07/M0N0GR_27-07-15_2.pdf (дата обращения: 01.08.2018).
2. Федотова Н.Г. Культурная память города: концептуальный анализ [Электр. ресурс] // Ученые записки НовГУ. 2018. № 3(15). URL: http://www.novsu.ru/file/1450165 (дата обращения: 01.08.2018).
3. Шмелева Т.В. Новгородская словесность: учебное пособие. Великий Новгород, 2016. 183 с.
4. Шмелева Т.В. Имена городского пространства Великого Новгорода в зеркале трех описаний // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. Серия «Гуманитарные науки». 2014. N° 83. Ч. 1. С. 106-110.
5. Запольская О.В., Моисеев С.В. Улицы Великого Новгорода. Великий Новгород, 2010. 192 с.
6. Шмелева Т.В. Переименование улиц сегодня: новые аспекты проблемы // Новый топонимический журнал. 2010. № 4. С. 44-49.
7. Сорокин А.Н. Торг новгородский // Великий Новгород. История и культура IX—XVII веков: Энциклопедический словарь. СПб.: Нестор-История, 2007. С. 455-456.
8. Комеч А.И. Софийский собор // Великий Новгород. История и культура IX—XVII веков: Энциклопедический словарь. СПб.: Нестор-История, 2007. С. 504-505.
9. Дьяченко Гр. Полный церковнославянский словарь. М., 1900; репринтное воспроизведение. М.: Отчий дом, 2006. 1120 с.
10. Терская И.В. Софийский собор // Архитектурное наследие Великого Новгорода и Новгородской области. Каталог. СПб.: Спас, Лики России, 2014. С. 94-102.
11. Поспелов Е.М. Имена городов: вчера и сегодня (1917—1992): Топонимический словарь. М.: Русские словари, 1993. 250 с.
References
1. Kochelyaeva N.A., ed. Kul'turnaya pamyat' v kontekste formirovaniya natsional'noy identichnosti Rossii v XXI veke: Kollektivnaya monografiya [Cultural memory in the context of the formation of national identity of Russia in the XXI century]. Moscow, 2015. 168 p. Available at: http://newrik.ru/wp-content/uploads/2016/07/MONOGR_27-07-15_2.pdf (accessed: 01.08.2018).
2. Fedotova N.G. Kul'turnaya pamyat' goroda: kontseptual'nyy analiz [Cultural memory of the city: conceptual analysis]. Memoirs of NovSU, 2018, no. 3(15). URL: http://www.novsu.ru/file/1450165 (data obrashcheniya: 01.08.2018).
3. Shmeleva T.V. Novgorodskaya slovesnost': uchebnoe posobie [Novgorod's Slovesnost]. Velikiy Novgorod, 2016. 183 p.
4. Shmeleva T.V. Imena gorodskogo prostranstva Velikogo Novgoroda v zerkale trekh opisaniy [The names of the urban space of Veliky Novgorod in the mirror of three descriptions]. Vestnik of NovSU, Gumanitarnye nauki series, 2014, no. 83, part 1, pp. 106-110.
5. Zapol'skaya O.V., Moiseev S.V. Ulitsy Velikogo Novgoroda [The Streets Of Velikiy Novgorod]. Velikiy Novgorod, 2010. 192 p.
6. Shmeleva T.V. Pereimenovanie ulits segodnya: novye aspekty problemy [Renaming streets today: new aspects of the problem]. Novyy toponimicheskiy zhurnal, 2010, no. 4, pp. 44-49.
7. Sorokin A.N. Torg novgorodskiy [The marketplace in Novgorod]. Velikiy Novgorod. Istoriya i kul'tura IX—XVII vekov: Ehntsiklopedicheskiy slovar'. Saint Petersburg, 2007, pp. 455-456.
8. Komech A.I. Sofiyskiy sobor [Sophia cathedral]. Velikiy Novgorod. Istoriya i kul'tura IX—XVII vekov: Ehntsiklopedicheskiy slovar'. Saint Petersburg, 2007, pp. 504-505.
9. D'yachenko Gr. Polnyy tserkovnoslavyanskiy slovar' [Full Church Slavonic dictionary]. Moscow, 1900; reprint. Moscow, 2006. 1120 p.
10. Terskaya I.V. Sofiyskiy sobor [Sophia cathedral]. Arkhitekturnoe nasledie Velikogo Novgoroda i Novgorodskoy oblasti. Katalog. Saint Petersburg, 2014, pp. 94-102.
11. Pospelov E.M. Imena gorodov: vchera i segodnya (1917—1992): Toponimicheskiy slovar' [The names of the cities: yesterday and today]. Moscow, 1993. 250 p.
Shmeleva T.V. Slovesnost and cultural memory of the city. The article deals with urban names in the aspect of their relationship to the cultural memory of the city. The material for consideration were the names of streets and squares of Veliky Novgorod. Contrasted with the names spontaneously formed and specially introduced into the urban environment for the perpetuation of persons and events, in the latter case, the names act as instruments of perpetuation. It is emphasized that this practice was formed in Soviet times, and in Novgorod the first series of perpetuating names appears in 1919. Three conflict situations related to the decisions of the city authorities on renaming are analyzed. It is concluded that both types of names store information about the culture of the city, but some — the living memory of citizens, and others — the official memory of the persons, events and dates associated with the ideology.
Keywords: city, Veliky Novgorod, literature, city names, cultural memory, perpetuation.
Сведения об авторе. Т.В.Шмелева — доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры журналистики Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого; szmiel@mail.ru.
Статья публикуется впервые. Поступила в редакцию 25.08.2018.





 CC BY
CC BY 30
30