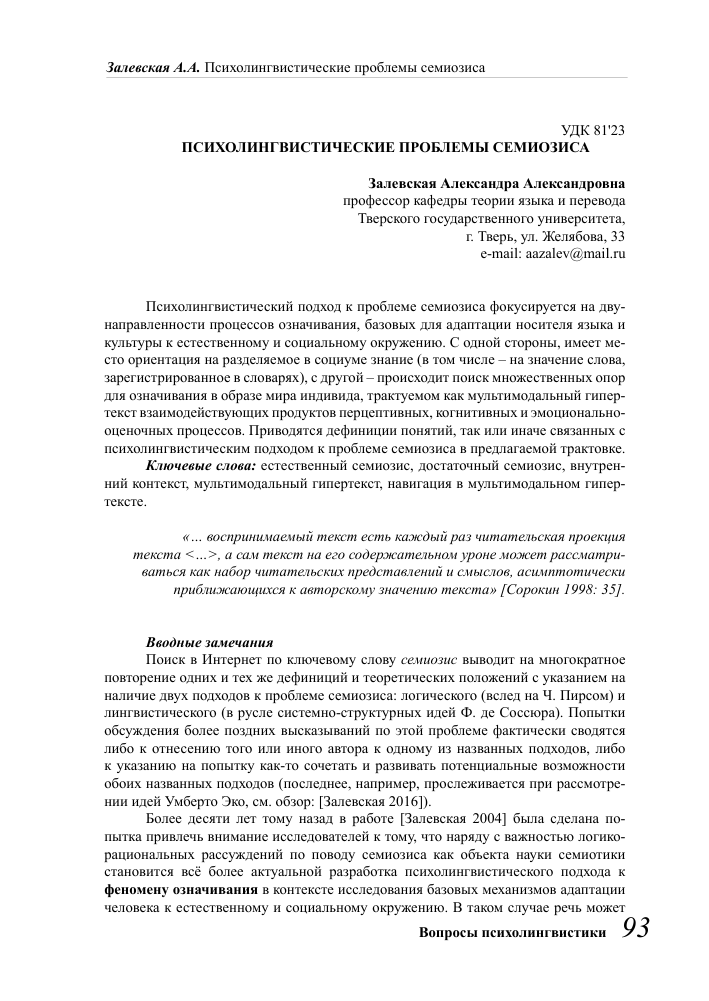УДК 81'23
психолингвистиЧЕскиЕ проблемы семиозиса
Залевская Александра Александровна
профессор кафедры теории языка и перевода Тверского государственного университета, г. Тверь, ул. Желябова, 33 e-mail: aazalev@mail.ru
Психолингвистический подход к проблеме семиозиса фокусируется на дву-направленности процессов означивания, базовых для адаптации носителя языка и культуры к естественному и социальному окружению. С одной стороны, имеет место ориентация на разделяемое в социуме знание (в том числе - на значение слова, зарегистрированное в словарях), с другой - происходит поиск множественных опор для означивания в образе мира индивида, трактуемом как мультимодальный гипертекст взаимодействующих продуктов перцептивных, когнитивных и эмоционально-оценочных процессов. Приводятся дефиниции понятий, так или иначе связанных с психолингвистическим подходом к проблеме семиозиса в предлагаемой трактовке.
Ключевые слова: естественный семиозис, достаточный семиозис, внутренний контекст, мультимодальный гипертекст, навигация в мультимодальном гипертексте.
«... воспринимаемый текст есть каждый раз читательская проекция текста <...>, а сам текст на его содержательном уроне может рассматриваться как набор читательских представлений и смыслов, асимптотически приближающихся к авторскому значению текста» [Сорокин 1998: 35].
Вводные замечания
Поиск в Интернет по ключевому слову семиозис выводит на многократное повторение одних и тех же дефиниций и теоретических положений с указанием на наличие двух подходов к проблеме семиозиса: логического (вслед на Ч. Пирсом) и лингвистического (в русле системно-структурных идей Ф. де Соссюра). Попытки обсуждения более поздних высказываний по этой проблеме фактически сводятся либо к отнесению того или иного автора к одному из названных подходов, либо к указанию на попытку как-то сочетать и развивать потенциальные возможности обоих названных подходов (последнее, например, прослеживается при рассмотрении идей Умберто Эко, см. обзор: [Залевская 2016]).
Более десяти лет тому назад в работе [Залевская 2004] была сделана попытка привлечь внимание исследователей к тому, что наряду с важностью логико-рациональных рассуждений по поводу семиозиса как объекта науки семиотики становится всё более актуальной разработка психолингвистического подхода к феномену означивания в контексте исследования базовых механизмов адаптации человека к естественному и социальному окружению. В таком случае речь может
идти о естественном (спонтанном) семиозисе, обеспечивающем саму возможность познания и общения. Такая задача требует иного, междисциплинарного (интегра-тивного по своей сути) подхода, в первую очередь учитывающего специфику человека как носителя языка и культуры, осуществляющего процессы означивания при взаимодействии многих внешних и внутренних факторов.
Поскольку «воспринимаемый текст есть каждый раз читательская проекция текста» (см. эпиграф), что ведет к разночтению трактовок сути семиозиса, домысливанию более широкого контекста и вытекающих из него следствий, задаваемых исходными теоретическими координатами читающего, предлагаемая статья посвящена уточнению представлений о специфике естественного семиозиса, сложившихся у меня в ходе многолетней экспериментальной работы со словом как достоянием носителя языка и культуры, т.е. с позиций исследования особенностей функционирования слова как «живого знания». Логика изложения подсказана теми вопросами теории, которые то и дело всплывают в ходе психолингвистического портретиро-вания лексики, точнее - выявления того, что лежит за словом в предшествующем опыте человека и обеспечивает взаимопонимание между людьми.
Актуальные вопросы функционирования слова у индивида
В процессах познания и общения мы мгновенно решаем сложнейшие задачи означивания воспринимаемого слова или текста и/или поиска именования того, о чём хотим сообщить. Поскольку на «табло сознания» попадают только конечные продукты ряда взаимодействующих процессов, создаётся ложное впечатление, что мы «думаем словами», слово означает нечто само по себе («имеет» значение), благодаря слову мы «передаём» мысли собеседникам и т.д. и т.п. К сожалению, подобные мифы, в том числе порождаемые буквальным прочтением стёршихся метафор, до сих пор продолжают имплицироваться некоторыми научными дефинициями и теоретическими положениями. Один такой миф непосредственно связан с идеей достаточности цепочки интерпретант - различных вербальных формулировок, каждая из которых опирается на предшествующую и подготавливает последующую, т.е. вербальная манифестация выступает самодостаточным продуктом семиозиса. Такая ситуация порождается ряд вопросов, к числу которых относятся следующие.
Что может в принципе пониматься под термином «семиозис»?
Чем различаются семиозис как объект логико-рационального рассуждения и семиозис как необходимая (базовая) составляющая естественной ситуации познания / общения?
Сводится ли семиозис к неограниченной замене вербальных интерпретант или такие интерпретанты составляют лишь одно из промежуточных звеньев более развёрнутого процесса поиска опор в предшествующем опыте человека?
Какую роль в процессе семиозиса играет значение слова?
Можно ли сводить проблему семиозиса к символической функции языкового знака и связанной с ним пропозиции, трактуемой как составляющая языкового знания?
Как соотносятся для индивида значение и смысл слова?
Откуда берётся значение слова и где оно «обитает»?
Обратим внимание на то, что постановка любого из этих и подобных им во-вопросы психолингвистики
просов вне более широкого контекста не может быть корректной и требует определённых уточнений. Например, возьмём вопрос типа «где обитает значение». Если имеется в виду социально принятое и соответствующим образом трактуемое с позиций системы языка описание того, что увязывается с некоторой словоформой, то имплицируется представление о том, что значение это «принадлежит» слову, вместе с которым оно «передаётся» другим людям в устной или письменной речи. Так возникает устойчивый миф, согласно которому слово как таковое означает нечто само по себе, хотя на самом деле оно не может ничего означать, если его не опознаёт человек, способный найти определённые опоры в своём опыте познания мира и самого себя. Если же мы имеем в виду значение как достояние пользующегося языком человека, вроде бы становится очевидным, что значение находится в голове, хотя такой ответ также имплицирует некоторые широко распространённые мифы. К числу таких мифов относится господствующее в публикациях последних лет утверждение, что речь должна идти о концептосфере человека, при этом предлагаемые описания концептов поразительно похожи на детализацию объёма и содержания понятий с позиций логико-рационального подхода. Тем самым игнорируются современные идеи взаимодействия тела и разума человека, взаимосвязи перцептивной, когнитивной и эмоционально-оценочной сфер личности, а также распределённости знания между индивидами и социумом, важности разделяемого знания и т.д. Иначе говоря, оказывается, что при ориентированном на человека ответе на поставленный вопрос необходимо учитывать сложное взаимодействие многих внешних и внутренних факторов, позволяющих нам каким-то образом находит опоры для взаимопонимания в нашей памяти чувственного восприятия, физических и умственных действий, образов и переживаний, актуальность следов которых всегда зависит от объективной и субъективной частотности таких следов, как и от наличных ситуаций, мотивов, приоритетов, личностных установок, этнокультурных пристрастий и предубеждений и т.д.
Точно так же невозможно однозначно ответить на вопрос о соотношении значения и смысла слова. Существует мнение, согласно которому значение объективно, принадлежит социуму, а смысл субъективен, вариативен, приписывается слову отдельной личностью в том или ином контексте. Однако экспериментальные исследования процесса идентификации слова и понимания текста показывают, что носитель языка всегда ориентирован на смысл, он исходит из презумпции смысловой нагруженности всего воспринимаемого, вследствие чего нередко смысл приписывается ошибочно, в том числе за счёт фокусирования на неверно выделенных границах между словами, ошибочно акцентированных признаках и т.п. В реальной языковой ситуации для человека значение и смысл феноменологически слиты, поскольку участвуют в двунаправленном процессе означивания на «глубинном» уровне; они осознаются и разграничиваются только в разного рода осознаваемых метаязыковых ситуациях, когда значение слова выводится на уровни сознательного контроля или актуального осознавания.
Иначе говоря, нельзя отвечать на подобные вопросы «вообще», без соответствующих уточнений, ориентирующих на определённую исходную «систему координат», т.е. в данном случае - на теоретическую базу трактовки специфики
спонтанного семиозиса. Именно поэтому далее изложение ведётся с использованием последовательно вводимых дефиниций, цель которых состоит в снятии возможности разночтения или неточной трактовки обсуждаемых положений.
Некоторые особенности естественного семиозиса
Предлагаемые ниже ответы на некоторые из поставленных вопросов следует воспринимать как «пробные» формулировки, требующие дальнейших раздумий и обсуждения. Тем не менее, представляется важным привести хотя бы рабочие варианты дефиниций используемых терминов. К числу таких терминов относятся именования различных составляющих и особенностей естественного семиозиса (далее - ЕС), а также связанных с ним понятий. Выделение некоторых слов курсивом в составе дефиниции означает, что в общий перечень входит и дефиниция соответствующего термина. Порядок представления дефиниций определяется ходом изложения предлагаемой концепции, поэтому отсутствует упорядочение дефиниций по алфавиту.
Итак, под ЕСТЕСТВЕННЫМ СЕМИОЗИСОМ (далее - ЕС) в этой публикации понимается не любой процесс, в котором нечто функционирует как знак (см.: [Моррис 1983: 39]), а взаимодействие ряда процессов, протекающих на разных уровнях осознаваемости и имеющих своим продуктом переживание понятности носителем языка и культуры смысла воспринимаемой языковой единицы (слова или текста) или признание оправданности использования некоторого именования в речи в условиях адаптации индивида как члена общества и личности к естественному и социальному окружению. Далее оба направления семиозиса будут именоваться означиванием, хотя соответствующие процессы не трактуются как «зеркальные»
В работах А.Н. Леонтьева и А.А. Леонтьева выделены следующие УРОВНИ ОСОЗНАВАЕМОСТИ деятельности человека: актуальное сознавание, сознательный контроль, бессознательный контроль, неосознаваемое. Выше уже отмечалось, что осознаются только конечные продукты процессов, протекающих на «глубинных» уровнях; это важно помнить при исследовании специфики ЕС, что требует обращения к моделированию речемыслительного процесса и анализу ошибок понимания и интерпретации текста (при встрече с неверно понятым или неточно поименованным происходит переход на более «высокий» уровень осознаваемости).
Следует уточнить, что тем самым предлагаемая трактовка ЕС напрямую увязывается с разграничением языковой ситуации и метаязыковой ситуации. Под ними понимается следующее.
ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ - это ситуация общения или понимания текста в естественных условиях, не вызывающих затруднений и не требующих целенаправленного осознаваемого поиска и/или анализа языковых средств, уточнения степени их соответствия замыслу высказывания, ситуации, контексту и т.п.
МЕТАЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ складывается по меньшей мере в следующих случаях: 1) при необходимости осмысления значения слова как опоры для исправления речевых ошибок; в ходе преодоления неоднозначности при встрече с некоторым видом «языковой игры»; при поиске разделяемого знания для достижения взаимопонимания в процессе общении; 2) при целенаправленном логико-рациональном анализе языковых явлений в исследовательских целях; 3) в профессиональной деятельности поэта, писателя, переводчика и т.д.
Общим для обеих ситуаций является то, что означивание возможно только через взаимодействие ряда процессов, направляемых как внешним, так и внутренним контекстом.
ВНЕШНИЙ КОНТЕКСТ - вербальное (текстовое) и невербальное (ситуативное) сопровождение слова, обычно снимающее неоднозначность и ориентирующее на развёртывание поиска необходимых опор (цепочек языковых и энциклопедических выводных знаний) при понимании слова / текста и/или продуцировании сообщения (в условиях языковой игры внешний контекст ориентирует означивание на поиск по ложному направлению).
ВНУТРЕННИЙ КОНТЕКСТ - широкая сеть связей по множеству направлений поиска опор в мультимодальном гипертексте предшествующего опыта «для себя» как «свидетельств» правильности идентификации слова / понимания текста или обоснованности использования некоторой языковой единицы «для других» как базы для выхода на разделяемое знание.
РАЗДЕЛЯЕМОЕ ЗНАНИЕ - принятое в некотором социуме (от минимальной ячейки общества до этнокультуры в целом) и закреплённое за некоторой языковой единицей толкование, увязываемое с определённым чувственным или мысленным образом, признаком, действием и т.д., обычно регистрируемое в словарях и/или других справочных изданиях, соотносимое с артефактами, памятниками культуры и т.д.
Разделяемое знание является также РАСПРЕДЕЛЁННЫМ (в разных смыслах этого слова): а) между членами социума; б) между разными форматами хранения знания как культурного наследия этноса; в) между телом и разумом индивида, его физическими и умственными действиями, которые сопровождаются эмоционально-оценочными переживаниями и т.д.
ДВУНАПРАВЛЕННОСТЬ естественного семиозиса вытекает из двойственной онтологии значения (см. работы А.Н. Леонтьева и А.А. Леонтьева) как продукта постоянного взаимодействия двух факторов: социального (или социокультурного) и индивидуального (личностного), что требует обязательного соотнесения результатов означивания «для себя» с квантами разделяемого знания, закреплёнными за словоформами, и способами их употребления в речи («для других»). Это определяет медиативную функцию значения слова как средства доступа к образу мира индивида (т.е. к «индивидуальному знанию») и как средства контроля соответствия продукта означивания «коллективному знанию».
Принятая линия рассуждений приводит к выводу, что значение слова вовсе не является конечным этапом означивания: оно только указывает нам на ракурс «видения» некоторой ситуации, объекта, действия и т.п. с позиций разделяемого знания, в то время как главным оказывается то, что лежит за значением слова в нашем опыте познания и общения и может трактоваться как мультимодальный гипертекст нашего образа мира, вне которого означивание оказывается невозможным.
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ГИПЕРТЕКСТ предшествующего опыта - широчайшая сеть продуктов переработки опыта познания и общения посредством перцептивных и когнитивных процессов, сопровождаемых эмоционально-оценочными переживаниями и наличием множественных связей по признакам и признакам признаков, этнокультурная и личностная значимость которых может различаться;
любой признак или признак признака может выполнять функцию своеобразной «гиперссылки», или «аттрактора», актуализируя соответствующие чувственные и мысленные образы и вязи между ними как «свидетельства» вероятной достоверности смысла, приписываемого языковой единице / тексту в определённый момент. Фактически речь идёт о самоорганизующейся динамической системе, формирующейся по закономерностям физиологической и психической жизни индивида, но под контролем социума, и функционирующей в качестве внутреннего контекста, ориентированного на решение задач адаптации к постоянно изменяющимся ситуациям естественного и социального окружения.
Навигация по мультимодальному гипертексту реализуется через посредство механизма глубинной предикации и направляется замыслом высказывания при продуцировании речи или значением воспринимаемого слова через некоторый набор топов при взаимодействии внешнего и внутреннего контекста.
НАВИГАЦИЯ в мультимодальном гипертексте - это поиск опор и цепочек выводных знаний в мультимодальном гипертексте предшествующего опыта для переживания понятности и/или достоверности смысла идентифицируемой или используемой языковой единицы; направляется взаимодействием топов как продуктов максимальной компрессии смыла, обеспечивающих взаимопонимание между носителями разных языков и культур.
ГЛУБИННАЯ ПРЕДИКАЦИЯ - акт замыкания связи во внутреннем контексте как основание для переживания понятности воспринимаемого или обоснованности использования выбранного именования некоторого объекта, действия, состояния, ситуации и т.д. Особую роль при этом играют признаки разных модальностей, выведенные из продуктов познания миры и/или приписываемые / мифологизируемые в некоторой лингвокультуре.
ТОПЫ - набор базовых форм мысли, продуктов максимальной компрессии смысла типа: КТО? ГДЕ? КОГДА? КАКОЙ? ЗАЧЕМ? ПОЧЕМУ? и т.д., направляющих навигацию в мультимодальном гипертексте и обеспечивающих целостность переживания некоторой ситуации со всеми её составляющими и характеристиками, импликациям, пресуппозициями, возможными следствиями и прогнозами; на осознаваемый уровень выводятся только продукты такого поиска, актуальные для текущей ситуации, в то время как цепочки выводных знаний по линиям других топов учитываются на уровне неосознаваемого контроля и в случае надобности могут быть вербализованы.
Обращение к внутреннему контексту через развёртывание цепочек выводных знаний по ряду топов может быть в разной мере «широким» и «глубоким», при этом в условиях реального ЕС решающую роль играет достижение уровня достаточного семиозиса.
ДОСТАТОЧНЫЙ СЕМИОЗИС - торможение или остановка процессов се-миозиса на уровне, обеспечивающем наличие социокультурно разделяемого знания как основы для взаимопонимания при общении или при неоднозначности воспринимаемой ситуации (в том числе при чтении текста). Термин sufficient semiosis введён в работах: [Ruthrof 1998; 2000] (см. обсуждение: [Залевская 2016]).
Приведённые положения представляются важными для дальнейшей разработки психолингвистического подхода к проблеме ЕС.
Обсуждение некоторых дефиниций и поставленных вопросов
Детальное обсуждение затронутых выше вопросов потребовало бы написания монографии, включающей к тому же более или менее детальный обзор имеющихся точек зрения и соображений. Поэтому ограничусь фокусированием только на отдельных принципиально важных особенностях ЕС.
Прежде всего, следует признать, что по вполне понятной причине предлагаемая трактовка специфики ЕС не согласуется с некоторыми базовыми установками классической теории семиозиса, в том числе с указанием Ч. Морриса на то, что «... общая теория знаков не должна себя связывать с какой-либо конкретной теорией о том, что происходит, когда нечто учитывается благодаря использованию знака» [Моррис 1983: 41]. В нашем случае потребность в такой теории очевидна: исследование естественного семиозиса фокусируется именно на том, что происходит при означивании. Обратим внимание на то, что и сам Ч. Моррис уточняет, что не обязательно отрицать «индивидуальный опыт» процесса семиозиса [Ibid.], Таким образом, речь идёт не столько о противоречии классической теории, сколько о взгляде на семиозис с иной позиции. Представляется возможным ставить вопрос о взаимодополнительности разных подходов к тому, что может пониматься под семиози-сом, и если фокусирование на системе отношений между компонентами семиозиса, измерениях и уровнях семиозиса оправдано тем, что «... семиология изучает не мыслительные операции означивания, но только коммуникативные конвенции как феномен культуры (в антропологическом смысле слова)» [Эко 1998: 54], то, наоборот, именно мыслительные операции означивания и то, что с ними связано, выходят на передний план при изучении специфики ЕС.
Обсуждения требуют и расхождения между трактовкой специфики ЕС и такими понятиями «чистой семиотики», как итерпретанта и неограниченный семиозис.
Известно, что разработанная Ч. Пирсом идея семиозиса как перевода не получила «выхода» за пределы системы знаков, поскольку, как подчеркивает У Эко, «... интерпретанта это не интерпретатор, т.е. тот, кто получает и толкует знак, хотя Пирс не всегда достаточно четко различает эти понятия. Интерпретанта это то, благодаря чему знак значит даже в отсутствие интерпретатора» [цит. раб: 53]. Тем самым имплицируется самодостаточность знака, что в более поздних работах самого У Эко опровергается хотя бы введением понятий «перцептивного семиозиса», «ядерного содержания», «когнитивного типа», «поливариативности» восприятия реальности и интерпретации текста и т.п., а также обсуждением ярких примеров того, как решаются задачи означивания и именования при встрече с необычными объектами и ситуациями (см.: [Эко 2000]). Представляется также принципиально важным заметить, что рассматриваемые У. Эко понятия ядерного смысла и когнитивного инварианта увязывают разделяемое знание и то, что лежит за словом у индивида, что даёт основания для заключения о фактически имевшем место значительном шаге в сторону выявления специфики естественного семиозиса, в то время как понятие перцептивного семиозиса не согласуется с установкой на исследование актов «чистого сознания» или «чистого разума».
Попытка остаться строго в рамках системы знаков как таковых связана также с работами в области неограниченного семиозиса, в которых речь идёт о возможности многократного перехода от одной интерпретанты к другой, т.е. вербаль-
ного переформулирования. Обратим внимание на то, что при принципиальном расхождении в решении вопроса о возможности / невозможности выхода за рамки вербальных интерпретант, психолингвистический подход принимает саму идею неограниченного семиозиса, поскольку навигация по мультимодальному гипертексту предшествующего опыта может идти как угодно долго и «далеко» по разным направлениям при постоянной динамике этого «живого» внутреннего контекста, который каждый раз «высвечивает» в голограмме образа мира именно то, что актуально «здесь и сейчас», обогащая наше знание и меняя тональность нашего эмоционально-оценочного переживания некоторого объекта, действия и т.д., включенного в наличную или воображаемую ситуацию. Остановка такого процесса при достижении уровня достаточного семиозиса лишь объясняет, почему в реальной ситуации познания и общения нам приходится «притормозить»,
Специфика ЕС определяется, в частности, тем, что символическая функция слова у носителя языка функционирует не сама по себе, взятая в отрыве от процессов познания и общения, а при взаимодействии с другими функциями слова как достояния индивида (см. выше об одной из таких функций - медиативной).
Заключение
В своё время У Эко в связи с обсуждением взглядов Канта так высказался о сути семиозиса: ««... even if he realized that he was reducing knowledge to the knowledge of propositions (and therefore to linguistic knowledge), Kant could not have posed himself the problem, which Peirce was to set himself, that the nature of knowledge was not linguistic but semiotic» («... даже если бы он понимал, что сводит знание к знанию пропозиций (и тем самым - к языковому знанию), Кант не смог бы поставить проблему так, как это сделал Пирс: природа знания не языковая, а семиотическая») [Eco 2000: 71. Курсив автора, перевод мой. - А.З.]. Слово linguistic во многих ситуациях неоправданно переводят как лингвистический, что в данном случае с принятием такого перевода приводит к противопоставлению двух научных подходов к семиозису - лингвистического и семиотического. Однако представляется возможным прочесть приведенное выше высказывание У. Эко иначе, т.е. вывести иную проекцию текста (снова вернемся к эпиграфу, взятому из книги Ю.А. Сорокина), а именно: важнее всего природа знания. Пирс фокусировался на символической природе знания, Кант - на языковой, сводя понимание текста к пропозиции. Отсюда следует, что проблема Ес должна рассматриваться в более широком контексте природы знания и особенностей его функционирования в социуме и в жизни члена социума как личности. Поскольку языковое знание существует не само по себе и ради себя, а лишь как средство именования знания о мире, необходимого для пользования этим знанием в жизнедеятельности людей, рассмотрение знаковой функции языковых требует обращения к тому, что лежит за словом в социальном и личностном опыте.
К этому можно добавить, что знаковая функция реализуется во взаимодействии с другими функциями языка, в отрыве от которых её можно рассматривать только в ракурсе логико-рационального теоретизирования. Если речь идёт о ситуации естественного семиозиса, то необходим междисциплинарный (интегративный) подход, ориентированный на целенаправленное исследование и объяснение глу-
бинных механизмов формирования и функционирования продуктов мультимодаль-ной переработки многостороннего опыта взаимодействия человека с естественным и социальным окружением.
Попутно замечу также, что пропозиция - это не конечный элемент языкового знания, а переходный этап между формой мысли и речью: при продуцировании речи пропозиция направляет ход вербальной манифестации, уже заданный актуальным для ситуации «здесь и сейчас» топом как продуктом максимальной компрессии смысла, а при понимании речи / текста пропозиция выводит на наиболее вероятное для текущей ситуации сочетание топов; однако в любом случае это происходит в мультимодальном контексте предшествующего опыта познания и общения.
литература
Залевская А.А. Некоторые особенности естественного семиозиса // Слово и текст: психолингвистический подход: сб. науч. тр. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2004. Вып. 3. - С. 49-61.
Залевская А.А. Различные подходы к проблеме семиозиса: обзор // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 4 (в печати).
Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика. М.: Радуга, 1983. -
Сорокин Ю.А. Введение в этнопсихолингвистику. Ульяновск: УлГУ, 1998. -
Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. ТОО ТК «Петрополис», 1998. - 432 с.
Eco, U. (2000). Kant and the Platypus: Essays on Language and Cognition. San Diego, New York, London: Harcourt, Inc. 480 p.
Ruthrof, H. (1998). Semantics and the Body: Meaning from Frege to the Postmodern. Melbourne, Melbourne University Press. 321 p.
Ruthrof, H. (2000). The Body in Language. London; New York: Cassell. 193 p.
С.37-89.
138 с.
psycholinguistic problems of semiosis
Alexandra A. Zalevskaya
Professor of the department of linguistic theory and translation,
Tver State University, Tver, ul. Zhelyabova, 33 e-mail: aazalev@mail.ru
Psycholinguistic approach to semiosis starts from distinguishing two directions of signification basic for personal adaptation to natural and social environment. Thus, one of the directions leads to shared knowledge including word meanings registered in dictionaries, and the other - to some clues in personal world image treated as a multimodal hypertext of interconnected products of perceptual, cognitive and evaluation-emotional processes. Some problems of natural (spontaneous) semiosis are discussed.
Keywords: semiosis, natural semiosis, sufficient semiosis, the mediative role of word meaning in natural semiosis.
Zalevskaya A.A. Nekotorie osobennosty estestvennogo semiosisa [Some features of natural semiosis] // Slovo i text: psycholingviisticheskiy podchod. Tver, 2004, vyp. 4. Pp. 49-61.
Zalevskaya A.A. Razlitchnie podchodi k probleme semiosisa: obzor [Different approaches to the problem of semiosis: Review] // Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya. 2016. № 4/ (in press).
Morris, Ch. Osnovaniya teorii znakov [Foundations of the Theory of Signs] // Semiotika. M.: Raduga, 1983, pp. 37-89.
Sorokin Yu.A. Vvedeniye v psicholingvistiku [Introduction to psycholinguistics]. Ulyanovsk, 1998. 138 p.
Eco U. (1998). Otsutstvuychaya struktura. Vvedeniye v semiologiyu [Missing Structure: Introduction to Semiology]. Petropolis,
Ruthrof, H. (1998). Semantics and the Body: Meaning from Frege to the Postmodern. Melbourne, Melbourne University Press. 321 p.
Ruthrof, H. (2000). The Body in Language. London; New York: Cassell. 193 p.
References





 CC BY
CC BY 160
160