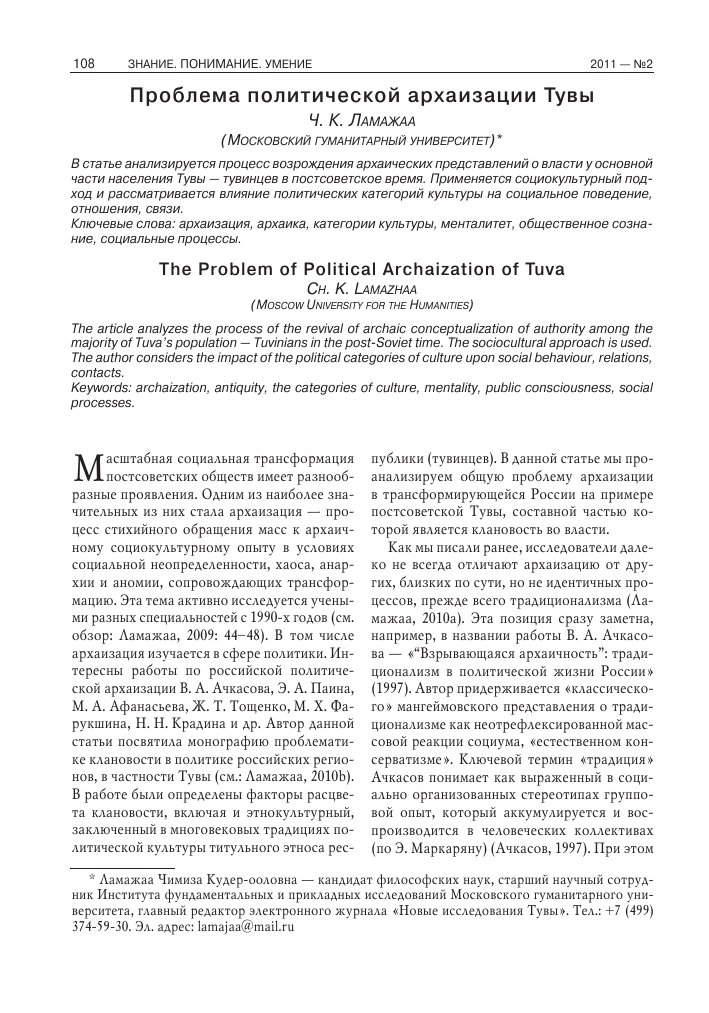Проблема политической архаизации Тувы
Ч. К. Ламажаа (Московский гуманитарный университет)*
В статье анализируется процесс возрождения архаических представлений о власти у основной части населения Тувы — тувинцев в постсоветское время. Применяется социокультурный подход и рассматривается влияние политических категорий культуры на социальное поведение, отношения, связи.
Ключевые слова: архаизация, архаика, категории культуры, менталитет, общественное сознание, социальные процессы.
The Problem of Political Archaization of Tuva
Ch. K. Lamazhaa
(Moscow University for the Humanities)
The article analyzes the process of the revival of archaic conceptualization of authority among the majority of Tuva’s population — Tuvinians in the post-Soviet time. The sociocultural approach is used. The author considers the impact of the political categories of culture upon social behaviour, relations, contacts.
Keywords: archaization, antiquity, the categories of culture, mentality, public consciousness, social processes.
Масштабная социальная трансформация постсоветских обществ имеет разнообразные проявления. Одним из наиболее значительных из них стала архаизация — процесс стихийного обращения масс к архаичному социокультурному опыту в условиях социальной неопределенности, хаоса, анархии и аномии, сопровождающих трансформацию. Эта тема активно исследуется учеными разных специальностей с 1990-х годов (см. обзор: Ламажаа, 2009: 44-48). В том числе архаизация изучается в сфере политики. Интересны работы по российской политической архаизации В. А. Ачкасова, Э. А. Паина, М. А. Афанасьева, Ж. Т. Тощенко, М. Х. Фа-рукшина, Н. Н. Крадина и др. Автор данной статьи посвятила монографию проблематике клановости в политике российских регионов, в частности Тувы (см.: Ламажаа, 2010Ь). В работе были определены факторы расцвета клановости, включая и этнокультурный, заключенный в многовековых традициях политической культуры титульного этноса рес-
публики (тувинцев). В данной статье мы проанализируем общую проблему архаизации в трансформирующейся России на примере постсоветской Тувы, составной частью которой является клановость во власти.
Как мы писали ранее, исследователи далеко не всегда отличают архаизацию от других, близких по сути, но не идентичных процессов, прежде всего традиционализма (Ламажаа, 2010а). Эта позиция сразу заметна, например, в названии работы В. А. Ачкасова — «“Взрывающаяся архаичность”: традиционализм в политической жизни России» (1997). Автор придерживается «классического» мангеймовского представления о традиционализме как неотрефлексированной массовой реакции социума, «естественном консерватизме». Ключевой термин «традиция» Ачкасов понимает как выраженный в социально организованных стереотипах групповой опыт, который аккумулируется и воспроизводится в человеческих коллективах (по Э. Маркаряну) (Ачкасов, 1997). При этом
* Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, главный редактор электронного журнала «Новые исследования Тувы». Тел.: +7 (499) 374-59-30. Эл. адрес: lamajaa@mail.ru
проявления революционного или контрреволюционного традиционализма (тотально отвергающего существующий порядок во имя возвращения прошлого) сближают этот процесс, по мысли автора, с феноменом «архаизма», о котором пишет польский исследователь Е. Шацкий. Сам же термин «взрывающаяся архаичность» позаимствован учеными у Томаса Манна, который писал о германском национал-социализме.
Многие работы об архаике, архаизации в российском обществе в силу того, что авторы не отличают архаизацию от традиционализма, посвящены, по сути, «разным» прошлым и далеко не всегда собственно архаическому. Авторы исследуют обращение масс то к советскому опыту, то к неким дооктябрьским ценностям, то к языческому прошлому и пр. Но традиции могут появиться в любое время. А если вспомнить о том, что понятие «архаика» этимологически восходит к греческому агсЬа1ко8 — «старинный, древний» и означает ранний этап в историческом развитии какого-либо явления, то очевидно, что для теории, исследующей социальные процессы, архаика — это ранний этап становления общества, формирования основных черт его культуры. Соответственно архаизация (социальная, политическая, экономическая и пр.) в строгом смысле слова должна рассматриваться как обращение общества к культурной программе именно этого раннего этапа.
Надо отметить, что в упомянутой работе
В. А. Ачкасова речь идет в том числе и об архаичных политических традициях. Однако в целом анализ автора основывается на следующей предпосылке: социальные кризисные условия приводят к утрате людьми всех основных видов идентичности, кроме этнической. Исследователь признает, что этническая идентичность при определенных обстоятельствах имеет ситуативный характер, однако, считает он, это касается преимущественно этнических маргиналов и эмигрантов. В целом же этническая идентичность понимается им как архаическая форма идентичности, включающая в себя общие тради-
ционные установки группы людей: народные религиозные верования, обычаи, язык, понимание истории, представление об общих предках, месте происхождения (там же: 7-25).
Такая довольно распространенная трактовка архаического и приводит, на наш взгляд, к тому, что исследователи анализируют архаизацию и традиционализм как явления одного порядка. Разумеется, в социальной жизни, особенно в постсоветское время, оба процесса сосуществуют, тесно переплетаясь. Однако с точки зрения глубины, масштабов и перспектив их протекания они различны; их можно и нужно отличать друг от друга. Архаизация как массовое обращение к архаическому прошлому — процесс более глубокий, связанный с архаическим — самым древним пластом культуры общества. Этническая идентичность включает в себя архаический пласт, но не исчерпывается им.
Для наиболее полного анализа процесса архаизации мы считаем целесообразным применить социокультурный подход, в котором социальные процессы исследуются на основе анализа культуры, понимаемой как программа деятельности человека, социальных групп, общества. В качестве метода указанного подхода используем понятие «менталитет», как его понимали представители известной французской школы «Анналов» (М. Блок, Л. Февр). По их мнению, в человеческом сознании в той или иной форме находят свое преломление самые разные проявления бытия, закрепляясь в системе образов, представлений, символов. Именно поэтому изучение менталитета, его составных рассматривается ими как возможность понять суть отдельных исторических феноменов, логику исторического процесса в целом. Большой вклад в развитие данной методологии внес А. Я. Гуревич и его последователи, писавшие об универсальных категориях культуры, содержащих свои системы смыслов в разных культурах, даже в разных исторических «пластах» одной культуры, которые определяют мотивацию поведения и де-
ятельности, выражаются в особенностях поведения и деятельности людей, социальных групп (Гуревич, 1972 и др.). В том числе, наукой уже накоплен определенный материал по категориям культуры тюркоязычных и монголоязычных кочевых этносов Центральной Азии, на которые мы и опираемся в своем анализе (см. напр.: Традиционное мировоззрение..., 1988; 1989; 1990; Жуковская, 1988; Крадин, 1993; Скрынникова, 1997 и др.). Мы будем использовать для работы в первую очередь данные об особенностях социально-политических категорий, прежде всего категорий власти, а также отношений господства и подчинения, форм осуществления власти.
Архаический период истории тувинцев относится к истории их предков — тюркоязычных и других племен1, т. е. к «прототу-винской» истории. Говоря об архаике истории и культуры тувинцев, мы говорим и об архаике истории и культуры других тюркоязычных, монголоязычных народов региона Центральной Азии — начиная с исторического периода не ранее второй половины II тыс. до н. э., когда в Центральной Азии появилось кочевое скотоводство, порвавшее с земледелием (Хазанов, 2002: 45).
Собственно система регулятивных механизмов в обществах становится значимой, как признается исследователями, на этапе перехода от архаики к цивилизации, в ходе дифференциации, усложнения социума. Однако даже в ранние периоды существования кочевого общества была необходимость рационально распределять пастбищные и водные ресурсы, координировать перекочевки, организовывать охрану стад и кочевий от диких животных и врагов, разрешать внутренние конфликты, выполнять функции медиации между народом и Небом (Тэнгри2) для обеспечения покровительства и благоприятствования со стороны потусторонних сил, что требовало регулирования внутренней организации, способствовало усилению власти вождей, субвождей и старейшин (Крадин, 1993: 198) и соответственно формировало определен-
ные представления о власти в архаическое время.
Отношения господства и подчинения начинали выстраиваться в семейно-хозяйственной сфере и подразумевали безусловную необходимость существования человека в семейном коллективе. В этой культуре семейных групп господствовал авторитет опыта, знаний в сфере ведения хозяйства, а значит, возраста, старшинства, причем вне зависимости от пола. Это была патриархальная по сути культура, в которой были очень развиты регуляторы внутрисемейных и между-семейных отношений.
Известный номадовед Н. Н. Крадин пишет и о других причинах, которые приводили к дальнейшему усложнению социальной системы кочевников древности: экологическая нестабильность кочевой экономики, частная собственность на скот, необходимость экономических связей с земледельческим миром, наконец, война (там же: 195). С развитием общества у кочевников также развивались представления о власти, обогащаясь политическими мифами, концепциями, законами. Сумевшие возвыситься вожди, ханы, каганы для легитимации своего господствующего положения над другими людьми использовали космологические представления в культуре, в том числе наличие верховного божества — Неба, благословение от которого они демонстрировали ритуалами. Для поддержания своего положения они окружали себя людьми, на которые могли опереться, в первую очередь родственниками. При этом традиции семей с большим количеством детей, а также многоженства обусловливали непрочность родственных отношений во власти (по поводу распределения наделов, наследства). Поэтому политические верхи кочевников нередко предпочитали опираться не только и не столько на родственников, сколько на круг зависимых, друзей, соратников (как, например, Чингисхан), тем не менее в силу традиции поддерживая мифы о генеалогии, родственности уз. В целом политическое устройство общества представляло собой некий конус, наверху
которого находился правящий клан. Тем самым политическая элита также фактически функционировала по правилам господства и подчинения семейного типа и была подчинена задачам самообеспечения в условиях наличия конкурирующих, соперничающих групп.
Такая верховная власть функционировала в первую очередь потому, что у подчиненных была потребность в ней для объединения сил против врагов, для военных походов с целью обогащения. Когда же кочевники лишались лидера, централизованной власти, это не было фактором гибели культуры кочевников Центральной Азии. Централизованная власть и соответствующая идеология всего лишь теряли значение, прекращали свое функционирование в конкретном выражении вместе с распадавшимися ханствами, империями. Цивилизация на этом не заканчивала свою историю. Племена, роды, оставшиеся после кровопролитных военных действий, сопровождающих распад крупных образований, снова становились автономными хозяйственными единицами, и они вновь обращались к архаическим культурным программам. Неоднократный процесс усложнения истории кочевников и ее полной архаизации вызывает ассоциацию с мифической птицей Феникс, а сама история воспринимается как пульсирующий единый процесс от глубокой древности до современности.
В обобщенном виде можно сказать, что категория власти в культуре кочевников наибольшее значение имела в плоскости семейно-экономических отношений и, помимо других традиций (религиозных, социальных и пр.), составляла ее «стержень».
История тувинского общества была тесно связана с историей маньчжурской империи Китая (с середины XVIII в. до 1911 г.) и российской — советской государственности ХХ в. (с 1917 г.). Каждое государство распространяло на подчиненные территории свою систему политической власти, что приводило к изменениям в политической сфере и политическом сознании народов, большим
или меньшим по масштабам в соответствии с процессами аккультурации, ассимиляции. В случае с тувинцами изменения эти не стали столь значительными, чтобы были забыты архаические традиции, чтобы «стержень» культуры был сломан.
Для маньчжурского Китая Урянхай (старое название Тувы) был колонией, из которой выкачивались всевозможные ресурсы: люди (для армии) и материальные ценности (в виде налога). Регион не входил в зону освоения самих китайцев, соответственно не подвергался их переселению и следующим за этим ассимиляционным процессам. В XIX в. тувинское общество только выходило из родоплеменного состояния, поэтому в процессе социального расслоения взаимоотношения знати (начальников) и аратов (рядовых кочевников) во многом носили отпечаток патриархальности. Разбогатевшие отдельные представители родов получали в свои руки экономические и политические рычаги для доминирования над остальными общинниками, причем рычаги эти давали им маньчжуры. Завоеватели сформировали политическую «надстройку» обществу, поделили население на управленцев из числа зажиточных кочевников, ставших чиновниками разных рангов и подчинявшихся в итоге воле императора Поднебесной, и на подчиненных, обложенных повинностями и налогами.
В формирующейся тувинской политической культуре, безусловно, присутствовали традиционные отношения господства и подчинения патриархального типа, продолжали сохранять значение семейные формы власти. Также актуальными были и пережитки традиций родоплеменной демократии: представления о равноправии родоплеменных групп, соперничество между которыми и их лидерами не затухало. Выделившаяся родовая знать вплоть до конца XIX в. все еще была рыхлым образованием. Ее действиями еще со времен противостояния Великой Степи и китайской цивилизации руководила привычка, мода, страсть к обогащению. Это обстоятельство не давало организационно-
му началу в обществе крепнуть, вело к внутренним распрям (Васютин, 2002: 92). Во времена господства китайской империи над Тувой маньчжурские власти использовали в своих целях все эти характеристики политической культуры населения. Китайцы полностью подчинили себе территорию, манипулировали соперничеством местных князей, возвышая одних, принижая других, стремясь не давать обществу возможности преодолеть разрозненность. Тем не менее сам факт ускоренной дифференциации общества, появление ряда образованных представителей знати, которые начали осознавать необходимость преодоления тувинцами племенной разрозненности и попытались в первые десятилетия ХХ в. вывести общество на новый уровень развития, можно считать позитивным аспектом политического реформирования Тувы маньчжурами.
В целом систему политического управления, выстроенную маньчжурами, нельзя назвать чуждой для тувинцев, если учитывать особенности «прототувинской» политической истории. Тувинцы были включены в имперские монархические структуры — китайскую и на короткое время — российскую, которые не уничтожили население края физически и не изменили менталитет общества.
Советская власть значительно перекроила структуру тувинского общества, попытавшись вписать его в единую народнохозяйственную систему. Перевод кочевников на оседлость, казалось бы, стал поворотным моментом в реформировании, в культурной революции. Однако архаические традиции, в том числе, например, соперничество тувинских родоплеменных групп, ушли на задний план благодаря той иллюзии консолидации, которую привносила коммунистическая идеология. Востребованными оказались только отношения полного господства и подчинения, перенесенные на новую социальную иерархию (правящий класс и управляемое общество — все население), которые были подкреплены декларируемыми ценностями равенства и братства — вполне понят-
ными для тувинцев-общинников. Конечно, политику советского периода также не следует расценивать однозначно негативно. Речь идет только о том, что самим тувинцам не было дано возможности эволюционным путем преодолеть общественную разрозненность. Проблема решалась революционным путем, вследствие чего многие социальные, политические, экономические проблемы оказались не решенными, а лишь заглушенными. Это стало очевидно в постсоветское время.
Радикальные реформы 1990-х годов привели к анархическому переделу власти и капитала. Деятельность политических группировок уже не контролировалась ни единой партийной системой, ни тем более народным волеизъявлением. Если вначале партийные объединения и играли какую-то роль, выдвигая свои программы, привлекая под конкретные лозунги голоса избирателей, увлеченных идеями демократии, то позже, в конце 1990-х — начале 2000-х годов для масс не стало иметь особого значения, какую партию представляет тот или иной политик. Определяющими стали прежде всего этнокультурные маркеры «своих» и «чужих». Филиалы федеральных партийных организаций в Туве неизменно стали приобретать тувинский «окрас», втягиваться в борьбу местных политических клановых, земляческих группировок. Представления о власти у тувинцев вернулись на «исходную позицию», когда эта власть никому не принадлежит — ни по наследству, ни по закону, а приобретается силой в соперничестве, конкуренции. Ресурсами в борьбе становились деньги, административные возможности кандидатов на разные выборные посты, принадлежность к той или иной клановой группировке.
Соответственно этому неуклонно стала уменьшаться избирательная активность жителей, прежде всего за счет городского населения, разочарованного в выборах в целом, протестные настроения которого временами даже портили планы правящей элиты. Рейтинг первого президента Тувы Ш. Д. Ооржа-ка, руководившего Тувой в период расцвета
постсоветских процессов архаизации (с 1992 по 2007 г.), неуклонно падал, и тем не менее он побеждал на выборах на пост главы республики три раза подряд.
О живучести архаических традиций послушания, предпочтения своих чужим, соперничества между политическими группами различных районов Тувы говорит сравнительная картина голосований. Например, в 2002 г. (на выборах главы правительства Республики Тува) самые высокие показатели явки (более 70%) были у двух самых отдаленных кожуунов (районов) с преимущественно сельским населением — у Овюр-ского и Монгун-Тайгинского, а также у Ба-рун-Хемчикского (откуда родом президент Ш. Д. Ооржак). Меньше всех на избирательные участки пришли в г. Кызыле (46,9%), при том что здесь проживала треть зарегистрированных избирателей. Отмечен и тот факт, что в Барун-Хемчикском кожууне оказалось на этих выборах самое большое число досрочно голосующих.
Собственно тувинское село З. В. Анайбан называет исторически сложившейся формой «этнографического хранилища» (Анайбан, Губогло, Козлов, 1999: 79). Административный статус и устройство тувинского села, по ее мнению, весьма архаичны. Выборности начальника села в традициях не было, его всегда назначали «сверху». Уровень жизни жителей весьма низок, социальные потребности удовлетворяются в самом первичном виде, процветают пьянство, преступность.
Стиль деятельности и мышления политической элиты Тувы также не имеет особых отличий от общественных представлений. Соперничество между политическими кланами в постсоветской Туве приобретало самый острый характер в силу того, что архаическая культурная традиция не позволяла признавать одних выше других и подразумевала, что вопрос о местной власти решается в жесткой конкурентной борьбе. До войны дело не доходило, но без политических убийств, вооруженных инцидентов не обошлось. Непримиримость сторон приводила
к тому, что разрешение затянувшихся политических распрей становилось возможным только при вмешательстве федеральной власти, как это произошло, например, в 2007 г. Тогда противостояние между сторонниками правящего клана и его оппонентами приобрело характер критического противоборства между исполнительной и законодательной властью, которое ввергло республику в состояние политического коллапса, продолжавшегося несколько месяцев. Все это вылилось в серьезное обсуждение вопроса
о внешнем управлении Тувой. В итоге только фактическое назначение Москвой одного из участников событий главой исполнительной власти республики (что вводилось в общую практику самого центра) сняло напряженность и способствовало ликвидации кризиса.
Говоря о политических процессах постсоветской Тувы, необходимо понимать, что современная политическая культура тувинского общества содержит в себе сплав разных идей, восходящих к представлениям о власти, традициям господства и подчинения, формам социальной жизни, которые присутствовали в разные периоды истории республики. Однако и у населения, и у политической элиты в их взаимоотношениях, действиях отмечаются именно архаические традиции, представления. Яркое возрождение их произошло вследствие неудачного радикального реформирования общества, когда центральная власть самоустранилась и тем самым Тува, как и все регионы, оказалась на положении «обломка» империи и без достаточных ресурсов была вынуждена выживать, реанимируя для этого проверенные многими веками представления о власти, ее формах, методах достижения и удержания.
За два десятка лет постсоветской истории, со стабилизацией социально-экономической, политической жизни в России масштабы архаизации в стране, в том числе и в Туве, уменьшились. Но необходимо понимать, что многие политические проблемы сохранились, перейдя в разряд латентных. В определенных ситуациях они снова могут
продемонстрировать нам живучесть архаических представлений тувинцев. Эту особенность следует учитывать в процессах модернизации общества.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 По мнению М. Х. Маннай-оола, этнос с самоназванием «тыва» («тувинцы») сформировался в XVII в., главным образом в XVIII — первой половине XIX в. Но при этом этническое ядро на начальном этапе этногенеза составили племена скифского периода истории в VIII-III вв. до н. э. В дальнейшем сильное влияние на население Тувы также оказали хун-ну (II в. до н. э. — V в. н. э.), другие тюркоязычные племена. В целом же, полагает этнограф, первоначальные основы социально-этнической общности тувинцев сложились в VI-XH вв. — в период существования первых раннефеодальных государств Центральной Азии и Южной Сибири. Основным доминирующим компонентом тувинского этноса стали различные тюркоязычные племена, однако в процессе формирования тувинского народа приняли участие и другие этнические элементы: в меньшей мере самодийские и кето-тунгусоязычные, в значительной — монголоязычные, которые, однако, составляли ее вторичный и третичный компоненты (см.: Маннай-оол, 2004).
2 У исследователей различается написание имени небесного божества древних тюрков — «Тенгри» и «Тэнгри». Мы придерживаемся второго варианта как наиболее близкого в русской транскрипции звучанию слова в тюркских и монгольских языках.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Анайбан, З. В., Губогло, М. Н., Козлов, М. С. (1999) Формирование этнополитической ситуации. Т. 1. Очерки по истории постсоветской Тувы. М.
Ачкасов, В. А. (1997) «Взрывающаяся архаичность»: традиционализм в политической жизни России. СПб.
Васютин, С. А. (2002) Типология потестар-ных и политических систем кочевников // Кочевая альтернатива социальной эволюции. М. С. 86-98.
Гуревич, А. Я. (1972) Категории средневековой культуры. М.
Жуковская, Н. Л. (1988) Категории и символика традиционной культуры монголов. М.
Крадин, Н. Н. (1993) Структура власти в государственных образованиях кочевников // Феномен восточного деспотизма: Структура управления и власти. М. С. 192-210.
Ламажаа, Ч. К. (2009) Проблема архаизации общества // Знание. Понимание. Умение. № 4.
С. 44-48.
Ламажаа, Ч. К. (2010a) Архаизация, традиционализм и неотрадиционализм // Знание. Понимание. Умение. № 2. С. 88-93.
Ламажаа, Ч. К. (2010b) Клановость в политике регионов России. Тувинские правители. СПб.
Маннай-оол, М. Х. (2004) Тувинцы: происхождение и формирование тувинского этноса. Новосибирск.
Скрынникова, Т. Д. (1997) Харизма и власть в эпоху Чингисхана. М.
Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир (1988) / Э. Л. Львова, И. В. Октябрьская, А. М. Сагалаев, М. С. Усманова. Новосибирск.
Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Человек. Общество (1989) / Э. Л. Львова, И. В. Октябрьская, А. М. Сага-лаев, М. С. Усманова. Новосибирск.
Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал (1990) / Э. Л. Львова, И. В. Октябрьская, А. М. Сагалаев, М. С. Усманова. Новосибирск.
Хазанов, А. М. (2002) Кочевники евразийских степей в исторической ретроспективе // Кочевая альтернатива социальной эволюции. М. С. 37-58.
BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATION)
Anaiban, Z. V., Guboglo, M. N., Kozlov, M. S. (1999) Formirovanie etnopoliticheskoi situa-tsii. T. 1. Ocherki po istorii postsovetskoi Tu-vy. M.
Achkasov, V. A. (1997) «Vzryvaiushchaiasia arkhaichnost’»: traditsionalizm v politicheskoi zhizni Rossii. SPb.
Vasiutin, S. A. (2002) Tipologiia potestar-nykh i politicheskikh sistem kochevnikov // Kochevaia al’ternativa sotsial’noi evoliutsii. M. S. 86-98.
Gurevich, A. Ia. (1972) Kategorii sredn-evekovoi kul’tury. M.
Zhukovskaia, N. L. (1988) Kategorii i simvolika traditsionnoi kul’tury mongolov. M.
Kradin, N. N. (1993) Struktura vlasti v gosu-darstvennykh obrazovaniiakh kochevnikov // Fenomen vostochnogo despotizma: Struktura upravleniia i vlasti. M. S. 192-210.
Lamazhaa, Ch. K. (2009) Problema arkhaizatsii obshchestva // Znanie. Ponimanie. Umenie. №4. S. 44-48.
Lamazhaa, Ch. K. (2010a) Arkhaizatsiia, tradit-sionalizm i neotraditsionalizm // Znanie. Ponima-nie. Umenie. № 2. S. 88-93.
Lamazhaa, Ch. K. (2010b) Klanovost’ v politike regionov Rossii. Tuvinskie praviteli. SPb.
Mannai-ool, M. Kh. (2004) Tuvintsy: prois-khozhdenie i formirovanie tuvinskogo etnosa. Novosibirsk.
Skrynnikova, T. D. (1997) Kharizma i vlast’ v epokhu Chingiskhana. M.
Traditsionnoe mirovozzrenie tiurkov Iuzhnoi Si-biri. Prostranstvo i vremia. Veshchnyi mir (1988) / E. L. L’vova, I. V. Oktiabr’skaia, A. M. Sagalaev, M. S. Usmanova. Novosibirsk.
Traditsionnoe mirovozzrenie tiurkov Iuzhnoi Sibiri. Chelovek. Obshchestvo (1989) / E. L. L’vova, I. V. Oktiabr’skaia, A. M. Sagalaev, M. S. Usmanova. Novosibirsk.
Traditsionnoe mirovozzrenie tiurkov Iuzhnoi Sibiri. Znak i ritual (1990) / E. L. L’vova, I. V. Ok-tiabr’skaia, A. M. Sagalaev, M. S. Usmanova. Novosibirsk.
Khazanov, A. M. (2002) Kochevniki evraziiskikh stepei v istoricheskoi retrospektive // Kochevaia al’ternativa sotsial’noi evoliutsii. M. S. 37-58.





 CC BY
CC BY 54
54