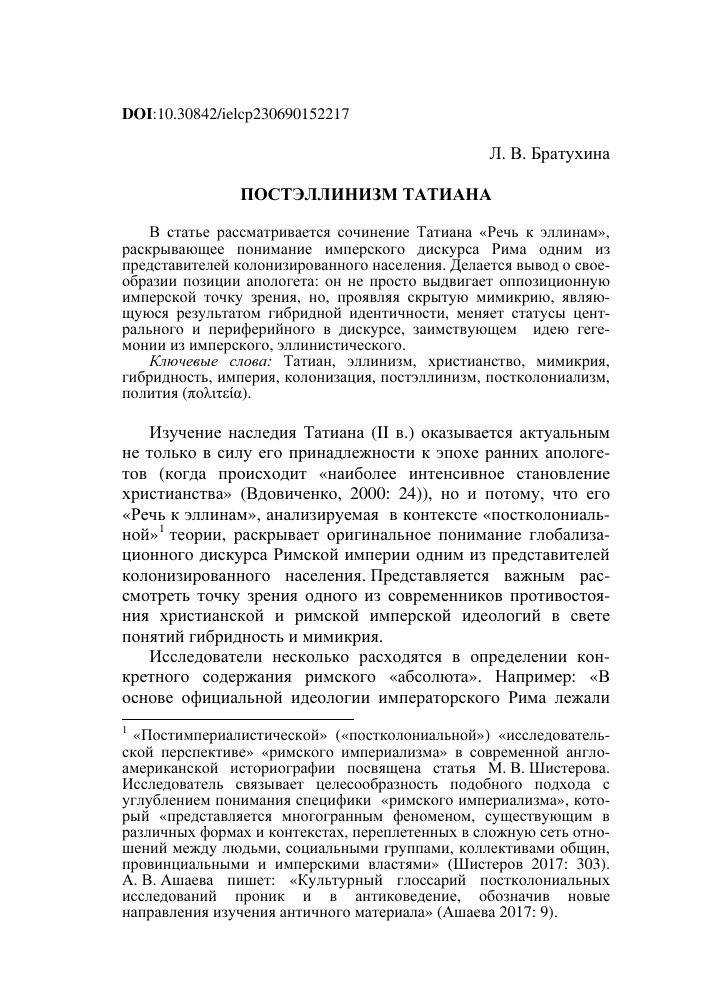Б0Т:10.30842/1е1ср230690152217
Л. В. Братухина
ПОСТЭЛЛИНИЗМ ТАТИАНА
В статье рассматривается сочинение Татиана «Речь к эллинам», раскрывающее понимание имперского дискурса Рима одним из представителей колонизированного населения. Делается вывод о своеобразии позиции апологета: он не просто выдвигает оппозиционную имперской точку зрения, но, проявляя скрытую мимикрию, являющуюся результатом гибридной идентичности, меняет статусы центрального и периферийного в дискурсе, заимствующем идею гегемонии из имперского, эллинистического.
Ключевые слова: Татиан, эллинизм, христианство, мимикрия, гибридность, империя, колонизация, постэллинизм, постколониализм, полития (яоХгтаа).
Изучение наследия Татиана (II в.) оказывается актуальным не только в силу его принадлежности к эпохе ранних апологетов (когда происходит «наиболее интенсивное становление христианства» (Вдовиченко, 2000: 24)), но и потому, что его «Речь к эллинам», анализируемая в контексте «постколониальной»1 теории, раскрывает оригинальное понимание глобализа-ционного дискурса Римской империи одним из представителей колонизированного населения. Представляется важным рассмотреть точку зрения одного из современников противостояния христианской и римской имперской идеологий в свете понятий гибридность и мимикрия.
Исследователи несколько расходятся в определении конкретного содержания римского «абсолюта». Например: «В основе официальной идеологии императорского Рима лежали
1 «Постимпериалистической» («постколониальной») «исследовательской перспективе» «римского империализма» в современной англоамериканской историографии посвящена статья М. В. Шистерова. Исследователь связывает целесообразность подобного подхода с углублением понимания специфики «римского империализма», который «представляется многогранным феноменом, существующим в различных формах и контекстах, переплетенных в сложную сеть отношений между людьми, социальными группами, коллективами общин, провинциальными и имперскими властями» (Шистеров 2017: 303). А. В. Ашаева пишет: «Культурный глоссарий постколониальных исследований проник и в антиковедение, обозначив новые направления изучения античного материала» (Ашаева 2017: 9).
представления о так называемом «римском мире», «римском мифе» («особой исторической миссии Рима, определенной богами»), «золотом веке», а также культ императора» (Токар-невский 2013: 40). Среди «основных структурных элементов "римского империализма", воспроизводящих "римскую власть, римское общество, римскую культуру", называются "римская религия", "урбанизм" и "культ императора"» (Шистеров 2107: 303). Также итогом объединяющей деятельности Рима в экономическом, административном, культурном планах видят «представление о Римской империи как едином и единственном государстве», находящее свое отражение «в юридической формуле: "Рим - общее наше отечество"» (Ранович 1949: 255).
Татиан, как он сам пишет, завершая «Речь к эллинам», родился «в земле ассирийской» (Ad Graec. 42, 1; здесь и ниже пер. Д. Е. Афиногенова). Получив хорошее философское образование (Ibid. 1, 3), он ездил по многим странам, был посвящён в языческие мистерии (Ibid. 29, 1), учил как софист эллинским премудростям (оофштг'бош; та û^éxepa), пока не обосновался в Риме (Ibid. 35, 1), где принял христианство, стал слушателем Иустина Философа. После казни наставника Татиан отпал от Церкви и учредил свою особую школу, где излагал учение, напоминавшее ереси Валентина, Маркиона и Сатурнина (Eus. H. E. IV, 29, 3). Из его трудов сохранился (помимо Ad Graec.) «Диатессарон» - согласование четырёх Евангелий. Татиан примыкает к апологетам, отрицавшим «какую-либо пользу языческой культуры» (Вдовиченко 2000: 24), в противовес тем , кто признавал за ней роль своеобразного «приготовления к восприятию Слова Божия» (Там же).
Исследователи рассматривали Ad Graec. и как «вступительное слово», написанное апологетом для своего училища на Востоке, и как «увещевание» (Elze 1960: 41-43). Д. Е. Афиногенов систематизирует гипотезы относительно адресатов Татиана, являющихся его противниками. Отвергая объяснение названия «эллины» как относящееся к этническим грекам либо к язычникам «независимо от их этнической принадлежности», он доказывает, что своеобразным «родовым понятием», для которого «эллины» и «христиане» являются видовыми, выступает «полития» (no^ixeia), в понимании которой присутствует этни-
2
К ним относится, прежде всего, учитель Татиана Иустин Философ.
ческий, религиозный и мировоззренческий аспекты3. Далее отмечается «исчезновение государственно-политического содержания» из этого понятия, что делает возможным обозначение данным термином «христианства во всей его целокупности». Полития «не должна быть объектом государственного контроля», компетенция которого «ограничивается взысканием податей». Таким образом, Татиан выступает против насаждаемого государством неправильного и вредного modus vivendi, который продвигают эллины, третировавшие «Татиана как варвара именно потому, что он был христианин, а не наоборот» (Афиногенов 2000: 88).
С Д. Е. Афиногеновым полемизирует А. П. Большаков: «...чем, собственно, данная интерпретация отличается от взглядов тех, кто считает "эллинов" Татиана эллинистически образованными людьми, то есть людьми причастными греко-римской культуре во всех её проявлениях <...>» (Большаков 2001: 128). Кроме того, «представление о равноправном характере многих "политий" в глазах Татиана и ложности всех их по сравнению с христианской. приходит в противоречие со всей антиэллинской направленностью сочинения. У Татиана не найти противопоставления христиан и нехристиан, он противопоставляет "эллинов" "варварам". В число последних включаются и уверовавшие в благовестие» (Большаков 2001: 129). «За пределами "эллинства" и "варварства" нет вообще ничего, ибо "варвары" у Татиана оказываются неспособны противопоставить "эллинизму" что-либо, кроме исторического христианства, а "язычники" у других Отцов Церкви в своём сопротивлении благовестию
3 Полития Татиана есть «некоторая общность, охватывающая все стороны человеческой жизни (религию, обычаи, науку, искусство, литературу и т. д.), но конституирующаяся на юридической, законодательной основе. При этом понятие "закона" здесь совершенно абстрагировано от государства, однако приобретает известный религиозный оттенок» (Афиногенов 2000: 91). Для Татиана христианство - «это лишь одна из "политий", но при этом единственная истинная». «Все содержание эллинства целиком» он отвергает, «именно потому, что теперь все это, и философия, и риторика, и искусство, относится к чуждой политии и никак не может быть отделено от почитания, например, ложных богов. В христианскую же политию входит и собственная учёность, и философия, которые полностью заменяют эллинские» (Афиногенов 2000: 91).
опираются на идеальные и материальные достижения эллинистической культуры» (Большаков 2001: 131).
Нам Татиан представляется «неполиткорректным» борцом с эллинистическим «глобализмом», заставляющим его отрекаться от подлинно богоугодной политии. Замена Татианом пары «христиане - язычники» синонимичной парой «варвары - эллины» говорит в пользу того, что он, кого бы мы ни понимали под его «варварами», считал себя как представителем национальной общности, «политии», религии, не входящей в полной мере в империю. Основным тезисом, развиваемым Татианом в Лё вгаее., является противопоставление эклектичности всей эллинистической парадигмы (Лё вгаее. 14, 1) и органического единства христианской. Так, эллины укоряются за присвоение культурных достижений иных народов (Лё вгаее. 1,1), смешение языков (Лё вгаее. 1, 2), а также за непоследовательность их философов и языческих богов, оспаривающих друг друга (Лё вгаее. 3, 3; 8, 2). Обобщая в понятии «политии» различные составляющие эллинистической цивилизации (язык, религию, философские учения, культурные достижения), Татиан, на наш взгляд, критикует своеобразно понимаемые им основания римского универсалистского «абсолюта».В изложении же христианского учения Татиан диалектичен: «... Владыка вселенной, Сам будучи существованием всего, был один,.с ним была вся возможность видимых и невидимых (Лё вгаее. 5,1) (Ср. Лё вгаее. 12,1-2)... Итак, есть дух в светилах, дух в ангелах, дух в растениях и водах, дух в людях, дух в животных, но, один и тот же, он имеет в себе различия» (Лё вгаее. 12, 45). Это подлинное «единство в многообразии», которое не вызывает противоречий, восходя к единому и истинному первоисточнику. Самодостаточность христианства как отличной от эллинизма, альтернативной и единственно верной политии предполагает отрицание «универсалистской идеи римской государственности», выраженной в формуле «вселенная - это Империя, а Империя - это Вселенная» (Бирюков 2009: 46). Вторая часть этого утверждения означает «универсализм, всемирный охват государства: Вселенная всеобъемлюща, и Рим всеобъемлющ, за его пределами ничего не может существовать».
Отрицая эллинистическую гибридность4, понимаемую им как эклектику, лишенную истинного основания, Татиан опирается на свойственную римской имперскости идею «централизованной иерархической структуры мира» (Бирюков 2009: 46): «.следовало бы, чтобы у всех был один общий образ жизни. Ныне же сколько видов городов, столько и законоположений, так что то, что у некоторых позорно, для других добродетельно» (Ad Graec. 28, 1). Гибридное пространство «широкого дискурса римской идентичности» (Шистеров 2017: 303), предполагало «взаимопроникновение греко-римской и восточных культур» (Ранович 1949: 259). Татиан справедливо усмотрел в нем несостоятельность «претензий на иерархическую чистоту» культуры (Ashcroft, Griffiths, Tiffin 2013: 136). Предлагаемая им иная христианская полития претендует не на роль равноправного субъекта в диалоге5, но на позицию гегемона по отношению к эллинам. Утверждая первичность учения «варваров», Татиан указывает на заимствования эллинов из него (Ad Graec. 40,1). Вписывая эллинистических богов в христианскую концепцию мироздания, апологет заявляет: «.демоны, которых так именуете, образовавшись из вещества и дух получив от него же, стали развратны и жадны. Владыка же всего оставил их роскошествовать, пока мир, придя к концу, не разрушится.» (Ad Graec. 12, 3-4). Таким образом, нормативными для Татиана оказываются христианские догматы, а эллинистическое мировоззрение становится периферийным. Отрицательно характеризуя отдельные элементы эллинистической политии, Татиан вос-
v> u Г»
принимает ее универсалистский и иерархический посыл. Здесь можно говорить о проявлении мимикрии - подражания колонизируемого колонизатору; согласно Х. Бхабхе, результатом
4 Гибридность была свойственна римской имперской культуре как результат процесса «формировании транскультурных форм в зоне контакта, создаваемой при колонизации» (Ashcroft, Griffiths, Tiffin 2013: 135). Исследователи, по-разному представляя осуществление эллинизации, сходятся в оценке неоднородного характера сформировавшейся культурной общности. «Полное уравнение не было достигнуто в Римской империи... Не только греки и эллинизированные народы, но и некоторые народы Востока сохранили свой язык и свою культуру» (Ранович 1949: 23).
5 Хотя в риторических целях Татиан прибегает к требованию равенства позиций эллинистической идеологии и обвиняемой ею во всех грехах христианской (Ad Graec.12, 5).
подобного «амбивалентного взаимодействия» может стать искаженная «размытая копия» колонизатора (Ashcroft, Griffiths, Tiffin 2013: 154-155).
Неприязнь Татиана к эллинистической политии исследователи объясняют его этническими корнями: «...в яростных нападках автора на всё греческое мы уже ощущаем не только вражду христианина к язычеству, но и неприязнь сирийца к эллинизму, когда-то навязанному его предкам. Первое служит санкцией для второго» (Аверинцев 1987: 17). Ср.: «Апологеты восточного и африканского происхождения более непримиримы ко всей греко-римской культуре, чем коренные греки и римляне. Татиан, Гермий, Феофил Антиохийский, Тертуллиан, Арнобий резко критически отзывались об античной философии, науках, искусстве» (Бычков 1995: 64). Ригоризм Татиана также связывается с «тысячелетним наследием иудейской обособленности» (Афиногенов 2000: 92). Однако следует учитывать и гибридный характер идентичности апологета, подспудно апеллирующей к воспринятым из римской имперской идеи взаимосвязанным иерархичности и универсализму. Неслучайно в более позднюю эпоху происходит «переосмысление имперской идеи: она теснейшим образом соотносится с христианством»6.
Рассматривая различные концепции «эллинистического синтеза христианства», П. Б. Михайлов указывает «три элемента эллинизма», сыгравшие для христианства «формообразующую роль»: «древнегреческий язык, античная метафизика и классическая пайдейя» (Михайлов 2017: 51). Татиан участвовал в формировании одной «непреходящей константы христианского мира» - «греческого корпуса Писания» (Там же: 64) («Диатессарон»). О причастности Татиана к античной философской традиции можно судить по исследованиям этого вопроса в монографии М. Эльце «Tatian und seine Theologie», отмечающего близость Татиана платонической философии, а также в диссертации Приходько, содержащей следующее заключение: «. Татиан обнаруживает значительное идейное сходство с
6 Не случайно в более позднюю эпоху происходит «переосмысление имперской идеи: она теснейшим образом соотносится с христианством ... Евсевий Кесарийский помещает Imperium Romanum на место некоего библейского универсального мира народов, Царства Божия. Это царство соединило империю и христианскую церковь в новую универсальную организацию - империю-церковь» (Бирюков 2009: 46)
взглядами и учениями античных авторов, прежде всего, с текстами Платона7. На наш взгляд, такая идейная общность, объясняется не какой-то непоследовательностью апологета, а напротив, глубоким видением существа античной культуры и ее кризисных сторон, которые подобным образом осмысливались и анализировались лучшими представителями античной мысли» (Приходько 2014: 62).
Итак, позиция Татиана предстает как не совсем обычная: он не просто выдвигает оппозиционную имперской точку зрения, но, проявляя скрытую мимикрию, являющуюся результатом гибридной идентичности, меняет статусы центрального и периферийного в дискурсе, заимствующем идею гегемонии из имперского, эллинистического. «Постэллинизм» Татиана, как неприятие античной традиции, предстает таким образом и ответным сопротивлением иной политии, и усвоением ее структурных особенностей.
Литература
Afinogenov, D. E. 2000: [Tatian and his «Word to the Hellenes» in the historical context]. Rannekhristianskie apologety I-II vekov: Perevody I issledovania. Moscow: Ladomir, 80-92. Афиногенов, Д. Е. 2000: Татиан и его «Слово к эллинам» в историческом контексте. Раннехристианские апологеты II—IV вв. Переводы и исследования. М.: Ладомир, 2000. С. 80-92. Ashaeva, A. V. 2017: [Postcolonial discourse and reception of Antiquity: the African identity of the Greco-Roman world]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo 4, 9-15. Ашаева, А. В. 2017: Постколониальный дискурс и рецепция Античности: африканская идентичность греко-римского мира. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского 4, 9-15.
Ashcroft, B., Griffiths, G., Tiffin, H. 2013: Postcolonial Studies: The Key Concepts remains an essential guide for anyone studying this vibrant field. London; New York: Routledge. Averincev, S. S. 1987: Ot beregov Bosfora do beregov Evfrata [From the banks of the Bosphorus to the banks of the Euphrates]. Moscow. Аверинцев, С. С. 1987: От берегов Босфора до берегов Евфрата. М.
7 Например, М. А. Приходько в своей диссертации отмечает близость понимания у Татиана и Платона «взаимосвязи слова и бытия» (Приходько 2014: 77): Платон рассматривает софистическую речь как «некое лже-бытие», «подобное искажение образа сущего прозревает Татиан в феномене риторического искусства его времени», раскрывая «феномен лжи» через «отношение к слову» (Там же: 78).
Birukov, A. V. 2009: [Stages of development of the «Roman myth»]. Vesnik MDPU imya I. P. Shamyakina, 43-47. Бирюков, А. В. 2009: Этапы развития «римского мифа». Весшк МДПУ iмя I. П. Шамякша, 43-47. Bol'shakov, A. P. 2001: [«Hellenes» and «Hellenic wisdom» in the works of early Christian apologists]. Drevniy Vostok I antichny mir. Moscow: MGU, Istoricheskiy fakultet, 125-139. Большаков, А. П. 2001: «Эллины» и «эллинская мудрость» в произведениях раннехристианских апологетов. Древний Восток и античный мир. М.: МГУ, Исторический факультет, 125-139. Bychkov, V. V. 1995: Aesthetica patrum. Estetica Otcov Cerkvi. I. Apologety. Blazhenny Avgustin [Aesthetica patrum. Aesthetics of the Church Fathers. I. Apologists. Blessed Augustine]. Moscow. Бычков, В. В.1995: Aesthetica patrum. Эстетика Отцов Церкви. I. Апологеты. Блаженный Августин. М. Elze, M. 1960: Tatian und seine Theologie. Gottingen. Krichfalushiy, V. V. 2017: [Hellenistic Philosophy as Understood by Tatian the Assyrian]. Khristianskoe chtenie 5, 110-115. Кричфалуший, В. В. 2017: Эллинская философия в понимании Татиана ассирийца. Христианское чтение 5, 110-115. Mikhaylov, P. B. 2017: [A Conception of Hellenisation of Christianity in the History of Theology]. Vestnik PSTGU. Seria I. Bogoslovie. Filosofis. Religiovedenie. 71, 50-68.
Михайлов, П. Б. 2017: Концепция эллинизации христианства в истории теологии. Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 71, 50-68. Prikhod'ko, M. A. 2014: Apologetika Iustina Filosofa i Tatiana Assiriyca [The Apologetics of Justin the Philosopher and Tatian of the Assyrians as an Experience of the Self-Consciousness of Christian Culture]. St.-Petersburg.
Приходько, М. А. 2014: Апологетика Иустина Философа и Татиана Ассирийца как опыт самосознания христианской культуры. СПб.
Ranovich, A. B. 1949: Vostochye provincii Rimskoy imperii v I-IIIvv [Eastern provinces of the Roman Empire in the I-III centuries]. Moscow; Leningrad.
Ранович, А. Б. 1949: Восточные провинции Римской империи в I-III вв. М., Л.
Tokarnevskiy, A. A. 2013: [State ideology of Rome of the Principate period]. VestnikBDU. Seria 3. 2, 39-41.
Токарневский, А. А. 2013: Государственная идеология Рима периода Принципата. Веснж БДУ. Серия 3. 2, 39-41. Shisterov, M. V. 2017: [Roman imperialism in the postimperialistic perspective (About some features of postcolonial historiography)]. Voprosy vseobschey istorii 19, 299-304.
Шистеров, М. В. 2017: Римский империализм в постимпериалистической перспективе (О некоторых особенностях «постколониальной историографии»). Вопросы всеобщей истории 19, 299-304.
Vdovichenko, A. V. 2000: [Christian apology. Short overview of tradition]. Rannekhristianskie apologety I-II vekov: Perevody I issledovania. Moscow: Ladomir, 5-38.
Вдовиченко, А. В. 2000: Христианская апология. Краткий обзор традиции. Раннехристианские апологеты II-IV веков: Переводы и исследования. М.: Ладомир, 5-38.
L. V. Bratukhina. Tatian's post-Hellenism
The article deals with the work of one of the early apologists - Tatian the Assyrian. His Address to the Greeks is analyzed in the context of the "postcolonial" theory, and this study reveals the peculiar understanding of the globalization discourse of the Roman Empire by Tatian. The viewpoint of one of the contemporaries of the confrontation between the Christian and Roman imperial ideologies is shown in the light of such concepts as hybridity and mimicry. The author of this article refers to the problem of determining the addressees of Address to the Greeks, since the solution of this problem gives an opportunity to determine the content of the concept of "Hellenism" in Tatian's understanding. Agreeing with the term "politia" (noXixsia) used by D. E. Afinogenov to describe the approach of the apologist, the author of the article draws attention to the differences and similarities of the «Hellenistic politia» and «Christian politia» which are contrasted by Tatian. Summarizing in the concept of "noXixsia" the various components of the Hellenistic civilization (its language, religion, philosophical teachings), Tatian criticizes the Roman universalist "absolute". The main Tatian's thesis in Address to the Greeks is the contrast between the eclecticism of the whole Hellenistic paradigm (Ad Graec. 14, 1) and the organic unity of the Christian. An analysis of possible explanations of the irreconcilable attitude of the apologist to the ancient culture allows us to consider the specificity of the hybrid identity of the Roman province native. The conclusion is made about the peculiarity of the position of the apologist: not only does he suggest a point of view that is oppositional to the imperial, but by displaying a hidden mimicry resulting from a hybrid identity, he seems to change the status of the central and peripheral in a discourse borrowing the idea of hegemony from the imperial, Hellenistic discourse.
Keywords: Tatian, Hellenism, Christianity, mimicry, hybridity, empire, colonization, post-Hellenism, postcolonialism, noXixsia.





 CC BY
CC BY 21
21