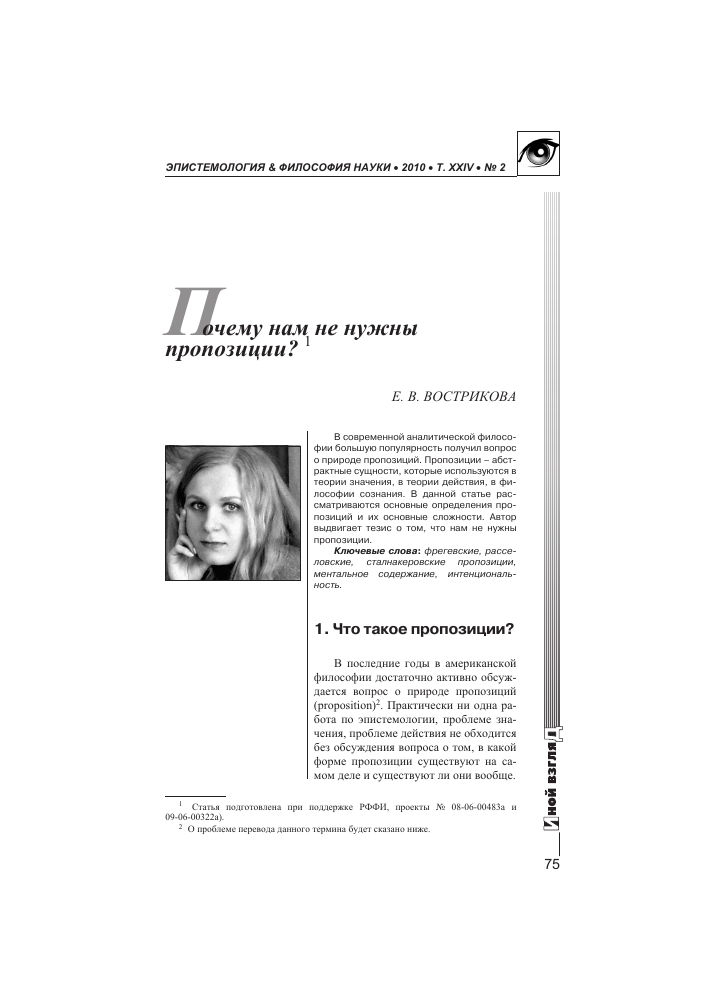ЭПИСТЕМОЛОГИЯ & ФИЛОСОФИЯ НАУКИ • 2010 • Т. XXIV • № 2
И,
тему нам не нужны пропозиции? 1
Е. В. ВОСТРИКОВА
В современной аналитической философии большую популярность получил вопрос о природе пропозиций. Пропозиции - абстрактные сущности, которые используются в теории значения, в теории действия, в философии сознания. В данной статье рассматриваются основные определения пропозиций и их основные сложности. Автор выдвигает тезис о том, что нам не нужны пропозиции.
Ключевые слова: фрегевские, рассе-ловские, сталнакеровские пропозиции, ментальное содержание, интенциональ-ность.
1. Что такое пропозиции?
В последние годы в американской философии достаточно активно обсуждается вопрос о природе пропозиций (proposition)2. Практически ни одна работа по эпистемологии, проблеме значения, проблеме действия не обходится без обсуждения вопроса о том, в какой форме пропозиции существуют на самом деле и существуют ли они вообще.
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проекты № 08-06-00483а и 09-06-00322а).
2 О проблеме перевода данного термина будет сказано ниже.
m
Было даже опубликовано несколько книг, специально посвященных рассмотрению пропозиций: «Природа и структура содержания» Дж. Кинга (2007), «Единство пропозиций» Р. Гаскина (2008), «Мера сознания: пропозициональные отношения и их атрибуция» Р. Мэтью-са (2007)3 и др.
Пропозиции в самом общем смысле можно определить как абстрактные сущности, независимые от сознания и языка, обладающие истинностными условиями (некоторые философы сказали бы, что они и есть истинностные условия), при этом их истинностные условия даны раз и навсегда. Это определение является достаточно общепринятым в современной философии и имеет своим истоком работы Б. Рассела и Г. Фреге. Пропозицию можно выделить с помощью оборота «что...», например, пропозициями будут что трава зеленая, что Вальтер Скотт - автор «Веверлея», что 2 + 2 = 4. Итак, пропозиции обладают следующими чертами.
Во-первых, они абстрактны. Что Вальтер Скотт - автор Веверлея не находится в пространстве, не является физическим объектом.
Во-вторых, они не зависят от существования или несуществования думающих и говорящих существ. Что трава зеленая не возникает, потому что кто-то подумал так или сказал, и не исчезает, если кто-то перестанет думать и говорить. Некоторые философы (Деннет4, Кинг5) отрицают это свойство пропозиций и считают, что они возникают в процессе использования языка. Тем не менее пропозиция что трава зеленая независима от языка в следующем смысле: она может быть выражена предложением любого естественного языка, но сама по себе не принадлежит никакому языку. Кроме того, одна и та же пропозиция может быть выражена разными предложениями одного и того же языка (например, имеет смысл утверждать, что два разных выражения «что М. Шлик был застрелен своим бывшим студентом» и «что бывший студент застрелил М. Шлика» обозначают одну и ту же пропозицию).
В-третьих, в отличие от предложений пропозиции обладают истинностными условиями необходимым образом. Например, пропозиция что трава зеленая истинна, если и только если трава зеленая, эти истинностные условия не зависят от времени, места произнесения предложения или иных случайных характеристик. Что же касается предложения русского языка «Трава зеленая», то оно имеет истинно] стные условия только в русском языке среди нас. Можно представить язык другого сообщества, где это предложение (то же самое сочета-
И -
® 3 King /.The Nature and Structure of Content. Oxford, 2007; Gaskin R. The Unity of
>S Propositions. Oxford, 2008; Matthews R. The Measure of Mind: Propositional Attitudes and
О Their Attribution. Oxford, 2007.
J^-, 4 DennetD. Intentional Stance. Cambridge, Mass., 1987.
^ 5 King /.Op. cit.
ние звуков и письменных символов) будет иметь другие истинностные условия, например будет истинным, если и только если снег бел.
Все перечисленные свойства позволяют пропозициям выполнять сразу несколько важных функций в философских концепциях. Пропозиции, поскольку они являются первичными носителями истинностных условий, считаются смыслами предложений. Очевидно, что предложение «Снег бел» в написанном варианте и произнесенное предложение «Снег бел» обладают одинаковыми истинностными условиями, и эти условия те же самые, что и у предложения «Snow is white». То, что является общим для всех этих и других предложений с теми же истинностными условиями, традиционно в англо-американской философии называется пропозициями. Считается, что предложения приобретают свои истинностные условия только благодаря тому, что выражают некоторую пропозицию.
К понятию пропозиции прибегают также в логике. Предложения естественного языка являются слишком непостоянными и нечеткими сущностями для того, чтобы мы могли пользоваться этим понятием в пропозициональной логике. Не подходит на эту роль и представления или мысли, которые можно было бы рассматривать как смысл предложения, поскольку мысли и представления индивидуальны, переживаются только одним человеком. Многие философы (Гуссерль, Фре-ге)6 полагали, что отрицание таких сущностей, как пропозиции, в логике неизбежно имеет своим следствием релятивизм.
Далее, иногда нам нужно сослаться именно на смысл предложения, а не на факт, о котором оно сообщает. Например, для оценки истинностного значения предложения «Он считает, что бог существует» нам ничего не нужно знать о том, истинно или нет подчиненное предложение в составе сложного.
Пропозиции в силу того, что они являются абстрактными и независимыми от конкретного человека сущностями, наилучшим образом подходят для того, чтобы выполнять роль объекта убеждений и других пропозициональных отношений (т.е. того, во что верят, в чем сомневаются, на что надеются). Разные люди могут по-разному относиться к одной и той же пропозиции - могут быть убеждены или сомневаться, и один человек может иметь одно отношение к разным пропозициям - например, он может верить в истинность ряда пропозиций «что идет дождь», «что президентом Америки является Барак Обама» и т.д. Соответственно, поскольку пропозициональные отношения входят тем или иным способом в объяснение интенционально-го действия (поскольку эти объяснения включают убеждения или интенции), пропозиции играют важную роль в теориях такого типа. Я
__>Х
--о
6 Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. III (1) : Логические исследования; Т. II (1): Исследования по феноменологии и теории познания. М., 2001; Фреге Г.Мысль: логическое исследование // Г. Фреге Логика и логическая семантика. M., 2001.
Если мнения и убеждения рассматривать как отношения к пропозициям, то от того, как мы понимаем пропозиции (и признаем ли вообще существование пропозиций), зависит концепция знания, поскольку традиционное определение гласит, что знание - это истинное обоснованное мнение (верование - belief).
Таким образом, мы видим, что понятие пропозиции привлекается в совершенно разных областях: семантике, теориях сознания, теориях действия, теории познания.
Хотелось бы подчеркнуть, что вопрос о существовании (и форме существования) или несуществовании пропозиций нельзя считать псевдопроблемой философии, и его не следует рассматривать как схоластический спор, имеющий ценность только в рамках специфической аналитической философии. Это понятие вводится для решения действительно важных философских проблем. В пользу тезиса о важности рассмотрения данной проблемы хотелось бы привести в качестве примера одну из недавних работ из российской философии. А. Л. Никифоров в статье «Анализ понятия "знание": подходы и проблемы» 7 выдвигает тезис о том, что современные дискуссии по проблеме знания в аналитической философии являются совершенно бессмысленными. Свое утверждение он основывает на очевидности тезиса о том, что знание не является мнением (верованием). Знание, согласно этой статье, следует определять как высказывание, обладающее традиционно приписываемыми знанию свойствами - истинностью и обоснованностью. Высказывание, указывает Никифоров, является интерсубъективным в отличие от мнения или верования. Можно согласиться с Никифоровым в том, что философии не следует выбирать в качестве «единицы знания» нечто субъективное. Тем не менее его простой ответ на вопрос представляется не совсем убедительным и достаточным. Так, кто-то мог бы возразить, что высказывания являются слишком преходящими сущностями, чтобы претендовать на статус знания, равно как и предложения. Ведь очевидно, что на статус знания может претендовать только то, что является общим у двух совершенно одинаковых предложений, иначе каждый раз, когда я утверждаю, что снег бел, я сообщаю некоторое новое знание, и понятно, что у нас возникнут сложности с обоснованием такого знания. Так что же представляют собой эти общие сущности? Должны ли мы быть реалистами в духе Платона, чтобы предложить удовлетворительное определение знания?
Руководствуясь принципом бритвы Оккама, философам не следу-^ ет допускать умножения сущностей без необходимости. Пропози-Я ции - абстрактные сущности, и мы не можем удостовериться в их су-^ ществовании в чувственном опыте, не можем их потрогать или уви-
О
7 Никифоров А. Л. Анализ понятия «знание»: подходы и проблемы // Эпистемология и философия науки. 2009. № 3.
деть. Более того, большинство нефилософов даже не подозревают об их существовании.
Однако хорошо известно, что попытка доказать, что чего-то не существует, сталкивается с рядом методологических сложностей8. Например, нельзя доказать, что в комнате, где я сейчас нахожусь, нет невидимого кентавра или что не существует бога. Поэтому каждый раз, когда вводится некоторая сущность, бремя доказательства ее существования должно лежать на том, кто ее вводит. Из этого следует, что если мы не способны показать, что проблемы, для решения которых вводятся эти абстрактные сущности, не могут быть решены без обращения к ним, то нам следует отказаться от признания существования пропозиций.
В данной статье я постараюсь:
1) рассмотреть основные подходы к определению пропозиций и продемонстрировать сложности каждого из них;
2) обосновать тезис о том, что проблемы, для решения которых вводится понятие пропозиции, можно решить без его использования; более того, что введение этого понятия зачастую мешает разрешению указанной проблемы;
3) соответственно обосновать тезис о том, что пропозиций не су-ществует9.
Выше были перечислены несколько проблем из разных областей знания, которые решаются с помощью введения понятия пропозиции. Представляется, что признание существования пропозиций опирается на некоторое основное допущение, в пользу которого, на мой взгляд, сложно предложить какие-то аргументы, а следовательно, непонятно, почему мы должны его принимать. Это допущение состоит в том, что должно быть одно общее решение всех указанных выше проблем (и некоторых других, которые будут рассмотрены ниже) в области семантики естественных языков, логики, философии сознания, философии действия. Если же рассматривать эти проблемы по отдельности, то для каждой из них можно предложить конкретное решение, только нам придется отказаться от красивой симметрии между всеми этими областями. Иными словами, для теории референции совершенно не важно, что такое сознание и в какой форме существует ментальная репрезентация, обладает ли ментальное содержание структурой, а к теории познания не имеет никакого отношения вопрос о том, как формируется и что представляет собой значение предложений. Кроме того, нет никакого основания предполагать, что ин-
П
>я
8 См. : Куайн У. О том, что есть // У. Куайн. Слово и объект. М., 2000.
9 Конечно, я отрицаю существование пропозиций только как некоторых абстракт- ф ных сущностей. Речь не идет о том, что следует отказаться от термина, который в логике выполняет чисто техническую роль; для удобства его можно использовать и в семантике естественных языков.
п а
>г
е
тенция, задействованная в совершении действия, должна иметь точно такую же структуру, как верование в теории познания, а для теории сознания не важен вопрос о том, что является значением предложения в косвенном контексте.
Чтобы избежать неясности, хотелось бы заранее оговорить также то, что не является задачей данной статьи.
Во-первых, в данной статье не содержится обоснование номинализма в отношении абстрактных сущностей любого типа.
Во-вторых, отрицая существование пропозиций, я вовсе не хочу утверждать, что предложения лишены значения или что не существует мнений и желаний, что в семантике возможных миров нам не следует различать функцию и ее значение. Напротив, цель данной статьи состоит в том, чтобы показать, что отрицание существования пропозиций вовсе не приводит нас к этим радикальным выводам, что отказ от пропозиций не накладывает существенных ограничений на то, какой может быть теория значения, действия или сознания.
В-третьих, целью данной статьи не является решение проблемы значения, в ней не предлагается теория действия, в ней не говорится о том, обладает ли сознание способностью к репрезентации или сводится ли сознание к способности репрезентации, в ней нет ответа на вопрос о том, как формируется наша способность мыслить абстрактные объекты.
Эти философские проблемы очень важны, и я не думаю, что их можно разрешить в одной статье. Мой тезис будет скорее негативным. Я полагаю, что введение пропозиций в философии можно сравнить с введением шишковидной железы Декартом в философии сознания, которая, по его мнению, должна была разрешить проблему взаимодействия между сознанием и телом. Цель данной статьи состоит только в том, чтобы предложить некоторые основания, почему пропозиции не могут быть хорошим решением философских проблем.
Также следует отметить, что в данной статье отрицается существование пропозиций в строго определенном выше смысле. Если, к примеру, вы не считаете, что пропозиции - это абстрактные сущности, существующие независимо от языка и сознания, являющиеся объектом пропозициональных отношений, а считаете, что это чисто технический термин, то в данной статье не идет речь о том, что необходимо отказаться от таких пропозиций.
2. Виды пропозиций
Философы, признающие существование пропозиций, тем не менее расходятся в том, какими должны быть эти сущности, чтобы ре-^ шать весь комплекс проблем: быть смыслом предложения, быть ре-
ферентом предложения в косвенном контексте, выполнять роль содержания убеждений в структуре знания, выполнять роль содержания желаний и убеждений, задействованных в действии.
Расселовские пропозиции. Пропозиции, называемые в современной аналитической философии расселовскими (ИшБеШап), не связаны с представлением о пропозициях, предложенным Б. Расселом в его наиболее известной философской концепции логического атомизма. Данное понятие отсылает к более ранней работе Рассела «Принципы математики», вышедшей в 1903 г. В этой книге Рассел рассматривал пропозиции как комплексные сущности, состоящие из обычных конкретных предметов реального мира - референтов слов -и их свойств. Расселовские пропозиции представляют собой структурированные объекты, это означает, что одни и те же составные части пропозиций могут быть участниками других пропозиций. Представитель такой теории считает, что оборот, следующий после выражения «считает, что», отсылает к некоторому и-местному отношению, в котором стоят объекты. Свойства будут рассматриваться как одноместные отношения в такой схеме. Преимуществом данной теории является ее скромность, она не требует введения дополнительных сущностей. Пропозиции в такой интерпретации представляют собой факты реального мира, поэтому данная теория наиболее привлекательна для тех, кто стремится избежать умножения сущностей. То, что такие пропозиции называются расселовскими, конечно, не означает, что Рассел разделял взгляды современных сторонников этих пропозиций. (Нам следует отвлечься от вопроса о том, как интерпретировать предметы реального мира, разумеется, это не простой вопрос, но он не имеет прямого отношения к обсуждаемой проблематике.)
Сложности данной концепции очевидны и достаточно хорошо известны, это сложности любой референциальной теории значения, т.е. такой теории, в которой референция рассматривается как основа значения.
Первая проблема - это проблема пустых имен или референциаль-ных выражений, таких, как «нынешний король Франции». К примеру, если выяснится, что никакого философа по имени Аристотель не существовало, а все работы, приписываемые в настоящее время ему, были написаны тремя людьми, то предложение «Никита считает, что Аристотель был великим философом античности» по-прежнему должно обладать истинностным значением и по-прежнему должно быть осмысленным.
Вторая проблема состоит в том, что несколько референциальных П выражений могут относиться к одному и тому же объекту. При этом некто может осмысленно считать, что Скотт не является автором «Ве-верлея», но не может считать, что Скотт не является Скоттом. Сторонник такой строгой концепции пропозиций не может объяснить то-
>э
го, что предложения, сообщающие об убеждениях этого некто, должны обладать различным истинностным значением. Пропозиции такого типа, т.е. не проводящие различия между двумя разными референ-циальными выражениями, относящимися к одному объекту, также называются «обладающими грубой структурой» (course-grained).
Аналогичные сложности в случае с расселовской интерпретацией пропозиций возникают при анализе убеждений, которые понимаются как отношения к пропозициям. Легко представить ситуацию, когда человек имеет два противоположных убеждения относительно одного и того же предмета. Можно рассмотреть пример Г. Эванса: предположим, что человек видит из двух окон, находящихся в разных комнатах, два корабля. Он может сформировать два убеждения «Этот корабль был построен в Японии» и «Этот корабль не был построен в Японии»10. Однако этот человек не догадывается, что на самом деле из двух окон он видит один и тот же корабль. Этот пример показывает, что расселовские пропозиции не подходят для описания структуры убеждений, для этого требуется идея пропозиции, принимающая во внимание различие между разными способами представления одного и того же предмета.
Несмотря на эти очевидные сложности, расселовские пропозиции имеют достаточно много сторонников. Гарет Эванс выдвинул аргумент о том, что некоторые мысли таковы, что они не могли бы быть помыслимы, если бы их объект не существовал (т.е. что некоторые мысли необходимым образом являются расселовскими). Примером таких мыслей может быть мысль о любом видимом или воспринимаемом объекте. Также расселовскими являются мысли вроде «я размышляю», так называемые эгоцентрические мысли.
В целом было бы очень сложно доказывать, что расселовских пропозиций не существует по той причине, что в действительности они совпадают с фактами реального мира. Тем не менее я буду утверждать, что в некоторых контекстах нам не нужны даже расселовские пропозиции, т.е. не нужны все свойства, которые приписываются пропозициям такого типа.
Фрегевские пропозиции. Сторонник данных пропозиций считает, что референтами выражений, следующих после оборотов «считает, что...», «верит, что...», являются не объекты и свойства реального мира, а понятия или способы представления об этих объектах и свойствах (или способы мышления о них). Фрегевские пропозиции, также В как и расселовские, являются структурированными сущностями, П только их составными частями будут не объекты и свойства, а кон-jU цепты или понятия, которые могут выступать в разных предложениях
q в разных сочетаниях. ■
0 Evans G. The Varieties of Reference. Oxford, 1982. P. 84.
Что касается самого Фреге, то он не использовал термин «пропозиция», но в его теории этому термину соответствует термин «мысль» (Gedanke), которым он обозначал смысл целого предложения. Наибольшую известность получило его различие между смыслом и предметным значением.
Мыслью Фреге называл когнитивное содержание предложения: «Мысль, содержащаяся в предложении "Утренняя звезда есть тело, освещаемое солнцем", отлична от мысли, содержащейся в предложении "Вечерняя звезда есть тело, освещаемое солнцем". Тот, кто не знает, что Утренняя звезда есть Вечерняя звезда, мог бы считать одну мысль истинной, а другую ложной»11. Фрегевские пропозиции, благодаря тому что они учитывают это различие между способами репрезентации одного и того же объекта, называют также (пропозициями) «обладающими тонкой структурой» (fine-grained).
Не все сторонники фрегевских пропозиций полностью разделяют взгляды Фреге на природу мысли. Фреге был платоником и считал, что мысль должна существовать отдельно и независимо от человека, который ее мыслит. «От значения и смысла знака следует отличать связанное с ним представление. Если значение знака есть чувственно воспринимаемый предмет, то мое представление о нем есть внутренний образ, возникший из воспоминаний о чувственных впечатлениях, которые я имел»12. Мысли, по Фреге, не принадлежат конкретному человеку, так как в этом случае велик риск смешать их с ментальными образами, в то же время они не существуют в пространстве и времени. Мысль является истинной или ложной, даже если никто не думает о ней. Фреге был убежден, что если смысл не объективен, то он не может быть выражен, он пишет, что невозможно сравнить представления людей, так как они индивидуальны. Фрегевскими называются любые пропозиции, которые принимают во внимание различие между способом представления и объектом, вне зависимости от того, находится ли способ представления в голове или платоновском третьем мире. Тем не менее, по всей видимости, любой фрегеанец должен принимать тезис о том, что пропозиции (даже будучи ментальными репрезентациями) являются абстрактными объектами в том смысле, что они могут быть объектами убеждений абсолютно разных людей, а также, что человек в любой момент может обратиться к той же самой пропозиции, и помимо этого, что части пропозиций могут выступать элементами других пропозиций. В противном случае фрегевские пропозиции будут просто неспособны выполнить все возлагаемые на них функции (быть референтом предложений в косвенном залоге, быть значением предложений и т.п.). Я
__>Х
О
11 Фреге Г. О смысле и значении // Г. Фреге. Логика и логическая семантика. M., 2001. С. 234.
12 Там же.
Так, сторонник расселовских пропозиций считает, что в предложении «Илья считает, что Фидо - это собака» референтом «Фидо» будет Фидо, а «собака» - некоторое свойство «быть собакой», то сторонник фрегевских пропозиций будет считать, что их референтами будут понятие «Фидо» и понятие «быть собакой», которые выделяют соответствующий объект и свойство.
В ответ на первую проблему для расселовского подхода - проблему пустых имен - фрегеанец скажет, что предложения с ними являются осмысленными, поскольку имя, лишенное референта, может обладать смыслом. В контрфактической ситуации, когда все произведения Аристотеля были бы написаны не Аристотелем, а несколькими людьми, предложение «Никита считает, что Аристотель был великим философом Античности», референцией имени «Аристотель» будет способ представления или понятие об Аристотеле.
Вторая упомянутая проблема для сторонника расселовской интерпретации пропозиций, когда несколько референциальных выражений могут относиться к одному и тому же объекту, также решается в концепции Фреге. Некто может осмысленно считать, что Скотт не является автором «Веверлея», но не может считать, что Скотт не является Скоттом, поскольку «Скотт» и «автор "Веверлея"» имеют в данном случае референцией не этого конкретного человека, а два разных способа представления, поэтому данные два предложения имеют разные истинностные условия. Здесь речь не идет о том, что кто-то должен рационально верить и отрицать одну и ту же пропозицию, а скорее, что он должен принимать одну пропозицию и отрицать другую.
Несмотря на то что фрегевское представление о пропозициях имеет определенные преимущества перед концепцией в духе Рассела, она имеет и свои сложности.
Основная сложность этой концепции - ее неполнота. В расселов-ской интерпретации пропозиций нам известны компоненты пропозиций (в той мере, в какой нам известны объекты реального мира и отношения, в которых они состоят). Что же такое фрегевские смыслы? И какими свойствами должны обладать эти объекты, чтобы полностью выполнять роль значения и связывать наши знаки с предметами и свойствами мира?
Фрегевский платонизм и его концепция третьего мира сегодня имеют мало сторонников. Но и интерпретация смысла как психологической репрезентации, по всей видимости, только усложняет задачу. И""1 Как возможно, что мы все имеем доступ к одним и тем же репрезента-2 циям? Как я могу узнать, какая репрезентация была у другого челове-Я ка? Видимо, невозможность дать ответ на эти вопросы в некоторых ^ случаях будет иметь очень серьезные последствия для этой теории. О Смысл слова должен быть способен выступать конституентой
разных пропозиций (так же как и слово способно входить в разные предложения). Данную сложность можно продемонстрировать на
а
любом примере, когда человек сообщает об убеждениях (или других пропозициональных установках) других людей. Рассмотрим, к примеру, такой случай: вы говорите «Коперник считал, что Утренняя звезда есть Венера». Референтом подчиненного предложения должен быть смысл, понятый психологически, - как способ репрезентации. Тогда в данном случае, чтобы оценить истинность данного предложения, у вас должен быть доступ к репрезентациям Коперника (в противном случае вам не известен референт одной части данного предложения). Но очевидно, что это вовсе не требуется ни для произнесения, ни для понимания данного предложения, ни для оценки его истинности.
Также сложность для современных фрегеанцев представляет анализ предложений, где в качестве субъекта, обладающего убеждением или желанием, выступает некоторое множество людей. Это предложения типа «Многие люди считают, что бог существует». Что за понятие может быть референтом «бога» в косвенном контексте, чтобы отражать понятие каждого верующего (даже не упоминая вопрос о сложности интерпретации понятия «существования»)?
Только на первый взгляд кажется, что фрегевские пропозиции идеально подходят на роль значений предложений в косвенных контекстах. Как было показано выше, использование фрегевских пропозиций для объяснения случаев такого типа также сталкивается со сложностями. Можно привести примеры случаев, когда единичные термины в оборотах с «что» очевидно должны иметь референцию не к понятиям о вещах, а к самим вещам. Например, если кто-то говорит «Я думаю, что я тебя люблю», очевидно, что «я» в обоих случаях здесь должно иметь референтом говорящего, и «тебя» должно иметь референтом другого человека, а не смысл, понятие или способ пред-ставления13.
Вторая сложность этой концепции была сформулирована в работах С. Крипке. Он привел ряд аргументов в пользу того, что имена и другие сингулярные термины являются жесткими десигнаторами и обозначают свой референт во всех возможных мирах. Предложение «Аристотель мог так никогда и не стать философом» является осмысленным. Тем не менее в этом предложении мы не можем заменить имя «Аристотель» на описание «последний великий философ античности», а значит, эта дескрипция не является значением данного имени.
Неструктурированные пропозиции. С появлением и развитием модальной логики была выдвинута идея определить пропозиции в терминах возможных миров. В семантике возможных миров выраже- П ниям приписываются экстенсионалы в возможных мирах. Поскольку ^ пропозиции традиционно считаются носителями условий истинно- ф
13 8еЫ//вг 8. ТЬе ТЫ^я Меап. ОхАэга, 2003. Р. 83.
сти, равно как и модальных свойств, в семантике возможных миров пропозиции были определены как функции от возможных миров к истинностным значениям или класс возможных миров. Поскольку определение пропозиций как класса возможных миров было предложено Робертом Сталнакером14, такие пропозиции называются сталнаке-ровскими. Главная особенность сталнакеровских пропозиций состоит в том, что они не являются структурированными. С этим связаны и сложности этого определения, основная из которых заключается в том, что такие пропозиции являются недостаточно структурированными, чтобы выполнять все те технические функции, выполнение которые от них ожидается. Так, если две пропозиции P и Q истинны в одних и тех же мирах, то эти пропозиции равны. Например, два предложения «все холостяки не женаты» и «1 + 1 = 2» в данном случае должны рассматриваться как одна и та же пропозиция, поскольку они обе истинны во всех возможных мирах. Тем не менее ясно, что пропозиции, выраженные этими предложениями, различны, они имеют разные составные части.
В частности, если верования являются отношением к пропозициям, то мы будем вынуждены признать, что если предложение «Игорь считает, что все неженатые мужчины являются холостяками» истинно, то истинно и предложение «Игорь считает, что 1 + 1= 2», поскольку, как мы видели выше, это фактически одна и та же пропозиция в такой интерпретации. Это заставило многих философов отказаться от данного определения пропозиций в пользу структурированных пропозиций.
Плеонастические пропозиции. Плеонастические пропозиции (pleonastic propositions) - термин, предложенный С. Шиффером в работе «То, что мы имеем в виду»15.
Пропозиции существуют, согласно Шифферу, но в отличие от предметов внешнего мира они есть не более чем наше понятие о пропозициях. Их можно называть абстрактными сущностями, но это не значит, что наше сознание может выходить за пределы физического мира и вступать в контакт с объектами платоновского универсума. Мы знаем о пропозициях - в отличие от нашего знания о столах и стульях - не потому, что они даны нам в опыте, а потому, что мы участвуем в особого рода лингвистической и концептуальной практике. Благодаря тому что мы говорим и думаем определенным образом, мы способны знать о пропозициях. В Итак, в каком смысле существуют пропозиции? Они существуют
П в том смысле, утверждает Шиффер, что основополагающие аксиомы ^U наших высказываний о пропозициях являются истинными. Напри-
О _
X
14 Stalnaker R. Possible Worlds. Noûs 10 (1) : 65-75. 1976.
15 Schiffer S. Op. cit. P. 56.
мер, истинной является такая аксиома «Пропозиция, что р, истинна, если и только если р». Она истинна благодаря тому, что пропозиции существуют и имеют свойства, приписываемые им. Более того, поскольку эти аксиомы являются основополагающими для понятия пропозиции, из этого следует, что, усваивая это понятие, мы узнаем истинность данных аксиом16.
Шиффер утверждает, тем не менее, что это не мы делаем данные аксиомы истинными, говоря, думая или предполагая, что они истинны. Пропозиции не зависят от нашего сознания, и сами эти аксиомы предполагают эту независимость.
Шиффер полагает, что пропозиции - это одна из разновидностей плеонастических сущностей. Другими видами таких сущностей являются фикции, события, значения и свойства. Проще всего объяснить понятие плеонастической сущности на примере фикции. Рассмотрим пример литературного героя - князя Мышкина из романа «Идиот» Достоевского. Этот герой возникает одновременно с появлением книги Достоевского, и до того он не существовал. Тем не менее мы не можем произвольно приписывать ему какие-то свойства. Определенные предложения о нем будут истинными, определенные - ложными. Например, истинными предложениями будут «князь Мышкин страдает эпилепсией» и «князь Мышкин родственник Епачиных», а предложение «князь Мышкин женился на Аглае» будет ложным.
Взгляд Шиффера на природу пропозиций может быть назван де-фляционистским в некотором смысле (поскольку он пытается представить как избыточный вопрос о существовании и природе пропозиций). Тем не менее Шиффер признает все виды плеонастических сущностей, которые не нарушают основополагающие законы логики и физики (соответственно он исключает такие сущности, как круглый квадрат)17.
Плеонастическая сущность - это сущность, предполагающая истинность трансформаций из-ничего-в-нечто (something-from-nothing transformations).
Трансформация из-ничего-в-нечто - это утверждение, которое позволяет нам вывести предложение о некоторой сущности из утверждения, в котором не содержится референция к этой сущности. («Если снег бел, то пропозиция, что снег бел, существует и является истинной».)
С одной стороны, эта теория, кажется, утверждает нечто очевидное. Например, концепцию о том, что существует некий третий мир, в котором находятся абстрактные сущности, имеющие структуру наших предложений, вряд ли можно назвать многообещающей. Я
-->Х
6 SchifferS. Op. cit. P. 56.
7 McGrath M.Proposit http://plato.stanford.edu/entries/propositions/.
17 McGrath M.Propositions // Stanford Encyclopedia of Philosophy. - URL:
а
С другой стороны, эта теория наследует некоторые сложности фрегевской концепции. Вернемся к примеру «Я думаю, что я тебя люблю». «Думаю» в данном случае является отношением к пропозиции, однако же «я» во втором вхождении должно относиться не к пропозиции или понятию, а ко мне.
Далее, по всей видимости, эта концепция вовсе не продвигает нас на пути понимания, чем же являются пропозиции. Сказать, что пропозиции - это плеонастические сущности, не значит разрешить проблему, с которой мы столкнулись, рассматривая фрегевские пропозиции, - мы просто не знаем, чем такие сущности являются18. Пример с князем Мышкиным не должен вводить нас в заблуждение. Важное различие между этими двумя случаями (литературный герой и пропозиция) состоит в том, что значения и пропозиции должны возникать одновременно с языком и мышлением, т.е. раньше, чем возникает практика использования выражений «значение», «пропозиция».
Кроме того, сомнения возникают и в отношении «трансформаций из-ничего-в-нечто». Если рассматривать конкретный пример с пропозициями, то в данном случае такой переход («Если снег бел, то пропозиция, что снег бел, существует и является истинной») естествен для английского языка, но не естествен для русского, в котором даже нет аналога слова «proposition» (слово «пропозиции» - это скорее искусственное изобретение). Шиффер считает, что значение предложения (высказывания) не является пропозицией, пропозицией является значение говорящего, то, что высказывающий данное предложение имеет в виду. Дело в том, что значение предложения, по Шифферу, является нечетким и определяется контекстом. Рассмотрим пример предложения «Идет дождь». Значение этого предложения не может быть пропозицией, так как оно будет зависеть от того, где и при каких условиях произнесено это предложение. Более того, условия истинности этого предложения будут различными в зависимости от места и времени произнесения. Тогда можно сформулировать такой аргумент против концепции Шиффера. Рассмотрим значение предложения «Бог существует». Очевидно, что его истинностные условия также будут зависеть от места и времени произнесения. Например, это предложение будет иметь одни истинностные условия для Древнего Египта и совершенно другие для христианской культуры. Но если и возможно утверждать, что смысл этого предложения не может быть про-
В 18 В заключение обсуждения вопроса о том, какие бывают пропозиции, хотелось бы
щ сделать чисто техническое замечание. Английский термин proposition часто переводят
(I) на русский язык термином «суждение», аргументируя это тем, что сложилась опреде-
^ ленная традиция перевода работ по логике (в частности, приводятся переводы работ
Q Черча), которой надлежит следовать в дальнейшей практике перевода. Как очевидно из
данного обсуждения, этот термин больше неадекватен для изложения современных дискуссий по данной проблематике, поэтому мы пользовались именно переводом «пропозиция».
позицией на том основании, что он является нечетким (vague), то в точно таком же смысле пропозиция, вовлеченная в анализ предложения «Многие люди верят, что Бог существует», является неопределенной.
Есть, на мой взгляд, и еще одна сложность этой концепции. В частности, Шиффер утверждает, что мы должны допустить существование пропозиций, потому что мы должны объяснять каким-то образом истинность выводов типа «Я верю, что Кларк Кент - это супермен», «Ты веришь, что Кларк Кент - это супермен», следовательно, есть нечто, во что мы оба верим. Но для того чтобы объяснить такого рода выводы, мы должны были бы быть способны предложить некоторые критерии тождества и различия пропозиций. Предположим, что вы и я считаем, что идет дождь, при том, что вы находитесь в Лондоне, аяв Нью-Йорке, и при том, что в Нью-Йорке солнечная погода. Верим ли мы в одну и ту же пропозицию или разные? А если мы живем в разных районах Нью-Йорка, в одном из которых идет дождь, а в другом нет, и верим в одну и ту же пропозицию «Идет дождь в Нью-Йорке» (при том, что у вас закрыты окна и вы принимаете шум за окном за шум дождя)? Данный аргумент также основывается на идее о том, что если значение предложения не может быть пропозицией из-за неопределенности, то по той же самой причине и убеждение не может быть отношением к пропозиции.
Почему нам не нужны пропозиции? Здесь я постараюсь суммировать основные аргументы, встречающиеся в англо-американской литературе (или те, которые могли бы рассматриваться как такого рода аргументы), в пользу существования пропозиций и показать, как можно обойтись без них в этих конкретных случаях.
1. Должно быть что-то общее между двумя конкретными произнесениями или написаниями одного предложения или высказывания. Например, мы должны объяснять, как «Снег бел»1 и «Снег бел»2 могут обозначать один и тот же факт. В ответ на это мне хотелось бы выдвинуть такой очевидный тезис: даже если бы такая проблема существовала, пропозиции не могли бы помочь нам в ее разрешении. Если мы сталкиваемся с проблемой отнесения двух конкретных образцов (тоукен) предложений к одному и тому же типу, введение пропозиций только усложняет ответ на вопрос. Мы лишь откладываем ответ и теперь вынуждены ответить на целый ряд других вопросов: а что значит для двух предложений выражать одну и ту же пропозицию? И что соотносит предложение именно с этой пропозицией, а не какой-то иной? И что запрещает нам сказать, что тоукен (1) предло- П жения «Снег бел» относится к пропозиции «что снег бел», а тоукен (2) «Снег бел» относится к пропозиции «что трава зеленая» в одном и q том же языке одного и того же сообщества?
До введения пропозиций нам нужно было разрешить одну проблему: как несколько предложений могут относиться к одному и тому же факту. С введением пропозиций нам нужно разрешить уже две проблемы: 1) как несколько предложений могут относиться к одной и той же пропозиции; 2) как пропозиция может относиться к факту. Ясно, что в данном случае более рациональным является отказаться от идеи, что пропозиция является значением предложения19.
Есть еще одно соображение, уже упомянутое выше, в пользу того, что значением предложения не может быть пропозиция, поскольку значение предложения является нечетким и зависит от контекста (Шиффер). Однако, на мой взгляд, Шиффер преувеличивает степень действия этого аргумента. Действительно, значением предложения «Идет снег» не может быть пропозиция, потому что значение этого предложения включает индексный элемент (мы не знаем истинностных условий этого предложения, если нам не известен контекст его употребления). Тем не менее есть огромный ряд предложений, смысл которых является идеальными кандидатами на роль пропозиции. Например, предложения «Снег бел», «Корова - жвачное животное» или «Дельфины - это разновидность рыб» (т.е. включая и ложные предложения).
2. Пропозиции нужны для решения семантических проблем, таких, как объяснение свойств предложений в косвенном контексте. Например, в косвенном контексте мы не можем произвольно заменить одно имя на другое с той же референцией, поскольку это может повлиять на изменение истинностных условий целого предложения. Пожалуй, это одно из самых популярных оснований для принятия существования пропозиций. Однако выше мы видели, что ни фрегевские, ни расселовские, ни сталнакеровские, ни плеонастические пропозиции на самом деле не решают именно эту проблему. Если референцией предложения в косвенном контексте должна быть фрегеанская или плеонастическая пропозиция, то мы столкнемся со сложностью объяснения референции предложения в двойном косвенном контексте («Фреге сказал, что Коперник считал, что Утренняя звезда - это Венера»). Расселовские и сталнакеровские пропозиции не подходят для решения этой проблемы, потому что они не являются достаточно тонко структурированными (сторонник пропозиций этого типа должен признавать, что мы можем заменить имя другим именем с той же референцией в косвенном контексте).
3. Отказ от пропозиций обязывает нас отказаться от пред-5 ставления о том, что семантика естественных языков является Я композициональной и имеет своей основой условия истинности. Фре-^ ге вводит понятие смысла предложения (мысли), в частности, для то-
е
19 Ясно, что этот аргумент не затрагивает расселовских пропозиций, которые и есть
факты.
го, чтобы сохранить объяснение значения в терминах условий истинности и для предложений с косвенными контекстами. В ответ на это следует указать, что, во-первых, как было указано выше, никому еще не удалось сформулировать понятие пропозиций, которое решало бы именно эту проблему.
Во-вторых, к примеру, были предложены варианты сохранения семантики, основанной на условиях истинности, избегающие обращения к «пропозициям» для объяснения косвенных контекстов (Д. Дэвидсон предлагал рассматривать пропозициональные отношения как отношения к предложениям, его концепция не лишена сложностей, но не лишено их и объяснение, обращающееся к пропозициям).
В-третьих, существуют теории значения для естественных языков, отказывающиеся от этого допущения, в частности это теории значения как употребления. Два разных референциальных выражения с одной референцией, тем не менее, могут иметь разные условия принятия (предложений, содержащих это слово). Мы можем сказать, что в косвенном контексте мы должны учитывать именно разницу в условиях принятия выражения.
4. Нам необходимо понятие смысла целого предложения (в частности, когда мы имеем дело с предложениями в косвенном контексте), именно эту роль выполняют пропозиции. В ответ на это можно было бы сказать, что нет никакой необходимости вводить дополнительные сложные сущности в виде пропозиций для анализа смысла целого предложения. Так, дефляционист мог бы сказать, что мы понимаем значение целого предложения, зная значение компонентов выражения и структуру предложения.
Более того, Дэвидсон в статье «Истина и значение» показывает, что даже если бы у нас были фрегевские смыслы отдельных выражений (не предложений), их способность комбинироваться и давать в результате смысл целого предложения была бы не менее загадочной. «Переключение от референции к смыслу не дает полезного объяснения того, как смысл целого предложения зависит от смысла слов (или других структурных компонентов), которые его составляют»20. Введение пропозиций никоим образом не продвигает нас к решению проблемы композициональности.
5. Мы можем по-разному называть пропозиции, но суть состоит в том, что у предложения есть условия истинности - они и есть пропозиции. С этим утверждением сложно не согласиться. Но почему мы не можем считать, что истинностными условиями предложения будут факты реального мира, а носителями условий истинности - са- Я ми предложения? В этом плане в семантической концепции, конечно, нельзя отказаться от расселовских пропозиций.
20 Davidson D. Truth and Meaning // Synthese. Vol. 17, No. 3. P. 306.
>3
Какую бы концепцию пропозиций мы ни принимали, в любом случае скорее всего мы должны будем сохранить факты мира. По крайней мере, сложно представить себе какую-либо теорию значения, в которой предполагается, что предложения нашего языка не сообщают нечто о реальном мире, предметах, их свойствах и отношениях, в которых они стоят. Поэтому вряд ли введение еще одной сущности что-то дает нам для понимания условий истинности.
6. Убеждения и другие ментальные феномены должны быть отношением к пропозиции. Мы не можем считать, что убеждение является отношением к факту, потому что, к примеру, двум предложениям «Утренняя звезда есть Венера» и «Вечерняя звезда есть Венера» могут соответствовать два убеждения, но только один факт. В этом плане убеждение нельзя представить и как простое отношение к рас-селовским пропозициям.
Предложения об убеждениях - особого рода предложения, они имеют особые семантические свойства. Но из этого не следует, что сами убеждения должны иметь те же свойства. В действительности мы не пытаемся понять природу воды, анализируя предложения о воде. Конечно, наши мысли мы выражаем прежде всего в языке. Но и научные теории мы выражаем также в языке, из этого вовсе не следует, что для понимания какой-нибудь теории Ньютона нам следует разбирать структуру латинского языка.
Я не думаю, что у нас должно быть некоторое единое решение проблемы «верований», «желаний». В конечном счете большинство ментальных феноменов так или иначе должны быть отношением к фактам, поскольку они должны быть истинными или ложными. Некоторые из них - такие, как представления - имеют более непосредственное отношение к фактам, другие - некоторые виды верований, надежды и т.п. - более опосредованное, через представления. Есть также основания предполагать, что ментальные репрезентации имеют холистскую природу (т.е. не состоят из отдельных атомов - отношений к пропозициям).
Мы видели, что семантическую проблему предложений такого типа не решает введение пропозиций. Привносят ли пропозиции что-то новое в объяснение ментальных фактов? Предположим, верование - это отношение к пропозиции, а уже пропозиция будет иметь отношение к фактам реального мира. Но каким образом пропозиция будет относиться к фактам реального мира? Тот же самый вопрос, какой мы задавали относительно связи между пропозицией и предложе-^ нием, возникает и сейчас - что связывает конкретную пропозицию с Я конкретным фактом? Пропозиция в данном случае опять же дает нам ^ только видимость объяснения.
О 7. Пропозиции должны существовать, поскольку они являются
более надежным носителем знания, чем верования, основанные на представлениях. Более того, знание требует зачастую очень тонких
а
различий, очевидно, что представления не подходят на эту роль. В ответ на это мы могли бы сказать: неправильно ожидать, что все верования будут верованиями одного и того же типа. Можно утверждать, что существуют верования (и знания) «как». Мы могли бы представить некоторые очень сложные верования как отношения к предложениям естественного языка. Скорее всего виды верований, составляющих научное знание, и есть отношения к высказываниям и предложениям. Но из этого вовсе не следует, что знание зависит от того, как формируется значение. Если значение фиксируется какими-то внешними факторами (а оно, очевидно, фиксируется в том числе внешними факторами), это вовсе не будет означать, что у нас нет доступа к нашему знанию. Наши способы обоснования знания никак не связаны с тем, как слово приобретает значение. Мы используем в данном случае функциональные особенности языка, а именно, его свойство обозначать предметы и факты мира. Каким образом он обозначает эти факты и предметы мира, настолько же не важно для обоснования знания, как и для содержания данной статьи не важно, что она напечатана на компьютере, а не написана от руки.
8. Пропозиции удобны для объяснения некоторых аспектов мира, в частности для объяснения действия. Мы объясняем поведение, прежде всего угадывая и приписывая людям верования и желания, с определенным пропозициональным содержанием. Например, поведение человека, идущего с зонтом, мы объясняем, предполагая, что за ним стоят верование, что идет дождь, и желание остаться сухим. В то же время, зная или предполагая верования и желания человека, мы предсказываем его действия. Так, мы ожидаем, что водитель остановится перед пешеходным переходом, приписывая ему верование, что таковы правила движения, и желание не сбить человека. Помимо этого, мы опираемся на поведение других людей (в том числе и языковое поведение) для того, чтобы получить информацию об окружающем мире. Если ваш друг из Нарьян-Мара звонит вам и говорит, что там идет дождь, вы делаете вывод о том, что в Нарьян-Маре идет дождь. Вы делаете этот вывод, поскольку знаете, каким образом обычно человек приходит к верованиям такого типа, и понимаете, что он редко может ошибаться в их истинности21.
Опять же, мы можем приписывать людям убеждения и желания, не допуская при этом существования пропозиций. Средством упрощения во всех этих случаях скорее служат предложения естественного языка, в которых мы описываем действие (на самом деле оно требует очень сложного описания, включающего описание определенных процессов в нашем теле). Например, мы с таким же успехом Я приписываем верования и желания собакам и кошкам, но из этого не ^
О
21 Schiffer S. Propositions What are They Good for // R. Schantz (ed.). Prospects for Meaning. Oxford, 2010.
п а
>х е х
а
следует, что мы с ними должны иметь доступ к некоторым сущностям одного типа - пропозициям. Как показал Деннет, более того, мы можем приписывать убеждения и желания компьютеру и будильнику22.
9. Существование пропозиций объясняет истинность выводов некоторого типа, например: «Я верю, что снег бел», «Ты веришь, что снег бел», следовательно, существует нечто, во что мы оба верим. Я не думаю, что это очень серьезный аргумент в пользу пропозиций. В частности, допущение их существования не позволяет нам объяснить ложность выводов другого типа. Например, мы можем совершить переход от «Я верю, что снег бел» к «Я верю в пропозицию, что снег бел». Но мы не можем совершить аналогичного перехода в случае с надеждой, мы не можем сказать «Я надеюсь на пропозицию, что снег бел». Это всего лишь способ употребления выражения «пропозиция», более естественный для одних языков и менее - для других, я не думаю, что мы должны строить серьезную концепцию, объясняющую истинность этих выводов.
10. Мы должны допустить существование пропозиций для объяснения пропозициональных отношений, поскольку их невозможно объяснить в чисто интерналистских (внутренних для человека -функциональных или физикалистских) терминах. Некоторые аргументы X. Патнэма, Т. Берджа и др. показали, что внешние для человека факторы играют существенную роль для индивидуации его ментального содержания, поэтому нельзя предложить редукционистского объяснения ментального содержания, сводя интенциональные установки к физическим или функциональным состояниям мозга (или нервной системы в целом). В ответ на это можно сказать, что обозначенные выше аргументы относились к значению, а не к ментальному содержанию, и для обоснования данного 10-го тезиса нужен дополнительный аргумент о том, что значение - это ментальное содержание.
Итак, если мы не ожидаем единого решения проблем семантики, теории действия, теории сознания, теории познания, то мы видим, что каждая из этих областей в отдельности не требует введения понятия пропозиции. Мы можем использовать этот термин в прагматических целях, обозначая им класс предложений, имеющих одно и то же значение, при этом дать определение этому значению, не предполагая существование абстрактных не зависимых от языка и мышления сущностей.
22 DennetD. Ор. ой





 CC BY
CC BY 68
68