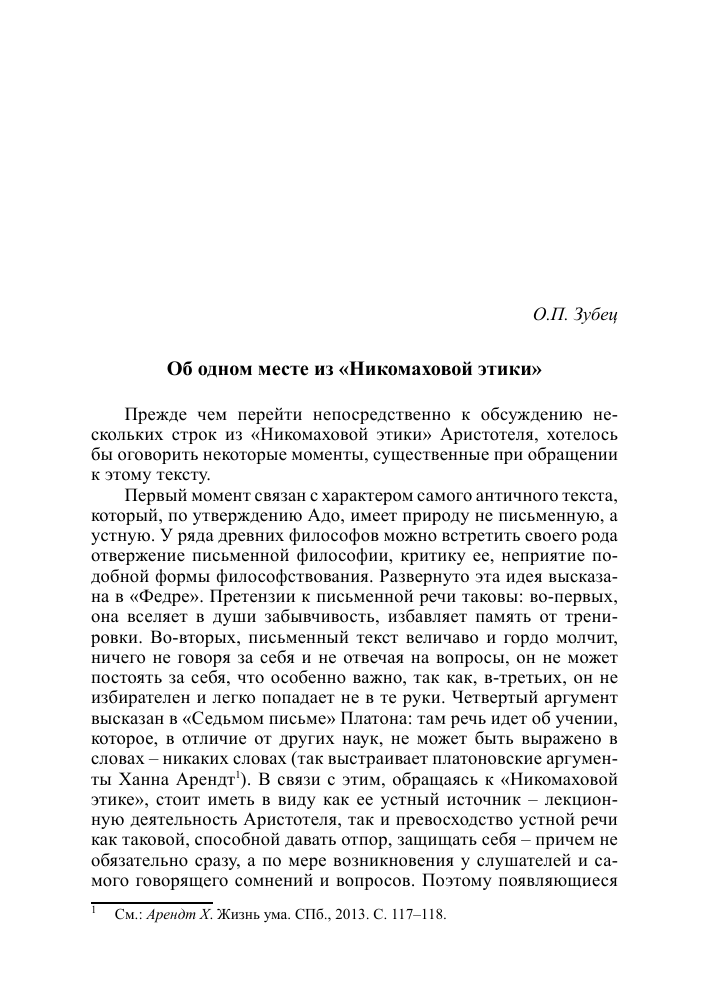О.П. Зубец
Об одном месте из «Никомаховой этики»
Прежде чем перейти непосредственно к обсуждению нескольких строк из «Никомаховой этики» Аристотеля, хотелось бы оговорить некоторые моменты, существенные при обращении к этому тексту.
Первый момент связан с характером самого античного текста, который, по утверждению Адо, имеет природу не письменную, а устную. У ряда древних философов можно встретить своего рода отвержение письменной философии, критику ее, неприятие подобной формы философствования. Развернуто эта идея высказана в «Федре». Претензии к письменной речи таковы: во-первых, она вселяет в души забывчивость, избавляет память от тренировки. Во-вторых, письменный текст величаво и гордо молчит, ничего не говоря за себя и не отвечая на вопросы, он не может постоять за себя, что особенно важно, так как, в-третьих, он не избирателен и легко попадает не в те руки. Четвертый аргумент высказан в «Седьмом письме» Платона: там речь идет об учении, которое, в отличие от других наук, не может быть выражено в словах - никаких словах (так выстраивает платоновские аргументы Ханна Арендт1). В связи с этим, обращаясь к «Никомаховой этике», стоит иметь в виду как ее устный источник - лекционную деятельность Аристотеля, так и превосходство устной речи как таковой, способной давать отпор, защищать себя - причем не обязательно сразу, а по мере возникновения у слушателей и самого говорящего сомнений и вопросов. Поэтому появляющиеся
1 См.: АрендтХ. Жизнь ума. СПб., 2013. С. 117-118.
в тексте «Никомаховой этики» возвращения к уже проговоренным ранее идеям имеют особое значение, фиксируя точки сосредоточенного внимания философа, воспроизводя новые аргументы и объяснения. И обращение к ним, таким образом, не только оправдано, но и необходимо для понимания мысли автора. Стоит иметь в виду и общую сложность отношения философской мысли с ее словесным выражением. В.Бибихин на лекции по истории философии говорит: «Исследователи жалуются на терминологическую непоследовательность Гегеля, Аристотеля, Лейбница. ...Мыслители пишут не лексикой, а невыразимой мыслью, как огнем. Как будто бы знакомая лексика у них к ним подступа не дает. Кто не рискует вцепиться в само дело, которым они захвачены, тот останется при переборе лексики»2. «Перебор лексики» является подходом, ломающим и скрывающим мысль в силу того, что сама философская мысль находится в постоянной неудовлетворенности языком, воспринимая ее недоязыком или предъязыком. Поэтому нелепо было бы предварять понимание терминологическими разборками. Это еще в большей степени нелепо в отношении античного автора, употребляющего обыденный язык во всем его многообразии.
Второй момент порожден отношениями здравого смысла, общепринятых мнений и философии. Арендт замечает, что именно здравый смысл философа, определяемый тем, что философ является таким же человеком, как и иные носители этого здравого смысла, именно этот здравый смысл «заставляет его понимать, что он выпадает из всякого рода , пока занимается мышлением»3. И именно в силу беспомощности мышления перед аргументами здравомысленного суждения «философ склоняется к ответу в терминах здравого смысла, который для этого он просто переворачивает с ног на голову»4. Именно этот переворот, переиначивание здравомысленных утверждений и оценок обозначает своего рода границу, переступание в пространство философии; и именно в силу его переворачивающего характера это переступание открыто явлено в текстах, в самом ходе мысли.
2 Бибихин В.В. Книги. Статьи. Переводы (https://www.facebook.com/bibikhin/ posts/432742490158549).
3 АрендтХ. Жизнь ума. С. 83.
4 Там же. С. 83.
В произведении Аристотеля множество обращений к мнению - к общеизвестным представлениям сограждан. Философия изначально рождалась в противостоянии мнению, в критике его. Аристотель избирает путь ученого, отталкивающегося от мнения: анализирует, систематизирует и обобщает его, он как бы постоянно погружен в видимое, говоримое, считаемое. Но при этом Аристотель верен античному пониманию философии как задающей особый мир, особые смыслы, отвергающей и критикующей обыденные представления и этим, впрочем, сохраняющей их живую ткань в истории мысли. Можно привести целый ряд примеров решительного переступания Аристотеля за границу мнения и здравого смысла и задания совершенно иного - философского смысла понятий и идей. Так происходит при анализе дружбы, чести, себялюбия и др. Сложность отношения мнения и философии не только воспроизводится в самом философском тексте, но во многом определяет и историю его интерпретации - мнение, выражающее и опыт повседневности, и перипетии ценностного сознания, нередко становилось основой понимания, вернее непонимания, и переосмысления философского текста, некогда оторвавшегося от него.
Все сказанное в полной мере относится к совсем небольшому отрывку из аристотелевского рассмотрения добродетели величавости, принявшего форму описания образа Величавого. Вот этот отрывок:
«Он способен оказывать благодеяния, но стыдится принимать их, так как первое - признак его превосходства, а второе - превосходства другого. За благодеяние он воздаст большим благодеянием, ведь тогда оказавший услугу первым останется ему еще должен и будет облагодетельствован. Говорят, люди величавые помнят, кому они оказали благодеяние, а кто их облагодетельствовал - нет (облагодетельствованный-то ниже благодетеля, а они жаждут превосходства), притом величавые с удовольствием слушают о благодеяниях, которые они оказали, и недовольно - об оказанных им. Вот почему даже Фетида не упоминает благодеяния, оказанного ею Зевсу, и лаконяне - благодеяний, оказанных ими афинянам, но только те, что были оказаны им самим. Признак величавого - не нуждаться [никогда и] ни в чем или крайне редко, но в то же время охотно оказывать услуги» (БЫ,1124в 10-18)5.
«Никомахова этика» цитируется в переводе Н.В.Брагинской по изданию: Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Соч.: в 4 т. Т. 4. М., 1984. Далее при ссылках - БЫ с указанием стандартного округленного номера строк.
В целостном, доведенном до портретной выразительности фрагменте «Никомаховой этики», в котором речь идет об образе Величавого, это место (впрочем, не единственное) смущало и раздражало практически всех, кто обращался к данному тексту. Собственно, причина такой реакции понятна: ведь во фрагменте Аристотель задает идеальный образ добродетельного человека в пространстве деятельного образа жизни - то есть моральный идеал. То, что этот идеал является явно аристократическим, хотя и признается большинством исследователей, но тем не менее остается на периферии их внимания. И указанное место коробит их в силу несовместимости с рядом христианских и новоевропейских ценностей и ценностных понятий, среди которых - взаимность и равенство занимают не последнее место. Смущает критиков и несоответствие подобного описания представлениям о ценностях и нравах античности6. Собственно говоря, вся история агрессивного неприятия данного фрагмента или переосмысления, доводящего до уничтожения его содержания, есть редкий пример открытого противостояния обыденных представлений, впрочем, пропитанных определенной морально-этической традицией, и философского понимания-задания морали.
Одна из наиболее очевидных и важных особенностей добродетели величавости (помещенной Аристотелем в ряд из десяти добродетелей) заключается в том, что она характеризует не поступки человека, а основу всякого поступания - его отношение к самому себе. Это такое отношение, которое имеет не столько познавательную, сколько ценностную основу: Величавый считает себя достойным великого, будучи этого достойным. Хотя его отличие от спесивого и униженного определяется согласованием «считания», видения себя и некоторой реальности, величавость определена именно через задание себя как достойного великого. Ведь гносеологически безошибочным является и считание себя достойным малого тем, кто только этого малого и достоин. Иными словами, и малый человек может знать себя (в узком смысле адекватности
В античной литературе, как утверждается, благородство связывается с благодарностью, а ее отсутствие часто воспринимается как трагическая ошибка. Так, критики Величавого приводят пример из «Аякса» Софокла: В нас чувство благодарное родится От чувства благодарного, - супруг,
Забывший нежность ласк, неблагороден (Пер. С.Н.Шервинского).
представления о себе), но от этого он не становится величавым. Считать себя достойным великого, будучи этого достойным - не познавательное, а принципиально иное отношение к себе: своего рода установление, признание себя в некотором качестве.
Сложность всего фрагмента о Величавом определена, в частности, тем, что в нем речь идет об отношении человека к себе и в то же время об эмпирической данности этого отношения, то есть он дан и через видение его другими людьми: но обычный ход рассуждения в данном случае особенно парадоксален, раз речь идет не о поступке, явленном окружающим (хотя, в сущности, он не может быть объективирован), а об отношении с самим собой. С одной стороны, Аристотель, как почти всегда, начинает описание с воспроизводства некоторых мнений, того, что «считается», «называется» и т. п., то есть описывает отношение человека к себе через отношение к нему окружающих, проявленное в их видении его. Но с другой, оказывается, что для Величавого невозможно напоминание об оказанном ему благодеянии, услуге со стороны другого человека (как Фетида не напоминает Зевсу об оказанной ему услуге, так же как спартанцы ведут себя в отношениях с афинянами) - то есть сам он не видит себя ни глазами других людей, совершающих благодеяния (не желая быть их объектом), ни глазами тех, по отношению к которым совершает благодеяние, исключая ответную благодарность7: ведь в логике данного отрывка ее ответное про-
7
Подобное нежелание слышать мнение о себе интерпретируется Хоулэндом (Howland J. Aristotle's Great-Souled Man // The Review of Politics. Vol. 64. № 1 (Winter, 2002). P. 27-56) как неспособность учиться морали. Более того, Величавого обвиняют в том, что он в своей гордости не способен прислушиваться к словам других и таким образом учиться морали. Примером служит Гектор, не пожелавший быть обязанным кому-то за хороший совет и приносящий в жертву своей гордости свой город. При этом приводятся и цитируемые Аристотелем слова Гесиода:
Тот наилучший над всеми, кто всякое дело способен Сам обсудить и заранее предвидеть, что выйдет из дела. Чести достоин и тот, кто хорошим советам внимает. Кто же не смыслит и сам ничего и чужого совета В толк не берет - человек пустой и негодный (EN, 1095b10). Сами же критики фрагмента соглашаются, что, пожалуй, Величавый относится к первым из трех описанных. Но их смущает, что в этом он приближается к божественному - способному мыслью охватить бытие в его полноте до такой степени, чтобы знать все последствия поступка. Далее следует такое рассуж
явление забывается им. Да и сами возможности хвалебных высказываний о Величавом невелики, ибо мало кто имеет право вообще оценивать его. Получается, что возможности высказываний со стороны других, таких высказываний, которые имели бы значение, не игнорировались бы Величавым, существенно ограничены. Остаться в оптике тех, кому Величавый оказывает благодеяния, воспроизводить мнения окружающих о добродетельном человеке - значит закрыть для себя доступ к тому, что и есть задача такого описания, а именно: отношение человека с самим собой. В сущности, это значит полностью развести данное описание и философию, занятую поиском «самого себя» человека. Это значило бы сделать то, что Аристотель считает недолжным делать: избирать в себе не самого себя, а нечто другое: «было бы нелепо отдавать предпочтение не жизни самого себя, а [чего-то] другого [в себе]» (БЫ,1178а4) - эта мысль указывает не только на основания, по которым Величавый не ценит совершенное по отношению к нему благодеяние, но еще и на сам способ размышления о нем: описание его вряд ли возможно свести к воспроизводству распространенных мнений и оценок. В то же время и сам Величавый не свидетельствует о себе: он «не станет говорить ни о себе, ни о другом». Соответственно, его портрет возможен исключительно как философско-этический образ, написанный философским взглядом, отвергающим взгляд тех, кто принимает его благодеяние и сам благодетельствует ему, - то есть взгляд других: иными словами, философское видение Величавого как человека, совершающего поступки, возможно лишь в оптике самого субъекта морали. И это тот взгляд, который воспроизводит уединение человека в общении с самим собой.
Вопрос об отношении к себе есть наиболее явная постановка вопроса о поступке - как он возможен, что является его основанием. Поиск самого себя становится своего рода фундаментом зарождение: а если Величавый - не столь морально совершенен, то тут же окажется среди «пустых и негодных» - именно в силу того, что не способен с благодарностью воспринять чужой совет. Два вопроса к критикам рождаются с настойчивостью: как может Величавый быть не-Величавым? Добродетельный человек - недобродетельным? Если сам добродетельный поступок есть тот, который совершается добродетельным человеком. И как может совет другого сделать его добродетельнее? Ведь Величавый не только не благодарен за благодеяния и советы, но презирает все, что стремится помешать ему говорить правду и быть прямым.
дающейся этической проблематики. Аристотель открыл поступок как пространство, в котором бытийствует самое себя. Фрагмент, посвященный Величавому, отличается еще и тем, что создает персонифицированный образ, порой напоминающий портрет. И этот образ, при том, что он признается аристотелевским нравственным идеалом, не есть совокупность добродетелей, хотя и обладает ими всеми: он «самый добродетельный» и обладает величием во всякой добродетели, «без добродетели, совершенной во всех отношениях, [величие] невозможно» (Е^1124а28). Он, по словам Аристотеля, обладает ими всеми, но при этом нигде во Фрагменте не говорится, что Величавый исключительно мужественен или щедр, а о благоразумии или уравновешенности речь вообще не может идти. Благоразумие даже в некотором смысле противопоставляется величавости, ибо «достойный малого и считающий себя достойным малого благоразумен, но не величав». Аристотелевский нравственный идеал оказывается кем-то принципиально иным, чем прямым воплощением добродетельности. Речь идет о кооцо^ добродетели: это слово переведено и на русский и на английский как «украшение добродетелей, ибо придает им величие и не существует без них» (Е^1124а1), но его можно и, видимо, точнее было бы перевести как порядок, пространство добродетели (именно так оно и понято в «Горгии» Платона). Величавость - такое отношение человека с собой, которое порождает пространство морали.
Аристотель пишет, что «исследовать ли сам душевный склад или его обладателя - это безразлично» (Е^1123в1). И тем не менее доминирование взгляда на себя (и многообразное отвержение взглядов на него других) объясняет то, что обладатель душевного склада выступает именно в облике Величавого во всей его портретной целостности - это не просто обладатель добродетелей, но идеальный образ, портретно прописанный до деталей манеры речи и походки. Именно портретный характер описания стал для многих критиков объяснением присутствия в нем черт, которые, на их взгляд, несовместимы с добродетельностью, вызывают отторжение и моральное, и эстетическое. Но с этими критиками трудно согласиться не только потому, что внешние проявления характера, индивидуальности человека были в эпоху Аристотеля знаковыми, но главным образом потому, что все они не противоречат, а неразрывно слиты с идеей Величавого. Таковы и манера говорить,
походка, неспешность, презрительность, стремление к превосходству - такова же и черта, описываемая в интересующем нас фрагменте, которую часто понимают как неблагодарность.
Критики фрагмента почти единодушно ставят Величавому в вину то, что он помнит, кого сам облагодетельствовал, но не помнит, кто облагодетельствовал его. Но ведь Аристотель говорит далее, что «величавому вообще не свойственно кому-то что-то припоминать, особенно когда [речь идет о причиненном ему] зле, скорее, ему свойственно не замечать этого» (БЫ,1125а4-5). И еще: «ему нет дела ни до похвал себе, ни до осуждения других» (БЫ,1125а6). То есть Величавый не припоминает, а его пространство - не пространство оценок. Аристотель явно показывает: не оценки и действия других движут поступающим. Возможно, исключением является то, что «за благодеяние он воздает большим благодеянием». Это высказывание стало для комментаторов основанием примириться с забыванием тех, кто облагодетельствовал Величавого. Так в его портрете Альберт Великий насчитывает девятнадцать черт, некоторые из которых могут быть поняты как грехи: неблагодарность, неактивность и лень. Тем не менее он утверждает, что неактивность и лень не являются грехами, так как порождены сосредоточенностью на великих деяниях и стремлением избежать недостойного, некоторой осторожностью. С неблагодарностью справиться несколько сложнее. Альберт цитирует Сенеку и Цицерона: дающий должен немедленно забыть, а получающий должен вечно помнить - эта идея прямо противоположна аристотелевской. Но так как Величавый у Аристотеля за благодеяние воздает большим благодеянием и охотно оказывает услуги, то это и становится у Альберта главным свидетельством благодарности8. Таков же аргумент и Фомы Аквинского в «Сумме теологии» - высказывание «люди величавые помнят, кому они оказали благодеяние, а кто их облагодетельствовал - нет» напрямую цитируется им наряду с другими, подобным же образом сомнительными характеристиками Величавого (празден и нетороплив, не может жить с другими, предпочитает прекрасное полезному). Эти качества, поскольку они принадлежат Величавому, ни в коей
cm.: Hoffman T. Albert the Great and Thomas Aquinas on magnanimity // Virtue Ethics in the Middle Ages: Commentaries on Aristotle's Nicomachean Ethics, 1200-1500. Leiden-Brill, 2008. P. 114-116.
степени не заслуживают, на его взгляд, осуждения, но наоборот -заслуживают предельного восхваления. Так, нежелание помнить тех, кто его облагодетельствовал, должно быть понято так, что Величавый не любит быть облагодетельствованным, не ответив еще большим благодеянием, - а это есть добродетель благодарности (Secunda Secundae, CXXIX, III, 5). Но Аристотель дает однозначное объяснение, почему Величавый способен оказывать благодеяния, но стыдится принимать их (забывая): «первое - признак его превосходства, а второе - превосходства другого. За благодеяние он воздаст большим благодеянием, ведь тогда оказавший услугу первым останется ему еще должен и будет облагодетельствован»9. Аристотель вновь и вновь подчеркивает, «признак величавого - не нуждаться [никогда и] ни в чем или крайне редко, но в то же время охотно оказывать услуги» (EN,1124b18). Благодарность присутствует здесь лишь внешне - за ней скрывается страстное желание преодолеть ее, смести ее неодолимой мощью дарения, установить свое превосходство, свою единственность в пространстве поступка. Это подчеркнуто тем, что Величавый не помнит того, кто оказывал ему благодеяние. Ответное благодеяние совершается не ради него самого, а лишь оттого, что Величавый стремится быть самодостаточным (ни в чем не нуждаться) и активным началом.
В пространстве деятельного образа жизни самодостаточность сочленена с активностью, противостоящей пассивности, страдательности. Но активность в данном случае не означает энергичность, торопливость и т. п. Величавый как раз, наоборот, медлителен, нетороплив, празден. (Некоторые комментаторы склонны рассматривать это как аргумент в пользу утверждения, что Величавый является философом10.) Активность как ценностно позитивное, как качество Величавого не означает обилия и энергичности
Величавый не ценит благодеяние, в котором он выступает пассивным объектом. Но это не мешает ему воздавать во много раз большим. Моралисты видят в этом порочный мотив - освобождения от зависимости от другого: он совершает еще большее благодеяние, чтобы сохранить самодостаточность. Но
аристократический ценностный взгляд видит в этом лишь дарение, имеющее своим основанием лишь самое себя - совершающееся лишь ради самого себя, отвергающее торгово-обменную логику. Величавый дарит многое, потому что он сам есть многое. Но ничего бы не изменилось, если бы он дарил количественно малое - ибо где та ценностная мера, которой измеряется дар? См.: GauthierR.A. Magnanimité. Paris, 1951.
9
действий, но - как противопоставленная страдательности - она означает бытие источником поступка, «полагание себя началом». Это позволяет понять абсолютно все сказанное о Величавом как прямое осуществление и проявление этого полагания, как все без исключения принадлежащее философскому идеалу добродетельного человека. Здесь Аристотель совершенно последователен. И Величавый пассивен в физическом смысле, медлителен, приближаясь к еще одному аристотелевскому образу субъекта - «недвижному двигателю». Для Аристотеля полагание себя началом поступка есть сущность самого поступка. Поступок - это даже не яра^ц (дело, свершение, исполнение), в первую очередь - это ар%» (начало, первопричина, решение, принцип, власть) - о чем пишет Х.Арендт: инициация действия, решение о нем, а не действие как физическое осуществление. Инициация, принятие решения о поступке есть то, что делает вождь по отношению к своему племени, народу. Именно инициация есть суть поступка, она задает моральную природу поступка, который вне этого был бы просто действием, причем неважно - действием ли физическим, внечеловеческим или действием, оцениваемым социумом, правом, имеющим значение во вне-моральном пространстве, - эта инициация есть возведение основания поступка к себе самому. Аристотель фиксирует это, отождествляя принимающего решение и царя, извещающего народ о выборе: «всякий тогда прекращает поиски того, как ему поступить, когда возвел источник поступка к себе самому, а в себе самом - к ведущей части души (Ш hegoymenon) , ибо она и совершает сознательный выбор... Цари извещали народ о выборе, который они уже сделали» (БЫ,1113а5-9). Герой, вождь - образцовые примеры совершающего поступок в этом смысле. Осуществление его в вещном мире может быть опосредовано действиями многих людей, но сам поступок останется поступком того, кто принял решение. Он оказывается защищенным от уходящих в бесконечность хрупких последствий, от судьбы творения, результата, но и не объективируем в нем, а потому абсолютно замкнут на поступающего.
Человек активен как полагающий себя в качестве начала не только по отношению к поступку, но и к самому своему бытию: для него «собственное бытие - предмет избрания» (БЫ,1170Ь8). То есть Величавый (поступающий человек) является активным в избрании своего бытия, в предпочтении одного в себе другому - он
есть причина этого избрания и предпочтения. В этом и заключается самодостаточность деятельного человека - так она раскрывается в философии и задается философией, так она философски проговаривается. Добродетельный человек оказывается началом своего бытия (можно сказать - абсолютным субъектом). Бытие заслуживает избрания само по себе (как благо и удовольствие). Моральный субъект не предшествует этому избранию и не является его следствием, он тождественен избранию бытия, бытия самого себя и самим собой, он заключается в нем и задается им. Или иными словами: само избрание бытия, активность в отношении собственного бытия и есть бытие в качестве человека. Абсолютное начало не может даже быть причиной, так как находится вне времени: в точке поступка сводятся субъектность и бытие. Стремление Величавого быть самодостаточным - не просто выражение аристократического ценностного сознания или образца эпохи, это стремление, основанное на философской идее: самодостаточность есть тождественность полагания себя единственным основанием поступка, избрания в себе самого себя, а не чего-то иного в себе и избрания бытия. Избирающий бытие может избрать только собственное бытие, а потому вовлеченные в действие принципиально неравны: у одного из них есть «превосходство с точки зрения действия» (Е^1168а21) - и это превосходство инициирования, авторства, полагания себя началом (он дружит, а не дружим - различие это очень подобно различию совершения благодеяния и получения его).
Превосходством с точки зрения действия исторически обладали, сменяя друг друга, три поколения: сначала поступком было то, что совершают боги, герои мифов - только они действуют от своего имени, затем в качестве инициаторов поступка выступают герои, и поступок становится тождественным их поступкам, и сами они тождественны этим своим поступкам, слиты с ними. Их поступок возможен в необычных, редких обстоятельствах, ради него мужи, герои, вожди «должны были покинуть дом, двор и отечество, чтобы в далеких странах исполнить нечто чрезвычайное»11. Бессмертие их деяния рождается в творчестве Гомера. И третьим автором поступка становится добродетельный человек - именно потому, что способен положить себя началом. Спускаясь с Олимпа, отделяясь от предзаданного пространства - божественного или
11 АрендтХ. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб., 2000. С. 260.
героического, - поступок сохраняет свое прежнее лицо: теперь человек совершает его в качестве аристотелевского Величавого. Он оттого и достоин великого, что, совершая поступок, поступая, становится в один ряд с богами и героями. Подобно герою он стремится быть первым, преобладать над остальными (Илиада VI 208), и он превосходит всех в пространстве поступка именно в силу того, что является его причиной, началом (предпочитая и нечто божественное в себе) - в этом он самодостаточен. Но Величавый - не возглавляющий военный поход вождь и не гомеровский герой, не вдали от дома совершает он поступок: пространством этого поступка становится полис. Полис - не собрание богов на Олимпе или в Аиде и не толпа вооруженных врагов (как и не стадо пасущегося скота, если следовать Аристотелю). «Полис имел задачу упорядоченного предоставления ситуаций, в которых можно было стяжать "бессмертную славу", соотв. организовать стечения событий, когда каждый мог отличиться и показать в слове и деле, кто он таков в своей неповторимой особности»12. Став пространством поступка, полис одновременно обеспечивает «непреходящую славу великих поступков и речей», давая поступку независимость от «создающих и поэтических искусств»13. Поступающий больше не является героем мифа или эпоса, он возможен в человеческом пространстве. Но как ему оставаться самодостаточным, началом, причиной поступка в пространстве полиса, среди других людей? Как быть превосходящим, единственным в этом «собрании экстраор-динарностей»? Аристотель в осмыслении поступка оказывается в точке напряженного перехода от героя к гражданину. Герой не может исчезнуть - это было бы исчезновением поступка (так же как и невозможен был бы героический поступок без его божественного начала), но что-то должно случиться такое, что позволяет ему стать человеком деятельного образа жизни, самодостаточным в жизни среди людей, как полисного существа. В том, как развивается аристотелевское рассмотрение благодеяния, обнаруживается его видение и разрешение этого напряжения.
В IV книге «Никомаховой этики» Аристотель говорит о человеке, который помнит (ценит) собственное благодеяние и не помнит совершенное по отношению к нему. И в основе это-
12 Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. С. 260.
13 См.: там же. С. 261.
го - стремление к самодостаточности (ни в чем не нуждаться), превосходству и к активности. Но в IX книге Аристотель вновь возвращается к благодеянию. Анализируя принятое мнение, что «благодетели больше питают дружбу к облагодетельствованным, нежели принявшие благодеяние...» (EN1167b16), он еще больше разводит совершающего благодеяние и принимающего его тем, что первый избирает бытие себя, второй же оказывается на уровне пользования. «Причина в том, что для всех бытие (to einai) -это предмет избрания и приязни (haireton kai phileton), а бытию мы причастны (esmen) в деятельности (т. е. живя и совершая поступки), и с точки зрения деятельности (energeiai) создатель - это в известном смысле его творение (ergon), так что [творцы] любят свое творение по той же причине, что и свое бытие. И это естественно, ибо что человек есть в возможности (dynamei), его творение являет в действительности (energeiai).
Вместе с тем, если для благодетеля связанное с его поступком прекрасно и поэтому радует его в том, в ком [сказывается], то для того, кому оказано благодеяние, в оказавшем его нет ничего прекрасного, разве только полезное, а в этом меньше удовольствия и основания для дружеской приязни» (EN, 1168а 5-13). Живя и поступая, человек становится причастным бытию, которое есть предмет приязни и избрания - то есть, живя и поступая, человек только и становится человеком в действительности, тем в себе, что является основанием мира, моральным Я. Платоновский Алкивиад стремился заполонить собой, своим именем весь мир, аристотелевский герой осуществляет эту мечту, устанавливая себя в качестве начала, источника поступка. И поступок есть именно совершенное им, моральным субъектом, а моральный субъект - тот, кто совершает поступок: это иная форма известного аристотелевского тождества добродетельного поступка и добродетельного человека.
Но в процитированном месте из IX книги в связи с прежним сюжетом о благодеянии возникает новая тема - тема творения. В первом отрывке из IV книги поступок выступал в первую очередь как инициация, решение, активность поступающего. Теперь Аристотель говорит о поступке как о творении: с точки зрения деятельности создатель есть его творение, оно есть действительность человека, его бытие (во всяком случае, он любит его как свое бытие).
Подобное изменение бросается в глаза в силу того, что Аристотель неоднократно подчеркивает различие действия и творения (тождественного результату как созданному).
Ханна Арендт, обращаясь к этому месту «Никомаховой этики», считает, что в примере с отношением между благодетелем и получателем, когда «благодетель нечто сделал, некое epyov, так сказать, произведение собственных рук, тогда как получателю пришлось просто остаться пассивным»14, действующий относится к поступку как к результату, как к созданию рук, а философ мыслит действие как создание, тогда как он неоднократно различал npáiTStv и nmsîv. Казалось бы, действительно, Аристотель отказывается здесь от понимания поступка прежде всего как àp%», как основанного на полагании себя началом. Само npáxTSW есть исполнение этого решения, этой решимости к поступку, тогда как nrnsîv тяготеет к результату, творению как к своему основанию: угасает в нем. По мнению Арендт, пример с благодеянием в IX книге свидетельствует, что понимание поступка как творения разрушает и сам поступок, и порождаемые им отношения между людьми. Пример с благодарностью ведет ее к выводу: поступок «только тогда способен оформиться в реальный конечный результат, когда люди готовы отказаться от того, что он способен произвести сам от себя, - от объективно не фиксируемых, неуловимых и всегда крайне хрупких связей между людьми»15. Под связями она подразумевает, в частности, те, что сплетаются из дарения и принятия. Оставив в стороне вопрос о ценностном смысле дарения (Аристотель, бесспорно, не видит его как уравненность дарения и принятия, но предельно разводит их, повторяя эту мысль неоднократно), обратимся к следующему: описывая поступок как творение, отказывается ли он от выведения поступка из решения, из активности, началополагания поступающего? Или он задает иное движение прежней мысли? Неслучайно его возвращение к теме благодеяния происходит уже не в описании ряда добродетелей, а в рассуждении о дружбе: если сначала само философское рассмотрение воспроизводило взгляд поступающего на самого себя, то теперь оно воспроизводит взгляд того же поступающего на мир, вовне, на поступок как действительность собственного началополагания. В этой оптике поступок
14 Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. С. 259.
15 Там же. С. 260.
оказывается творением и возникает новый вопрос: возможно ли такое творение, которое не уничтожает инициацию, авторство поступка; возможен ли такой результат поступка, который не оказывался бы в конечном счете ничтожением его начала, его субъектно-сти, самодостаточности его автора? Именно этот вопрос возникает на пересечении двух аристотелевских рассуждений о благодеянии: в одном поступающий ценит, видит и помнит лишь свой поступок, основанный на его самодостаточности и воплощающий ее, во втором рассуждении он ценит того, кому оказывает благодеяние, как отец сына - в качестве своего творения. Поступающий ценит свой поступок, ибо в нем он причастен бытию (которое есть удовольствие и благо), но он ценит и свое творение, причем по той же причине, что и свое бытие, - так как с точки зрения деятельности создатель есть его творение: творение есть действительность того, что есть в деятеле в возможности. Но что означает эта действительность, если речь идет о поступающем человеке? Что или кто является творением поступка?
Важно отметить, что героем и этого рассуждения IX книги также является Величавый - именно его краткое описание Аристотель повторяет в кульминационном месте (Е^ 1169а19-35). Величавый выступает здесь как себялюбец. Большинство называет себялюбцами тех, кто «уделяет самим себе» имущество, почести и телесные удовольствия, а Аристотель считает себялюбцем того, «кто всегда усерден в том, чтобы прежде всего самому совершать поступки» (Е^ 1168Ь25) добродетельные - ведь такой человек уделяет себе «самые прекрасные и первейшие блага и угождает самому главному в себе, во всем ему повинуясь» (Е^ 1168Ь30), уделяет себе «большую долю нравственной красоты» (Е^ 1169а35). Себялюбец усерден в совершении добродетельных поступков - в этом он любит и избирает себя в себе. Но именно стремление совершать (добродетельные) поступки, в той же степени, в какой оно задавало единственность, исключительность, абсолютное превосходство поступающего, теперь помещает его в мир людей.
Бытие есть не данность, а задача, предмет ежесекундного стремления, а стремление есть то, что необходимо сопутствует мысли для того, чтобы она могла перейти в поступок, стать решением и решимостью одновременно. Очевидно, что бытие самого себя (а иным человеческое бытие немыслимо) не может
быть подарено одному человеку другим: отдавая первенство бытию Другого, человек не может бытийствовать - ибо невозможно перепоручить свое стремление другому. И тем не менее в своей самодостаточности, не-нужде ни в чем, поступающий, только в поступании бытийствующий человек нуждается в друге. И Аристотель признает несколько оснований этой нужды. Во-первых, подчеркивая, что собственный поступок есть бытие и он несопоставим по значимости с действиями других людей, которые лишают человека самодостаточности, ставят его в зависимость, он тем не менее замечает, что «добропорядочный человек» нуждается в тех, «кто примет его благодеяния» - отсюда делается вывод, что блаженному (а речь в данном случае идет о блаженном) нужны друзья. Во-вторых, сама возможность поступка связана с существованием с другими людьми. Аристотель так говорит об этом: «трудно непрерывно быть самому по себе деятельным, зато с другими и по отношению к другим это легко» (Е^ 1170а6). И, в-третьих, ему - блаженному и самодостаточному - не нужны друзья как источник полезности или удовольствия, но друзья нужны в связи с тем, что счастье есть деятельность и в высшей своей форме - созерцательная деятельность: а удовольствие доставляет созерцание добрых и родственных поступков, а таковы поступки друга, являющегося добродетельным человеком. Поступки окружающих мы способны созерцать быстрее, чем собственные (Е^ 1169Ь35); так, во всяком случае, считалось от начала философии в Греции до Сократа - наблюдение над другими имеет преимущество перед интроспекцией в силу публичного характера жизни16. Добавим, что величавость как отношение к самому себе не есть некая позднейшая субъективность или интроспекция: она осуществляется именно в полагании себя началом поступка, то есть в решимости быть в мире, ворваться в него. Правда, Аристотель замечает, что раз жизнь самодостаточного доставляет удовольствие сама по себе, «не нужно никакого удовольствия, привлекаемого извне» (Е^ 1169Ь28). Но удовольствие от поступка друга, очевидно, Аристотель не считает внешним: друг не является другим (или иначе - другой существует лишь как друг), он есть своего рода проекция отношения к себе на мир - «проявления дружбы
16 См.: БрагинскаяН.В. Комментарий 44 к IX книге «Никомаховой этики» // Аристотель. Указ. изд. С. 744.
к самому себе распространяются на отношение к другим» (Е^ 1168Ь5), и «добропорядочный относится к другу, как к самому себе (ибо друг - это второй он сам, - [если все это так], то для каждого человека как собственное бытие - предмет избрания, так же или почти так и бытие друга» (Е^ 1170Ь6-8). В силу этого созерцание поступка друга есть созерцание собственного поступка. В «Большой этике» Аристотель говорит о том же: мы не можем увидеть себя своими силами и «как при желании увидеть свое лицо мы смотримся в зеркало и видим его, так при желании познать самих себя мы можем познать себя, глядя на друга», как на «второе я» - поэтому «самодовлеющий человек должен нуждаться в дружбе, чтобы познать самого себя»17. Но меняет ли взгляд на поступок друга общую оптику превосходящей единственности: если друг является не безликим исполнителем, не тем, кто принадлежит к выпадающей из пространства поступка совокупности людей, осуществляющих, реализующих решение, превращающих его в результат, но именно совершающим поступок, то не возникает ли наряду с Величавым равный ему другой? Ведь пока все связи Величавого и друга имеют природу отношения и познания, они не могут быть противопоставлены утрате самодостаточности того, кто существует в таком пространстве, где возможен еще и поступок друга, который ставит дружащего в страдательное положение, лишает его самодостаточности. И повод для такого опасения есть - еще одно высказывание, как бы противоречащее сказанному о Величавом, находим в «Политике»: Аристотель говорит о том, что невниманием или оскорблениями со стороны близких дух возмущается намного больше, и люди «великие духом» особенно оскорблены в этом случае, так как «те, кто, по их мнению, должен оказывать им благодеяния, не только причиняют вред, но и лишают их этих благодеяний»18. Данное рассуждение возвращает к тем величавым (в русском переводе - благородным), которые приходят в ярость от оскорбления, не терпят бесчестья - Ахиллу, Аяксу, Алкивиаду19. Это
17 Аристотель. Большая этика, 1213а / Пер. Т.А.Миллер // Аристотель. Указ. изд. С. 327.
18 Аристотель. Политика, 1328а13 / Пер. С.А.Жебелева // Аристотель. Указ. изд. С. 602.
19 См.: Аристотель. Вторая аналитика, 97Ь7-25 // Аристотель. Указ. соч. Т. 2. С. 338.
отношение к благодеянию со стороны других как бы противоречит исходной идее: Величавый не помнит чужих благодеяний и не желает их, а здесь он возмущен отсутствием благодеяния со стороны «близких». Не просто возмущен, но даже приходит в ярость. Выделенные Аристотелем величавые герои в ярости выступают против собственного сообщества, при этом их действия направлены на установление такого мира и такого отношения, в котором они утверждают свое ценностное первенство, утверждают себя как начало - и в этом совпадают с Сократом (и Ахилл ,и Сократ оба считаются величавыми). Важно, что возмущает действие не любого безликого другого, а именно друга.
На эти вопросы Аристотель дает ответ, или намек на ответ, исключительной философско-этической глубины: «А можно предоставить другу и прекрасные поступки, и даже прекрасней оказаться причиною прекрасного поступка для друга, нежели совершить его самому» (ЕЫ, 1169а33)20. Поступающий человек, возводящий источник поступка к себе, является причиной поступка и друга, то есть возводит к себе источник поступков как собственных, так и друга. Таким образом, поступок друга является поступком Величавого: поступающий, Величавый несет исключительную ответственность за весь мир поступков, за поступание как таковое. Это
20 Когда Аристотель говорит о полагании себя началом поступка, он, как уже говорилось, употребляет слово архл (ЕЫЫ, 1113а5), в этом же месте он использует слово то araov - причина. О соотношении этих понятий пишет М.Хайдеггер: «Здесь для выражения araov и агаа недвусмысленно стоит слово архл. В большинстве случаев греки слышали в этом слове нечто двойственное: во-первых, архл разумеет то, от чего нечто берет свой исход и начало: во-вторых же то, что в то же время как этот исход и начало берет верх над тем другим, что от него исходит, и таким образом держит это другое, а тем самым над ним господствует, начальствует. Архл означает одновременно начало и господство. В соответствующем несколько сниженном расширении это означает: исход и распоряжение; чтобы это балансирующее единство выразить с обеих сторон, можно перевести архл через исходное распоряжение или распорядительный исход. Такое единство этого двойственного сущностно. И такое понятие об архл дает тут же употребленному araov, причине, более определенное содержание. (Это понятие архл, по всей вероятности, не есть "архаическое" понятие, но понятие это задним числом впервые с Аристотеля начиная и затем через "доксографию" было обратно вмыслено в начало греческой философии.)» (ХайдеггерМ. О существе и понятии Фиак; фПр://м>м>м>. heidegger.ru/documents/tom9/o_suschestve_poniatia.dodi).
позволяет понять всю основательность высказывания Аристотеля о том, что «для каждого человека как собственное бытие - предмет избрания, так же или почти так и бытие друга» (Е^ 1170Ь7). Ведь он является началом поступка друга, который и есть действительность его бытия. Для него добродетель друга тоже существует (Е^1170Ь12), но она наполняет нравственной красотой самого блаженного, себялюба, Величавого именно в силу того, что он сам есть причина добродетельного поступка друга или поступка как такового. И бытие друга не есть ограничение его собственного бытия, но и есть само его бытие. И когда он созерцает поступки друга, то он созерцает такие поступки, началом которых он сам является. И ярость Величавого по отношению к поступкам друзей не отрицает самодостаточности, но проявляет его отношение к ним как к собственной самости. На самом деле, ко всему, что пытается ограничить его самодостаточность, он испытывает не ярость, а презрение. Величавый есть презирающий все и всех, что и кто покушается на его стремление исходить из самого себя и себя полагать началом - он презирает в этом качестве и людей (так его описывает Аристотель в связи с парресийностью), и необходимость (таков он в «Риторике») и таким образом ничтожит их. Оказывается, что избрание бытия друга основано на том же, что и избрание собственного бытия, - в сущности это есть избрание бытия как такового - на инициации поступка. Друг есть тот, кто поступает, а так как поступок есть решение, инициация (а вне этого остаются лишь действия осуществления, исполнения), - то друг есть автор решения. Но таковым в пространстве морали может быть лишь Величавый - в этом его превосходство, его величие. И он полагает себя началом действия другого, превращая его из действующего в поступающего, то есть включая его в моральное пространство, придавая ему моральный смысл.
Обратимся снова к проблеме соотношения поступка как пола-гания себя началом и как творения. Друг любим Величавым. Величавый любит его как того, началом которого он является, как свое творение, как отец любит сына. Но ведь Аристотель различает поступок как решение, инициацию действия и творение как результат и как действие, имеющее целью нечто внешнее себе - этот самый результат. Но является ли друг таким творением-результатом? У Аристотеля есть высказывание, что дружба есть действие (Е^
1211в31), а друг есть творение, но ведь это творение не иного, а собственного бытия, развертывание своей самости - то есть творение такого, что тождественно самому творящему. Это не созидание амфоры или даже закона, подобного стене, огораживающей полис. Это творение, тождественное способу бытия, это такое произведение, результат поступка, который не существует вне и отдельно от самого этого поступка. Точно так же, как само решение о поступке. Иными словами, в творении дружбы, а так как дружба есть полис, то полиса, в поступке сливаются поступок как решение и поступок как результат. Или: если творчество связано «с чьей-то и относительной» (Е^ 1139в 4) целью, а в поступке цель есть благополуче-ние, то в рассматриваемом случае, когда Величавый является началом поступка друга, то есть его нацеленности на благо, речь идет не о творчестве, а о поступке, задающем пространство морали, которое, видимо, несопоставимо ни с каким действием, результат которого отчуждаем от него. Это замыкание начала и результата поступка выражается и в сопоставлении Аристотелем отношения к облагодетельствованному и к другу как к творению: «Все бывают благосклонны к тому, что они сами создали... отец больше любит сына, чем сын отца» (Е^ 1211Ь37). Г.-Г.Гадамер обращается к идее единства отца-сына у Гераклита и диалектике этого отношения: человек генерирует себя в качестве отца и так генерирует сына21. Когда отец делает себя отцом, он становится и своим сыном (он становится отцом в результате собственных действий, то есть создает себя (в качестве отца) и становится собственным сыном). Творец есть собственное создание еще и в том смысле, что, творя нечто, он творит себя в качестве творца: отец создает сына, становясь собственным сыном: совершая поступок, полагая себя его началом, поступающий сам становится собственным творением, началом начала - то есть абсолютной самодостаточностью. И он становится собственным творением именно в силу того, что является полной причиной. Когда поступающий любит свое творение, он любит себя как начало творения, и в этом инициация поступка и творение становятся неразличимы.
Поступок не разворачивается в цепь, не превращается в поведение - он единственен и вневременен: его невозможно помыслить в качестве объективированного и непредсказуемого результата, ан-
21 GadamerH.-G. The Beginning of Knowledge. N.Y., 2003. P. 24-26.
нигилирующего инициацию, само изначальное решение совершающего его. Герой поступает, но не «ведет себя». Это выражается в том, что, словами Ханны Арендт, «лишь кто не живет дольше своего высшего подвига, остается бесспорным господином установившейся в нем идентичности и потенциального величия, поскольку через смерть он уходит от последствий и от продолжения начатого им»22. Когда конец усилия и конец жизни не совпадают, человек постоянно что-то приоткрывает из своего, но никогда не может вполне себя обнаружить23, и поступок, ядром которого выступает инициация, решение, теряется в бесконечности, в которой теряется из виду и сам поступающий. Самораскрытие содержится в самой инициации поступка и не является той целью, которая воплощается в результате. Для греческой античности, что и подчеркивает Арендт, прообраз действия, поступка связан с феноменом самораскрытия и откровенно индивидуалистичен. Это и есть поступок, являющийся подвигом героя. В нем - слитость, тождественность поступка и поступающего, когда вне поступка нет и самого деятеля и его гибель совпадает с полным самораскрытием, самобытием в поступке.
Философия осознает хрупкость человеческих дел, «тщетность, беспорядочность и необозримость последствий, тянущихся за всяким поступком»24: она отказывается от понимания способности к действию «в ее чистейших и радикальнейших формах»: встает вопрос о поступке не героя, но человека полиса, добродетельного человека, продолжающего жить и тогда, когда решение о поступке перешло в действие, причем действие, в которое вовлечены другие люди, обстоятельства, случайности и т. п. Именно в этой точке перехода от поступка героя к поступку добродетельного человека возникает напряжение отношения между поступком как решением, инициированием и поступком как творением. Поступок как деяние бога сливается со своим деянием в вечности бытия, они тождественны в своем обличье. Поступающий герой отличается от поступающего бога своей смертностью - и завершение его жизни придает поступку окончательный смысл, познаваемый извне остающимися в живых, изнутри же поступка он дан лишь как
22 АрендтХ. Vita activa... С. 256.
23 Там же.
24 Там же. С. 259.
инициация, решимость, принятие решения поступающим. (Впрочем, так называемый смысл поступка, видимый извне оставшимся в живых наблюдателям, несоизмерим со смыслом инициации как таковой и ни в коей мере не выражает ее: они разведены в той же неодолимой мере, что и поступок и познание.) Поступающий человек - вот та полная трагизма и энергии проблема, с которой сталкивается античная философия. У Аристотеля она приобретает множество форм - и одной из них, парадоксальной, напряженной, является обсуждение им благодеяния: в нем находят выражение две заостренные идеи: одна основанная на понимании поступка как инициации, решения, авторства, другая - на понимании поступка как творения. Важным моментом является то, что к первой Аристотель обращается в связи с образом Величавого, а ко второй - в ходе обсуждения понятия дружбы. Первый - образ субъекта морали, он самодостаточен и полагает себя в качестве начала и поступка и всего мира, подобно Алкивиаду, делает его своим. Для него ценным является собственный поступок, это его бытие как действительность. Он помнит свое благодеяние и не помнит совершенное по отношению к нему. И то, что может быть в его действиях понято как благодарность, вовсе ею не является - это лишь форма устранения зависимости от другого, установления своей самодостаточности, утверждение дарения как единственно приемлемой формы отношения с миром, отрицающей обмен, даже имеющий вид благодарности.
Поступающий человек, совершая благодеяние, любит свое творение больше, чем тот, кто получает его благодеяние: в этом принципиальное различие того, кто поступает, активного начала, и являющегося пассивной, страдательной стороной. Для последнего в этом действии может быть польза, но она не может сравниться с благом, с самодостаточностью благой цели поступка - с тем бытием в качестве человека, которое задается поступком. Для страдательной стороны, в сущности, здесь нет самого поступания. В этом отношении совершающий благодеяние и принимающий его абсолютно разведены, несоизмеримы. Но Аристотель должен решить задачу, в которой условием является жизнь человека среди людей, такая жизнь, которая несопоставима с животной стадностью. И ответом является понятие дружбы - то особое аристотелевское открытие, позволяющее поступающему человеку сохра-
нить свою субъектность, то есть свое бытие, свою изначальность, и быть самодостаточным среди людей, в совершенно особом пространстве. И это особое пространство должно быть пространством такого бытия, которое является человеческим, - то есть в его основе должно быть именно человеческое бытие. И Аристотель находит ответ: именно поступая, самодостаточный человек порождает пространство полиса, становясь причиной поступка друга.
Законодатель, по Аристотелю, подобен архитектору: он строит стену, задающую пространство полиса, сам же он находится вне него. Для него результат действия, творение подобно творению ремесленника, которое овеществляется и существует независимо от творца, иногда сохраняя, а иногда и теряя его имя. Творение, задаваемое поступком - иного рода. Это такое творение, которое невозможно вне порождающей его причины, начала, субъекта. Само содержание и бытийственность его определяются именно этой инициацией: подобно тому, как дар неотчуждаем от дарящего и только в тождественности дарящему имеет ценностный смысл, точно так же и полис, дружба, другой, поступок другого существуют только в их тождественности их порождению решением поступающего, Величавого - то есть их абсолютному началу. Это - начало, не понимаемое в логике причин и следствий, а лишь в полагании тождественности. Полагая себя началом поступка (абсолютным, самодостаточным), человек осуществляет бытие в тождественности с поступком в его полноте - то есть и в инициации, и в творении: мечта Алкивида наполнить мир собой осуществляется. Так происходит слияние поступка героя и человека. В инициации поступка самодостаточность человека осуществляется в его единственности (превосходстве), в творении - в самодостаточности полиса, порожденного поступком, то есть самодостаточности полиса как разрастания самости Величавого до границ мира. А отношение принимающего решение о поступке к творению позволяет поступку быть ответственным.
В обоих рассуждениях о благодеянии поступающий человек остается активным началом (исключающим пассивность), он остается началом поступка (и своего, и друга). Аристотель сохраняет такое понимание поступающего - то есть при переносе акцента в поступке на творение он сохраняет все сущностные черты поступка, которые были выявлены им при понимании его как инициации, решения вождя.
Друг есть условие и форма бытия человека в деятельности, но его «нужность» особая, не разрушающая самодостаточность поступающего, ведь Величавый в дружбе избирает бытие друга как собственное, предпочитает себя в себе и возводит источник поступка к себе самому, считает поступок и бытие друга своими. И друг своим благодеянием не разрушает самодостаточности Величавого, который ценит его поступок в качестве собственного.
«Мораль затрагивает индивида в его единичности»25. Ответ на вопрос «Что я должен делать?» в конечном счете зависит от того, «что я решу относительно самого себя»: Величавый как образ человека поступающего есть образ человека, определенным образом относящегося к себе - так, что это отношение позволяет ему поступать. Он самодостаточен и единственен в своей самодостаточности (автономности). Ханна Арендт вводит понятие уединения как некий модус экзистенции, наличный в безмолвном диалоге меня самого со мной самим: я в мышлении оказываюсь двоими в одном. Она допускает подобный диалог с другим: если «мы начинаем говорить в форме диалога о тех самых вещах, которые интересовали нас обоих, пока мы еще были в уединении, то это равносильно тому, как если бы я теперь обратился к еще одной самости. Эту другую самость, allos authos, Аристотель совершенно верно определил словом "друг"»26 - и это, согласно Арендт, есть настоящее уединение. Она говорит о мышлении. Но Аристотель увидел возможность сохранения уединенности, единственности человека в пространстве и деятельной жизни: той самодостаточной единственности, ответственной уединенности, без которой невозможна мораль и в которой рождается решение о поступке. Он раскрыл тайну ее сохранения в жизни человека среди людей, заключающуюся в том, что полагание себя источником поступка, поступка как такового - поступка и моего Я, и того иного Я, которое тождественно моему настолько, что не разрушает единственности морального субъекта, - порождает полис. И если друг совершает благодеяние по отношению к Величавому, являющемуся причиной этого поступка, то не возникает никакой необходимости ни в разрушающем благодарность даре, ни в иной форме отрицания
25 Арендт Х. Некоторые вопросы моральной философии // Арендт Х. Ответственность и суждение. М., 2013. С. 142.
26 Там же. С. 144.
собственной зависимости и установления самодостаточности: это есть благодеяние Я по отношению к Я, развертывание самости до горизонта человеческого мира.
Библиография
Арендт X. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000.
АрендтX. Жизнь ума. СПб.: Наука, 2013.
Арендт X. Некоторые вопросы моральной философии // Арендт X. Ответственность и суждение. М., 2013.
Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1984.
Бибихин В.В. Книги. Статьи. Переводы // https://www.facebook.com/ bibikhin/posts/432742490158549.
Хайдеггер М. О существе и понятии Фшк; // http://www.heidegger.ru/ documents/tom9/o_suschestve_poniatia.doc.
Gadamer H.-G. The Beginning of Knowledge. N.Y.: The Continuum, 2003.
Gauthier R.A. Magnanimite. Paris: Librarie Philosophique J. Vrin, 1951.
Hoffman T. Albert the Great and Thomas Aquinas on magnanimity // Virtue Ethics in the Middle Ages: Commentaries on Aristotle's Nicomachean Ethics, 1200-1500. Leiden: Brill, 2008. P. 101-129.
Howland J. Aristotle's Great-Souled Man // The Review of Politics. 2002. Vol. 64. № 1 P. 27-56.





 CC BY
CC BY 151
151