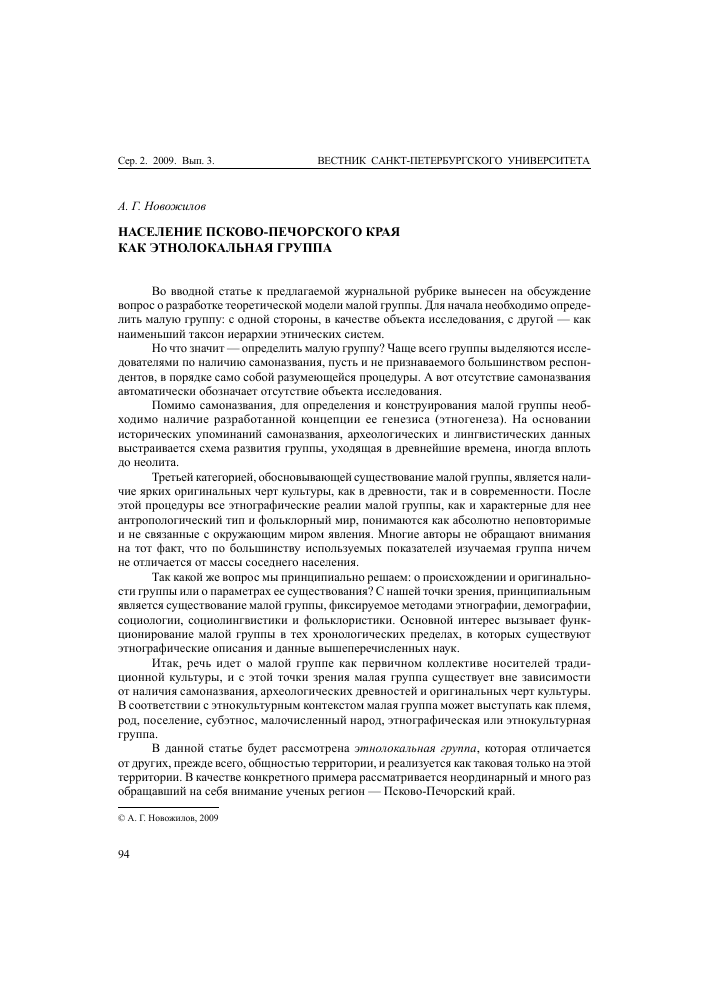А. Г. Новожилов
НАСЕЛЕНИЕ ПСКОВО-ПЕЧОРСКОГО КРАЯ КАК ЭТНОЛОКАЛЬНАЯ ГРУППА
Во вводной статье к предлагаемой журнальной рубрике вынесен на обсуждение вопрос о разработке теоретической модели малой группы. Для начала необходимо определить малую группу: с одной стороны, в качестве объекта исследования, с другой — как наименьший таксон иерархии этнических систем.
Но что значит — определить малую группу? Чаще всего группы выделяются исследователями по наличию самоназвания, пусть и не признаваемого большинством респондентов, в порядке само собой разумеющейся процедуры. А вот отсутствие самоназвания автоматически обозначает отсутствие объекта исследования.
Помимо самоназвания, для определения и конструирования малой группы необходимо наличие разработанной концепции ее генезиса (этногенеза). На основании исторических упоминаний самоназвания, археологических и лингвистических данных выстраивается схема развития группы, уходящая в древнейшие времена, иногда вплоть до неолита.
Третьей категорией, обосновывающей существование малой группы, является наличие ярких оригинальных черт культуры, как в древности, так и в современности. После этой процедуры все этнографические реалии малой группы, как и характерные для нее антропологический тип и фольклорный мир, понимаются как абсолютно неповторимые и не связанные с окружающим миром явления. Многие авторы не обращают внимания на тот факт, что по большинству используемых показателей изучаемая группа ничем не отличается от массы соседнего населения.
Так какой же вопрос мы принципиально решаем: о происхождении и оригинальности группы или о параметрах ее существования? С нашей точки зрения, принципиальным является существование малой группы, фиксируемое методами этнографии, демографии, социологии, социолингвистики и фольклористики. Основной интерес вызывает функционирование малой группы в тех хронологических пределах, в которых существуют этнографические описания и данные вышеперечисленных наук.
Итак, речь идет о малой группе как первичном коллективе носителей традиционной культуры, и с этой точки зрения малая группа существует вне зависимости от наличия самоназвания, археологических древностей и оригинальных черт культуры. В соответствии с этнокультурным контекстом малая группа может выступать как племя, род, поселение, субэтнос, малочисленный народ, этнографическая или этнокультурная группа.
В данной статье будет рассмотрена этнолокальная группа, которая отличается от других, прежде всего, общностью территории, и реализуется как таковая только на этой территории. В качестве конкретного примера рассматривается неординарный и много раз обращавший на себя внимание ученых регион — Псково-Печорский край.
© А. Г. Новожилов, 2009
Речь идет о территории современного Печорского района Псковской области, а также о восточной части Вырусского и Пылвасского районов Эстонии1. В 1920 г. по Юрьевскому мирному договору эта территория (11 приходов с городом Печоры) отошла к Эстонии, а в 1944 г. была разделена между РСФСР и Эстонской ССР [22. С. 35-59; 26. С. 270, 285-287].
Бурный исследовательский интерес этнографов, археологов и лингвистов в ПсковоПечорском крае вызывало прибалтийско-финское по языку население — сету. В XX в. сету стали оценивать как специфическую группу, выделяя ее через нетипичное сочетание элементов культуры: язык, близкий к эстонскому2; православная религия; наличие самоназвания — 8е1:о3 и поименования со стороны соседнего русского населения — полуверцы.
С самого начала изучения сету выявились ключевые вопросы, вокруг которых дискуссия не прекращается и по сегодняшний день. Обсуждение этих вопросов часто выходит за пределы этнографического дискурса и носит этногенетический и даже этно-политический характер.
Основной проблемой определения сету в системе этнической иерархии стала дилемма: сету — часть эстонского народа или это отдельный народ, самостоятельный наследник древнего прибалтийско-финского единства. У этой проблемы есть и политическая подоплека: если сету — часть эстонского народа, то претензии эстонцев на территорию Псково-Печорского края обоснованы, если отдельный народ, то нет.
В идеологии этнического единства эстонцев и сету есть еще одна немаловажная концепция: сету не просто эстонцы, они самые архаичные эстонцы, сохранившие древние черты общенациональной культуры, восходящей к донемецким временам. При этом они издревле, с эпохи каменного века, живут в западной Псковщине.
Однако с научной точки зрения в этой концепции не все так гладко. Существует противоречие между автохтонностью сету и их принадлежностью к эстонскому народу. Если сету автохтоны, то есть они являются потомками раннесредневекового финноязычного племени, сохранившегося в виде изолята в районе Изборска и Печор, то они не эстонцы. Ведь эстонцы как единый этнос сложились из разрозненных, хоть и родственных прибалтийско-финских групп в эпоху Реформации на территории Ливонского ордена. Если же сету — это эстонцы, сбежавшие от немецких баронов и принявшие православие, то они не автохтоны.
С точки зрения этнографии, требует решения вопрос о причине оригинальности сетусской традиционной культуры: либо это сохранившаяся до наших дней эстонская архаика, утраченная собственно эстонцами, либо эта культура уникальна и принципиально непохожа на другие финно-угорские культурные модели, либо это результат русского влияния. Археологическая и лингвистическая разработка проблем «этногенеза» и генезиса культуры сету позволяют сближать их с эстонцами, однако этнографические факты неумолимо говорят в пользу второго и третьего решений.
Неординарность культуры сету была отмечена уже в XIX в. В одном из первых литературных упоминаний сету Фр. Крейцвальд определил их как язычников, цепляющихся за старину, не подверженных православному влиянию и сохранивших свои одежду, язык и обычаи [4. С. 108].
В первой русскоязычной публикации о сету М. Л. Миротворцев предложил различать православное прибалтийско-финское по языку население Псково-Печерского края и эстов-лютеран, переселявшихся в другие регионы России в середине XIX в. [23. С. 45, 49, 61]. По сути, он озвучил парадигму оценки сету, характерную для культуртрегерской этнографии того времени: древность (с донемецкого периода) существования этой
группы, сохранение их культурной архаичности, четкое определение зоны их «исконного» проживания и исключительно внешняя «бытовая» общность с русскими [23. С. 45-47].
Хотя эта общность проявляется в хозяйственных занятиях, организации жилых и хозяйственных построек, пище, обрядности жизненного цикла и даже в традиционном костюме, то есть в подавляющем большинстве этнографических черт, для М. Л. Миро-творцева важнее набор оригинальных черт в культуре: в сетусских украшениях, линиках, обуви типа поршней, поклонении деревянной скульптуре Николая Чудотворца4.
В дальнейшем путешественники и собиратели фольклора в общем воспринимали сету в том же духе, что и М. Л. Миротворцев, добавляя новые материалы и споря по частным вопросам. В последней трети XIX в. на первый план выходит изучение фольклора и низшей демонологии сету5. Эти исследования тем более получали большой резонанс в условиях подъема эстонского национально-просветительского движения. Культура сету все более воспринимались, как образец архаической, не затронутой немецким влиянием, исконной эстонской культуры. Естественно, православие сету трактовалось как внешняя, поверхностная и не оказавшая никакого влияния на них официальная религия.
М. П. Веске, эстонский ученый, журналист и поэт, рассматривал фольклор сету как наиболее древний пласт общеэстонского фольклора. Собранные им материалы по народному творчеству и сравнительному языкознанию славянских и финно-угорских языков позволили сформулировать идею о том, что сету представляют скорее филологический, но не этнографический интерес [9; 12].
Конспект идей М. П. Веске в виде краткого очерка был опубликован П. И. Виско-ватовым. Ему принадлежит описание нескольких оригинальных обрядов и почитаемых мест, которые он приводил для обоснования обособленности сету от соседнего русского и эстонского населения [13. С. 83, 86].
В 1880-90 гг. на территории Псковской губернии разворачивается конфликт между православным и лютеранским духовенством. Вслед за переселением сюда из Лифляндии эстонцев и латышей, ставшим особенно интенсивным после 1855 г. [21. С. 7], потянулись эстонские и латышские пасторы, желавшие сохранить переселенцев в лоне своей конфессии. Параллельно они стали заниматься миссионерской деятельностью среди православных сету и эстонцев, склоняя их к переходу в лютеранство [14. С. 827, 834-836; 21. С. 13, 22-33].
Эта ситуация нашла отражение и в научной литературе. С одной стороны, эстонский пастор Я. Гурт всячески отстаивал эстонские корни и чуждость православию сету. С другой стороны, магистры Санкт-Петербургской духовной академии Ю. Ю. Трусман и Е. Востоков, а также преподаватель Псковской духовной семинарии Е. Лебедев отстаивали истинно православные корни этой группы («по-детски привержены православию», «преданнейшие чада православной церкви») [21. С. 8; 46. С. 35]. Для нас важно, что и те, и другие, принимая во внимание лингвистический фактор, причисляли сету к эстонцам и противопоставляли их русскому населению Псково-Печорского края.
Я. Гурт, основываясь на собранных в ходе четырех поездок этнографических материалах, издал работу, которая была не только сугубо научным трудом, но и религиознополитическим памфлетом. Будучи одним из лидеров эстонской национальнопросветительской идеологии, он активно включал сету в конструирование эстонской нации. Он развил идею М. П. Веске о фольклорности сету и довел до крайности идею об их архаичности: «Сетукезы сохранили очень много первобытного и старинного: в своих воззрениях, в своих нравах и обычаях, в своих песнях и народных преданиях, даже в своей внешности, преимущественно в женском одеянии», и далее: «Знание песен считается лучшим приданным, которое невеста приносит жениху, ибо вместе с песнями
она вносит в новый дом свой: мудрость отцов и матерей, жизнерадостность и утешение» [17. С. 4-5, 10]6.
Таким образом, обоснование архаичности Я. Гурт видит в духе мифологической школы в многообразной и обширной фольклорной традиции, ибо сам фольклор оценивается как пережиток древней общеэстонской религии, старательно сохраняемой сету в пику православию. При этом удивительно, но факт: собственно этнографических и фольклорных данных в работе Я. Гурта практически нет. В работе больше места уделяется убеждению читателя в том, что сету — эстонцы и ничего общего с русскими не имеют, нежели повествованию о традициях сету. Если верить Я. Гурту, то православие у сету поверхностное, праздники они справляют с русскими раздельно, смешанных браков нет, русского языка сету не знают, сарафан совершенно не похож на русский, поселение и жилищно-хозяйственный комплекс отличны от русских, и сетусские зеепше не имеют ничего общего с русскими сенями [17. С. 4-14].
Схожий, скорее полемический, нежели научный характер носят и работы Е. Востокова и Е. Лебедева. В частности, Е. Востоков упирает на приверженность сету православию и непреступность их религиозного сознания для лютеранства [14. С. 827]. Но в его работе есть и этнографические наблюдения, и уважение к концепции национальной принадлежности. Отмечая, что большинство сету понимает и умеет говорить по-русски7, что они схожи с русскими «по виду и в быту», что отличаются от лифляндцев «по внешней хозяйственной обстановке», он констатирует: «Обрусели ли они? Потеряли ли свой язык? Нет» [14. С. 826-828, 833]. Очевидно, и Е. Востоков, и Я. Гурт воспринимают этническую принадлежность как языковую, а не ментальную или культурно-бытовую. Работа Е. Лебедева еще более полемична и созвучна газетной публицистике тех лет, тиражировавшей «научные» шаблоны восприятия сету [31. Ст. 73; 36. Л. 3].
Полемика продолжалась и в начале XX в. В. Бук, понимая бесперспективность сохранения культуры сету в условиях капитализации сельского хозяйства, обращал внимание на замещение русским языком наречия сету. Этому способствовал и рост количества русских земских школ, качественно превосходивших частные эстонские школы, и принадлежность сету к Русской Православной Церкви [1. С. 70-76].
Иначе к изучению сету подходил Ю. Ю. Трусман, более внимательно относившийся к анализу материалов, собранных в ходе полевой работы в Псковском уезде и в архиве Псково-Печорского монастыря в 1885 г. При этом его точка зрения эволюционировала по мере ознакомления с многочисленными этнографическими и архивными материалами. В работах 1888 и 1890 гг. [45; 46] он придерживался автохтонной концепции происхождения сету: «Так называемые сету не переселенцы из Лифляндии, как некоторые думают, но аборигены, последняя ветвь финского племени, некогда занимавшая весь за-Пейпусский край и большую часть Псковской губернии» [46. С. 36].
В доказательство древности сетусского населения Ю. Ю. Трусман, в рамках научной традиции тех лет, приводит сведения о существовании языческой дохристианской, не тронутой ни католичеством, ни православием традиции. Она заключается в обрядах, которым приписывается языческое содержание: поклонение деревянной скульптуре Николая Чудотворца в монастыре, камню Иоанна Крестителя около Мегузицкой часовни и других; манере носить длинные волосы и играть на семиструнных арфах; песнях, загадках, сказках и вообще фольклорной традиции; наличии заклинателей, колдунов, арбуев [46. С. 37-42].
Однако анализ топонимии края (преимущественно, русской) и документов монастырского архива заставили Ю. Ю. Трусмана перейти к миграционной концепции
происхождения сету. Он смещает дату массового появления сету в Псково-Печорском крае с доисторических времен к XIV-XV вв. и требует более детального изучения сетусской традиционной культуры для обоснования их архаичности [47. С. 37-47]. Кроме того, в своих исследованиях, в отличие от Я. Гурта, Ю. Ю. Трусман признает общность русских и сету, отстраненность сету от эстонцев, и даже в лингвистическом отношении отмечает, что «в их наречие входит много заимствованных от русских слов» [46. С. 42-44, 48; 47. С. 47].
В 1920 г. территория Псково-Печорского края был включена в состав Эстонской республики, и такие положения, как архаичность сету, их принадлежность к эстонскому этносу приобрели еще и политическое значение. Если И. Маннинен и другие исследователи в своих этнографических работах по-прежнему ориентировались на собирание оригинальных сетусских обрядов, приписывая им дохристианские, протоэстонские черты [5], то в 1930-е гг. появились новые, по сути — этносоциологические, исследования.
Е. Маркус опубликовал статью, посвященную направленности миграционных и ассимиляционных процессов в Псково-Печорском крае [6]. Он выделил несколько моделей изменения «национального состава» отдельных поселений. Во-первых, это «русификация» и «эстонизация» (термины Е. Маркуса) поселений через смешанные браки. Причем эти поселения можно разделить на три группы, в соответствии со стадией ассимиляции: появление смешанного населения; изменение соотношения национальностей в результате предпочтения в брачном поведении в сторону одной из национальностей (русских или эстонцев); полная «русификация» или «эстонизация» при сохранении исторической памяти об иноязычных предках. Во-вторых, в полосе доминирования сету в западной части Псково-Печорского края или русских в восточной происходила смена языка деревенского общения и без межнациональной брачности. В-третьих, рост числа эстонцев на изучаемой территории происходил и за счет переселения сюда «внутренних эстонцев», то есть выходцев из Лифляндии и Эстляндии [6. С. 168-174].
Очевидно, что в представленных теоретических построениях обнаруживается тождество эстонцев и сету, а языковая принадлежность выдается за этническую.
В послевоенные годы, в рамках перехода эстонской науки на марксистские позиции, появилась необходимость определить национальный статус сету, а, следовательно, и решить вопрос об этногенезе этой группы. Возникла дискуссия между археологом Х. А. Моора и языковедом Ю. Мягисте. Они сходились во мнении относительно того, что сету являются субэтносом эстонского народа, но по-разному решали проблему их появления и включения в состав эстонцев.
Основываясь на археологических материалах из Эстонии и Северо-Запада России, Х. А. Моора полагал, что предки сету — это восточно-чудские племена. Будучи одним из апологетов автохтонизма, он считал, что эти племена, наряду с северными и южными эстами, участвовали в формировании эстонской нации, которая появилась путем интеграции разнородных прибалтийско-финских племен [25. С. 125-132].
Ю. Мягисте, наоборот, настаивал на пришлости сету в Псково-Печорском крае. Изучая письменные источники, гидро- и топонимию, лексические и грамматические особенности наречия сету, он пришел к выводу о том, что они потомки выходцев из Вырумаа, появившихся здесь в XVI в. и продолжавших прибывать на протяжении XVII-XIX вв. [7. С. 165-173].
Обращает на себя внимание тот факт, что оба автора детально проработанных концепций практически не использовали этнографические данные. С нашей точки зрения, это справедливо, ибо в то время не существовало серьезных этнографических и этногдемогра-фических исследований сету, которые опирались бы на всю сумму источников (включая
документы, детальное описание объектов материальной культуры и т. д.) и сравнительные материалы по соседним русским и прибалтийско-финским группам. А доказательство принадлежности сету к эстонскому народу базировалось для Х. А. Моора и Ю. Мягисте на языковой близости.
Параллельно А. Х. Моора создала типологию этнографических комплексов, присущих различным группам эстонцев. В этой систематизации значительное место уделено культуре сету именно в качестве одного из вариантов эстонской традиционной культуры. С другой стороны, исследовательница отметила очень много оригинальных черт сетусской культуры, порожденных, в том числе, и влиянием славян в эпоху раннего средневековья [24. С. 257-260, 280, 287-290].
Новый этап собирания и анализа этнографических материалов, относящихся к культуре сету, открыла Балтийская этнографо-антропологическая экспедиция 1952 г., консолидировавшая усилия московских и прибалтийских ученых, а также предоставившая обширные материалы для сопоставительных исследований.
Командированная в рамках этой экспедиции в Печорский район Псковской области Е. В. Рихтер сформулировала новые подходы к изучению культуры сету и на многие десятилетия стала ведущим специалистом по этнографии этой прибалтийско-финской группы. Она впервые для обоснования этногенетической гипотезы стала привлекать не просто яркие этнографические факты, а проводить сравнительный анализ с привлечением данных, относящиеся к культуре соседних групп русского, эстонского, латышского и восточно-прибалтийско-финского населения. Кроме того, Е. В. Рихтер стала широко привлекать письменные источники Псково-Печорского Успенского монастыря, документы местной администрации и приходские книги. Отдавая должное результатам археологических и лингвистических поисков, она не поддавалась искушению решить все этногенетические вопросы, опираясь на данные исключительно этих наук.
Творчество Е. В. Рихтер можно разбить на два этапа. На первом этапе основной интерес у нее вызывала материальная культура сету и, прежде всего, структура усадьбы, характер построек и традиционная одежда, хотя в ее работах есть описания и занятий, промыслов, типов поселений, традиционной пищи и домашней утвари [37; 38; 39; 40]. Начиная с 1970-х гг. научные интересы Е. В. Рихтер расширяются, и в поле ее зрения попадают как новые темы — духовная культура и этнодемографические тренды сету, так и теоретические проблемы оценки этнических процессов интеграции и ассимиляции этой маленькой группы более крупными этническими массивами [41; 42; 43; 44].
Но менялся не только предмет изучения, эволюционировали взгляды Е. В. Рихтер на сету в плане определения места этой группы в этнографической систематике: в 1950 гг. это юго-восточная или псковская группа эстонцев, в 1970-е — этнографическая, а в 1980-е — этническая группа эстонского народа. За терминологическими различиями стоит не только изменение в теоретических основаниях советской этнографии, но и желание отстоять оригинальность сету в ходе фактического исчезновения этой группы.
Для Е. В. Рихтер сету действительно уникальны: «Сету — особая этнографическая группа, со своей особой исторической судьбой, которая выделяет ее среди других локальных групп эстонцев, населяющих окраины Эстонии...» [41. С. 90]. В чем же особость исторической судьбы? Суммируя выводы Е. В. Рихтер, можно определить следующие параметры. Во-первых, сету появились в результате смешения местных чудских племен эпохи раннего средневековья и беглых эстонцев-лютеран эпохи средневековья позднего8. Во-вторых, сету испытали очень сильное русское влияние, определявшееся соседством, а значит, и наличием межнациональных браков, единством социально-экономической
ситуации и конфессиональной принадлежности. В-третьих, оригинальностью материальной культуры (одежда, жилища, пища), религиозной и семейной обрядности.
Выделяет Е. В. Рихтер и черты, которые объединяют сету с эстонцами. Помимо языкового сходства, это идентичность самоназвания («народ земли»), поддержание связей с эстонцами, ощущение принадлежности к эстонцам и наличие языческих верований, восходящих, надо понимать, к древнеэстонским. Но древнеэстонское происхождение неканонических обрядов сету спорно, поддержание связей и ощущение принадлежности — вообще туманные аргументы. Самоназвание maarahvas могло быть привнесено лифляндскими переселенцами, наличие которых не оспаривает ни один из авторов.
В работах 1950-х гг. Елизавета Владимировна больше обращала внимание на русские истоки многих сетусских объектов материальной культуры. В частности, на русский тип рубахи и сарафана в женском комплексе праздничной одежды, на западнорусский тип жилища на территории Псково-Печорского края, на вяление мяса, характерное для русских и прибалтийско-финских народов России [37. С. 186-191; 38. С. 54-55, 62-63, 66-68; 39. С. 398, 403-406; 40. С. 7-9].
Подводя итог, необходимо отметить, что конкретные выводы Е. В. Рихтер очень ценны и интересны. Попытки же встроить эти результаты в социологизаторскую идеологию теоретиков советской этнографии и националистические взгляды эстонских ученых явно противоречили содержанию этнографической конкретики.
В русле идей, высказанных Е. В. Рихтер, работало следующее поколение исследователей традиционной культуры сету. П. С. Хагу, обратившийся к изучению календарной обрядности сету [48. С. 1], и М. Э. Пихо, посвятившая свои труды женским украшениям [34. С. 1, 20], М. Л. Засецкая, написавшая конспективный этнографический очерк [18. С. 271-273], определяли сету как этнографическую или этническую группу эстонского народа, которая является оригинальной и в то же время маргинальной между восточными прибалтийско-финскими народами и эстонцами.
Указанные исследователи в своих штудиях обращались, прежде всего, не к этнографическим реалиям XX в., а к генезису культуры сету и, следовательно, этногенезу самой группы. Вслед за Е. В. Рихтер они настаивали, во-первых, на автохтонности сету на территории Псково-Печорского края и, шире, на территориях, прилегающих к Псковскому озеру с юга и востока, а, во-вторых, на реконструкции некоего восточночудского массива в раннем средневековье, который включал бы и население современной Ленинградской области. Но в своих этногенетических построениях П. С. Хагу и М. Э. Пихо пошли и дальше, чем Е. В. Рихтер, реконструируя древнейшие этапы, начиная с дославянского слоя, восходящего к периоду волжско-финской общности (IV—III тыс. до н. э.) [48. С. 16-17] или даже прауральскому пласту (VI-V тыс. до н. э.) [34. С. 8].
Очевидно, что в этих конструкциях не нашлось места ни соседнему русскому населению, ни серьезному влиянию Псково-Печорского монастыря, ни вообще сколько-нибудь серьезному анализу этнографических реалий бытия сетусского населения. Аграрная обрядность и женские металлические украшения вырваны из контекста традиционной культуры сету и рассмотрены как артефакты на археологический манер [8. 35, 49, 50].
Подводя итоги экскурса в историю изучения сету, необходимо выделить несколько наиболее значимых императивов, которых придерживались все авторы, и в то же время осветить те вопросы, по которым имелись разногласия.
Во-первых, все авторы сходились во мнении, что сету — это часть эстонского народа, и главный аргумент в пользу данного утверждения — близость эстонского языка и говора
сету. Остальные аргументы из сферы лингвистики и психологии — схожесть самоназвания и ощущение общности, как уже отмечалось, неубедитльны.
Во-вторых, для подтверждения идеи единства сету с эстонским народом в соответствии с этногенетическими установками в науке необходимо было доказать, что сету ближе всего по происхождению к эстонцам. Появилось две версии: сету — это переселившиеся в Псково-Печорский край эстонцы, или сету — потомки древнего прибалтийско-финского племени, жившего на этой территории исконно и принявшие участие в формировании и консолидации эстонской нации. Большинство аргументов в пользу второй версии почерпнуто из археологии. Однако археологические времена столь отдалены, что вряд ли они могут оказывать влияние на современную этническую принадлежность сету. Правда, благодаря стараниям Е. В. Рихтер были обнаружены этнографические параллели сетусской культуре в культуре води, ижоры, вепсов и карел. Однако и эти параллели могут объясняться не столько древностью происхождения, сколько единством ландшафта и соседством с русским населением.
В-третьих, сету оцениваются эстонскими учеными как носители архаической культуры эстонцев и потому вырываются из контекста всего комплекса традиционной культуры населенного ими региона. Этнографические реалии и конкретные факты этносоциального бытия сету совершенно игнорируются, как игнорируются и культурные связи с русским населением именно Псково-Печорского края, а не вообще русскими. Даже в лучших этно-социологических работах русские и эстонцы выступают как внешние факторы, обладающие большой внутренней консолидацией. То есть, по мнению этих исследователей, близость русских Псково-Печорского края с русскими Прикубанья в этнографическом плане превосходит степень близости с сету. Это очевидно не так.
Далее мы попробуем предложить иную парадигму оценки сету с точки зрения рассмотрения их традиционной культуры, демографических параметров и этносоциальных характеристик, присущих им и изменявшихся на протяжении II половины XIX-XX вв.
Суть этого подхода сводится к изменению объекта изучения. Как уже отмечалось, основным объектом на протяжении полутора сотен лет являлись сету, определяемые как ветвь или этническая / этнографическая группа эстонского народа. В соответствии с этой установкой, русское в языковом плане население Печорского, Пылвасского и Вырусского районов практически не изучалось9. Происходило это в силу убежденности исследователей, что сету и русские живут жестко изолированными друг от друга социумами.
Сам факт наличия или отсутствия повседневных контактов внутри группы не является определяющим при выборе объекта исследования. А вот общность осваиваемой чересполосно ландшафтной зоны, единство социально-экономических институтов и моделей развития, пастырская деятельность Псково-Печорского Успенского монастыря, охватывавшая и сетусские, и русские деревни, общность исторических судеб как минимум на протяжении XVIII-XX вв. позволяют признать в качестве объекта этнографического исследования все традиционное сельское население Псково-Печорского края10.
Во избежание путаницы при употреблении термина русские в данной статье, мы будем различать автохтонное русское население Псково-Печорского края (их назовем для краткости просто русскими) и русских, прибывших сюда из остальных уездов Псковской губернии или других губерний (в этом случае в тексте будут сделаны указания на их пришлость).
Начнем с определения территории Псково-Печорского края. О границах региона по современному административно-территориальному делению сказано в начале статьи. Здесь же речь пойдет об этапах сложения этой территории, которая в географической номенклатуре определяется как юго-западная часть Псковского Обозерья.
В XV в. здесь основан Печорский Свято-Успенский монастырь, оказавший глубокое и разностороннее духовное, культурное и хозяйственно-бытовое влияние на население этого края. Поначалу (XVI-XVIII вв.) именно границы монастырских владений определяли контуры группы, включавшей русское и прибалтийско-финское по языку население. Секуляризация монастырских земель в 1764 г. привела к переводу всех монастырских крестьян в государственные. Здесь был образован 2-ой стан Псковского уезда. Земельный фонд на этих территориях практически не раздавался и не продавался, поэтому к 1861 г. Помещичьих крестьян во 2-ом стане было в пять раз меньше, чем государственных [43. С. 261]. Можно ответственно утверждать, что именно принадлежность к казенному ведомству подавляющего большинства населения наряду с влиянием монастыря консолидировала эту группу.
Стабильность группы стала размываться в пореформенный период (1861-1920 гг.), когда снятие социальных барьеров привело к появлению в Псково-Печорском крае эстонцев и латышей (еще с 1855 г.) [21. С. 7] и русских из внутренних губерний [32]. В 1920-44 гг. эта территория конституциируется как Печорский уезд Эстонии (Ре1зег1шаа), в это же время возрастает приток сюда эстонцев [6. С. 171].
После раздела Псково-Печорского края в 1944 г. между РСФСР и ЭССР11 миграционный приток русских и эстонских специалистов сохранился [27. С. 294-298].
Но внутренние связи, складывавшиеся веками, сохранились. При условности межреспубликанских границ в СССР сохранялись влияние Псково-Печорского монастыря, привязанность к приходским церквям, даже если они находились в соседней республике, поддерживались связи с родственниками. Только после предоставления Эстонии в 1991 г. независимости формальная межреспубликанская граница превратилась в государственную, и появились реальные трудности для поддержания единства населения региона.
Этнокультурные границы Псково-Печорского края не абсолютны, они несколько изменялись на протяжении XX столетия. По Ю. Ю, Трусману в конце XIX в. западным рубежом была граница Псковской губернии с Лифляндией, южным — шоссе Псков — Рига, северным — Псковское озеро, восточного же рубежа не существует, поскольку чем восточнее, тем меньше встречаются сету [46. С. 36]. Кроме того, чем восточнее, тем меньше ощущается влияние Псково-Печорского монастыря, и нарастают связи с губернским городом Псковом.
После Юрьевского мира 1920 г. конституциировалась не только западная (Псковской губернии и Лифляндии), но и восточная (РСФСР и Эстонии) граница Псково-Печорского края. После 1944 г. эта граница сохранилась в качестве границы Печорского района Псковской области.
Надо сказать, что в период после 1920 г. территория Псково-Печорского края несколько увеличилась за счет присоединения к Эстонии территорий к югу от трассы Псков — Рига, населенного преимущественно русским и отчасти латышским населением. После 1944 г. население Лавровской волости и южной части Изборской волости было включено в Печорский район. Эти территории можно оценивать как этнографическую периферию Псково-Печорского края, сохранявшую связи с его ядром и не терявшую культурного единства с населением соседнего Палкинского района.
Итак, на западе граница, перестав быть государственной, сохранилась как религиозная, на севере всегда была физико-географической, на востоке актуализировалась как государственная и сохранилась как на административная, на юге никогда не была четко выражена (шоссе — условный фронтир) и охватывала обширную переходную зону.
В пределах этой территории расселялись, как уже отмечалось, автохтонное русское и сетусское население и переселенцы — русские, эстонцы и латыши. География расселения сету и автохтонного русского населения неоднократно описывалась. Существуют весьма подробные карты, отражающие разные хронологические срезы размещения сету в Псково-Печорском крае [6. Вклейка после с. 176; 26. С. 270; 41. С. 95]. Переселенцы размещались в уже существующих деревнях или выкупали хутора, которые все равно приписывались к действующим сельским обществам. Исключение составляет деревня Турок, основанная переселенцами12.
В зависимости от удельного веса каждой из перечисленных компанент, на территории Псково-Печорского края можно выделить этнокультурные зоны. Во-первых, западную и северо-западную, где испокон оседали беглецы из Лифляндии, и где русскоязычных деревень было очень мало, в культуре этих деревень было много прибалтийских элементов. Во-вторых, северную, где четко разграничивались прибрежные (к Псковскому озеру) русские деревни и материковые сетусские. В-третьих, центральную и восточную, где деревни сету и русских располагались вперемешку, без всякой системы (Паниковскую волость Й. Каллас назвал шахматной доской [43. С. 270]). В-четвертых, южная зона, плавно переходящая в другие русские группы юго-западной Псковщины, о чем уже было сказано выше.
Внутреннее единство русских и сету отражалось и в приходской жизни. Весь ПсковоПечорский край на рубеже XIX-XX вв. состоял из 11 приходов. Ю. Ю. Трусман называет их углами, в том смысле, что внутриприходская жизнь была достаточно замкнута, особенно на севере региона [46. С. 48-49].
При этом во всех приходах было и русское, и сетусское население. Только в наиболее крупных из них — Печорских 1-ом и 2-ом, Изборском и позже Мальском — существовало разделение паствы по языковому признаку: в Изборском Никольском приходе «священник Панов отвечал именно за полуверческие деревни, в то время как священник Щекин за русские». Это разделение концентрировалось на отправлении таинств и вовсе не касалось богослужебной практики, церковных праздников и публичной пастырской деятельности. В остальных семи приходах не было даже намека на разделение.
Единство сету и русских состояло также в общности брачного поведения и, следовательно, в демографических трендах, фиксируемых на протяжении II половины XIX-XX вв.
Демографические процессы, происходившие в пореформенную эпоху на северо-западе России, в полной мере проявлялись и в Псково-Печорском крае. Сохранение высокой рождаемости, превышения рождаемости над смертностью, преобладания дворов, населенных большими семьями, значительно отличает матримониальное поведение сету и русских от эстонского и латышского. Небольшое повышение возраста вступления в брак, при сохранении ранних браков, объясняется большим процентом поздних браков в пограничье с Лифляндией, но при этом смешанных браков с эстонцами-лютеранами во II половине XIX — начале XX вв. не обнаружено [43. С. 264, 270-271, 275-276].
Естественно, что наибольшую долю составляли браки между населением близлежащих деревень, вне зависимости от языковой принадлежности. Причем на юге изучаемого региона сету гораздо интенсивнее мешались с русскими, чем на севере [43. С. 275].
В период принадлежности Псково-Печорского края Эстонии модель прокреативного поведения сету и русских почти не изменилась. Некоторое повышение возраста вступления в брак отвечает аналогичным тенденциям в Советской России. Сохранение высокой рождаемости привело к росту удельного веса представителей этнолокальной группы Псково-Печорского края в общей численности населения Эстонии.
Во второй половине XX в. формируется новая модель прокреативного поведения населения (относительно поздний брак, два-три ребенка в семье), обусловленная в 195070-е гг. необходимостью «поднять» детей, то есть обеспечить получение ими высшего или среднего специального образования. Резко возрастает отток населения в активном репродуктивном возрасте во внутренние районы Эстонии и России. Как следствие двух предыдущих факторов, старение населения. Оригинальность демографических трендов в этнолокальной группе Псково-Печорского края заключается в несколько отличной от остальной нечерноземной зоны РСФСР хронологии этого процесса, связанного с поздней коллективизацией. Кроме того, местное сету и русское население четко отделяло себя от иммигрантов из внутренних районов Эстонии и Псковской области, которые концентрировались в городе Печоры и воспринимались аборигенами как нечто чуждое.
Но деструкция этнолокальной группы, отразившаяся и в изменении пространственной организации населения, в этот период постепенно перестает существовать. Аборигенное русское и сету население представляет собой сумму пенсионеров крайне преклонного возраста, разбросанных по всему бывшему ареалу расселения группы [27. С. 305-307].
Благодаря имеющимся описаниям, мы можем судить об изменении языковой ситуации в Псково-Печорском крае на протяжении II половины XIX-XX вв. Говор сету представляет собой вариант южноэстонского вырусского диалекта, отличающегося тем, что в него вошло много слов, заимствованных из русского языка [20. С. 46; 46. С. 61]. Однако сами сету всегда подчеркивали отличие своего говора от литературного эстонского, да и эстонцы высокомерно относятся к говору сету как к «нецивилизованному».
Собственно эстонский язык сету стали осваивать по мере появления эстонских школ. До революции единственная лютеранская школа в селе Лазарево не пользовалась популярностью у сету. Во-первых, потому что эстонский язык воспринимался как «пустой язык, им только до Печор можно дойти» [46. С. 48], во-вторых, потому что там практиковалась школярская муштра, которой не было в русских земских школах [14. С. 834-837]. С 1921 г. все школы стали эстонскими, и для сету перестали преподавать русский язык. С приходом советской власти эстонские школы для сету сохранились, в том числе и на территории РСФСР — в Печорах, в них преподавались русский язык и литература, но все предметы велись на эстонском языке [41. С. 97-99]. Характерно, что в этих школах школьникам запрещалось говорить на языке сету, хотя большинство учителей были сами выходцами из Псково-Печорского края.
Бытовое отношение сету к русскому языку и русских к сету менялось. Хотя эстонские деятели утверждали, что сету конца XIX в. не знали русского зыка и жили изолировано, у нас есть и обратные свидетельства. Ю. Ю. Трусман пишет: «В средних приходах (Печорском, Залесском, Изборском) русские мало умеют говорить по-эстонски, между тем взрослые полуверцы говорят по-русски; в северных же приходах (Верхоустинском, Колпинском, Кулейском и Зачеренском) русские достаточно хорошо владеют эстонским языком» [46. С. 36-37]. Е. Востоков передает сообщение Залесского священника Псковскому епископу Нафанаилу о том, что в его приходе «большая половина из них (сету) понимает и умеет говорить на русском языке» [14. С. 826].
Более того, наблюдался переход целых семейств с языка на язык, как с русского на сетусский, так и сетусского на русский. Очень часто, выучившись в церковно-приходской или земской школе, сету переходили в быту на русский язык [14. С. 827; 21. С. 27; 46, С. 47]. Но еще более интересные сведения привел Е. Маркус, обнаруживший семьи, сменившие язык домашнего общения либо под воздействием окружающего населения, либо путем устойчивого предпочтения браков между сету и русскими [6. С. 168-171]. Эти
факты подтверждают как наличие сету-русского двуязычия, так и распространенность сету-русских браков.
В дальнейшем, на протяжении II половины XX в. в западной части ПсковоПечорского края обнаруживается тотальная эстонизация сету. Наоборот, в восточной части нарастает сету-русская брачность, и сегодня семьи, пользующиеся в быту языком сету, представлены лишь пенсионерами.
Роль русского и сетусского языков не ограничивается внутрисемейным общением. Сету-русское двуязычие определялось необходимостью коммуникаций во время престольных праздников, на которых и осуществлялось междеревенское общение и устраивались брачные пары [28. С. 213-220]. А из устойчивости обмена брачными партнерами вытекает общность быта [16. С. 108, 132].
Культурно-бытовые реалии Псково-Печорского края описаны однобоко — подавляющее большинство работ посвящено сетусскому населению. Однако есть отдельные сведения о традиционной бытовой культуре русских этого региона. Есть также работы, посвященные региональным особенностям соседних русских групп Псковской губернии [10; 11; 19. С. 60-253; 29; 30]. Наконец, нами в 1993-2008 гг. проводились полевые исследования русского населения Печорского района Псковской области.
Однако неравномерность изученности населения региона не может служить препятствием для выявления общности традиционной культуры и быта сету и русских Псково-Печорского края.
В отношении хозяйственных занятий и социальной культуры сету и русские ничем не различались, что определялось общностью ландшафтных условий и традицией сельскохозяйственного освоения этих ландшафтов, строго оберегавшейся монастырским духовным и хозяйственным руководством, как до секуляризации церковных земель, так и после. Попытка увидеть особенности сету в манере селиться малыми деревнями [17. С. 13-14] не выдерживает никакой критики. Во-первых, встречаются сетусские деревни, состоявшие в начале XX в. из 40 и более дворов (Затрубье), во-вторых, встречались русские деревни, насчитывавшие до 10 дворов (Соколово, Трынтово).
Скорее речь может идти о ландшафтных особенностях внутри региона. Богатые почвы карстовых отрогов плато Хаанья осваивались раньше других территорий, и потому поселения здесь большие. Приозерные и приречные ландшафты с глинистыми и песчаными почвами неудобны для масштабного освоения и осваивались позже. Следовательно, и поселения здесь мельче. Возможно, что сету в массе своей появились на территории Псково-Печорского края чуть позже, чем русские, и потому селились на менее удобных участках. Более позднее появление сету как причину небольших размеров сетусских деревень допускали Ю. Мягисте и Е. В. Рихтер [7. С. 167-168; 39. С. 398].
Усадьбы сету и русских не различаются ничем. Небольшое количество жилых риг (эстонское традиционное жилище) в пограничной полосе с Лифляндией не меняет общей картины [39. С. 403-404; 46. С. 36].
Наиболее яркие отличия обнаруживаются в женском праздничном костюме. Подавляющее большинство исследователей считали его исконно эстонским. Однако Е. В. Рихтер показала, что часть элементов этого костюма заимствованы у русских (рубахи, сарафаны), часть представляют собой модификацию общефинских явлений (рююд), а часть действительно сохраняет особенности общефиннских явлений (линник, ванник). Характерно, что женская одежда сету не представляла собой застывший комплекс, а изменялась с изменением общей севернорусской моды [38. С. 53-68].
Пожалуй, наиболее загадочным выглядит комплекс украшений сету, состоящий из крупных серебряных блях (сыльг), имеющих аналоги в эстонской традиции, и обильных и увесистых серебряных монист, обнаруживающих аналоги у поволжских финнов и тюрок [34; 35].
Повседневная женская одежда сету ничем не отличалась от русской. В 1920-30 гг. сетусские девушки и молодые женщины перестают носить традиционный костюм и переходят на одежду европейского типа (юбка и блуза, платье). Возрождение традиционного костюма в 1960-70-е гг. связано с фольклорно-концертной деятельностью и не носит всеобщего характера. В свою очередь, русские женщины Псково-Печорского края охотно заимствовали детали украшений и узоры для вязаных деталей костюма у сету. Мужской же костюм у сету, как праздничный, так и будничный, всегда был русским [33].
Когда исследователи обосновывали особливость сету, они делали упор на духовную культуру. Хотя и здесь мы не видим значительных различий между сету и русскими. В плане обрядности жизненного цикла некоторые различия были обнаружены Е. В. Рихтер в области наиболее консервативной похоронной обрядности. Она полагала, что некоторые элементы этой обрядности восходили к эпохе существования восточно-прибалтийско-финского единства [42; С. 126-128].
Но наибольшее количество аргументов в пользу исключительности и эстонскости сету этнографы черпали в календарной обрядности и низшей демонологии, которые возводятся к древней эстонской языческой религии. Не будем вступать в теоретическую дискуссию о правомерности реконструкции древних религий через изучение низшей демонологии, скажем лишь, что так называемый культ Пеко не был характерен для всех сету и не обладал единством на всей территории их проживания (единым его сделали фольклористы и музейщики).
Нет смысла отрицать наличие оригинальных черт и в календарной обрядности сету, однако, основу календаря составляли праздники Русской Православной Церкви, хранившиеся Псково-Печорским Свято-Успенским монастырем, и трудно себе представить, что для сету были бы сделаны послабления. П. С. Хагу выявил оригинальные, не имеющие аналогов в русской традиции престольные праздники у сету. Он спрашивал у информатора сетусское и русское название праздника, и если информатор знал только сетусское, то и праздник объявлялся сетусским [48. С. 9-12], хотя он четко фиксировался по православному календарю.
Нашими полевыми данными подтверждается информация, что все престольные праздники отправлялись совместно русскими и сету. Никакого разделения не существовало ни в момент богослужения, ни в поминальный, ни в ярморочный отрезки праздника. Дальнейшие гуляния могли происходить в нескольких деревнях: в одних они проводились совместно, в других присутствовали только отдельные иноязычные гости (родственники или ватаги парней, приходившие в гости к местным барышням), в третьих действительно присутствовали только русские или только сету.
Общность бытовой культуры русских и сету по количеству и значимости элементов принципиально превосходит оригинальные черты. Праздничная одежда и низшая демонология являются исторической памятью, вместе с языком дифференцирующей ПсковоПечорскую группу на две составляющие компоненты. При этом сету и русские, в свою очередь, не выступают монолитными группами, а представляют собой как бы два ингредиента, в разных пропорциях перемешивающихся в каждом из 11 приходов-«углов» ПсковоПечорского края. Исследователи, с нашей точки зрения, постоянно путают региональные признаки традиционной культуры и этническую принадлежность их носителей.
В заключение несколько слов о взаимовосприятии сету и эстонцев и, следовательно, степени близости их этнических стереотипов поведения. Социальный статус сету в представлении эстонцев был невелик и в XIX, и в XX вв. Я. Хурт, главный апологет единства эстонцев и сету, писал: «Хотя лифляндский эстонец относится не особенно дружелюбно к своему сетукезскому сородичу, ставя его по его некультурности еще ниже, чем это делает русский, тем не менее совершенная форма лифляндской культуры оказывает на сетукеза значительное притяжение» [17. С. 7]. Ему вторит Ю. Ю. Трусман: «У балтийских эстов, своих собратьев, полуверцы служат предметом посмешища; 8еШ считается унизительным, презренным прозвищем», и далее: «... они обижаются, когда их зовут полуверцами; в то же время они строго отличают себя от лифляндских Эстов и предпочитают называть себя Русскими или БеШ» [46. С. 46, 48].
Очевидное взаимное неприятие имело и более глубокие корни, уходившие в социальную структуру. Тот же Ю. Ю. Трусман пишет о хозяйственно-бытовых навыках: «Жен -щины, как у полуверцев, так и у русских, не косят сена, чего нет в Прибалтийском крае», или
о различиях в стереотипе поведения: «Но перед чужими людьми, одетыми по-господски, они (сету) в противоположность эстляндским и лифляндским эстам, не чувствуют никакого страха и, встречая или видя их, они преспокойно делают свое дело и не обнаруживают ни малейшего стеснения» [46. С. 37].
Положение не изменилось и в XX в. Е. В. Рихтер отмечала неприязненное отношение эстонцев к своей (то есть эстонской) этнографической группе, однако хронологически относила это явление к досоветским временам — II пол. XIX — I пол. XX вв. [41. С. 92, 95-96]. Наши полевые данные показывают, что во II пол. XX в. сохранялось высокомерное отношение эстонцев к сету [32; 33].
Ситуация осложнялась тем, что на протяжении всего XX в. происходили процессы отнюдь не добровольной эстонизации сету, которые Е. В. Рихтер назвала «интеграцией». Этому способствовали демографическая деструкция сельской популяции, влияние школы в плане эстонизации сетусского населения, доминирование эстонской лютеранской антро-понимии, нивелировка традиционной материальной культуры, рост числа национально смешанных браков. В качестве стабилизирующих факторов сохранения сету Е. В. Рихтер называет приверженность обрядам жизненного цикла и традиционным календарным праздникам (от себя заметим — православным), сохранение сетусского говора, фольклора, деталей интерьера жилища, ощущения своей сопричастности с «этнической группой» [41. С. 97-105, 107-110, 118-119; 43. С. 275].
Наши этносоциологические исследования 1993-1996 гг. показали, во-первых, преобладание осознания и ощущения себя обособленной от эстонцев и русских группой, что объясняется, с одной стороны неприязнью эстонцев, а с другой — отторжением от русских соседей в результате раздельного школьного образования [26. С. 289-291]. Характерно, что представители старшего поколения сету воспринимали своих детей как эстонцев: «Родители наши сету, а дети наши пошколенные — эстонцы» [41. С. 105]. От себя заметим — не вполне равноправные эстонцы.
Во-вторых, удалось выявить три модуса социальной активности сету: 1) крестьяне с низким образовательным статусом предпочитали переезд в эстонский колхоз, чаще всего в пределах расселения сету, поскольку колхозы в сверхдатируемом сельском хозяйстве ЭССР были богаче псковских; 2) по окончании средней школы сету, не рассчитывавшие на повышение социального статуса, а претендовавшие на более обеспеченную жизнь, ехали учиться в техникум или институт в Эстонии (попытки стать эстонцем в первом поколении проваливались); 3) многие выходцы из Псково-Печорского края предпочитали
учебу в институте, реже в техникуме, в РСФСР — с прицелом либо на карьерный рост, которому ничто не мешало, или на высокие заработки на стройках социализма; основная мотивация в таких случаях сводилась к социальному комфорту.
В-третьих, и в советское время сохранялось ощущение общности русских и сету Псково-Печорского края, основанное на территориальном единстве и религиозном отчуждении от эстонцев и «советских», приезжавших сюда на работу.
В-четвертых, начиная с 1910-20 гг. традиционная культура сету все более сохраняется в Псково-Печорском крае как фольклорно-музейное явление и актуализируется как таковое и в качестве языковой оппозиции русским только на монастырских праздниках.
Итак, этнолокальной малой группой является все коренное сельское население Псково-Печерского края, а присутствие сету лишь добавляет ему более четкой выраженности, по сравнению с другими группами Псковщины.
Сету — фактор существования этой группы, а не самостоятельное явление. Сету, как языковое сообщество, включает и коренное прибалтийско-финское население, и перешедших в православие эстонцев (на севере и западе региона).
Этнолокальная группа Псково-Печорского края входит в этнокультурное пространство русского народа. Она возникла в ходе освоения пограничного региона, актуализи-ровавалась в I половине XX в., пережила процесс дезинтеграции и исчезновения на протяжении 1920-90-х гг. и к началу XXI в. сохранилась как фольклорно-музейный реликт. Параметры этой группы постоянно изменялись на протяжении II пол. XIX-XX вв., как и всех подобных групп, очень динамично изменявшихся под внешним влиянием (в нашем случае, и под влиянием консолидации эстонской нации и социалистической модернизации русского крестьянства).
Связи в таких этнолокальных группах преимущественно культурно-бытовые (традиционная культура, быт, семейные связи), но начинают проявляться и этнические, основанные на общности стереотипа поведения. Они состоят из конвиксий (в данном случае, «углов»), в рамках которых доминируют непосредственные связи между людьми. Таким образом, население Псково-Печорского края представляет собой пример этнолокальной группы, являющейся базовой системой, из которых состоят этнические системы более высокого порядка: население Псковщины, Северо-Запада России, русский этнос.
1 Волости Зачеренская (Саатсе), Верхоустиеская (Ярвесу), Никитиногорская (Мяэ), Мериногороская (Меримяэ).
2 Сетусский говор южноэстонского вырусского диалекта, в XIX в. — веросское наречие [20. С. 46].
3 Сету — не исконное самоназвание группы, так их с начала XIX в. называли эстонцы. В 1920-1930 гг. оно было навязано в качестве самоназвания православному эстоноязычному населению Печорского уезда. Сами же эти люди называли себя «народ земли», так же как и эстонцы. Этимология слова «сету» неизвестна [41. С. 92].
4 Есть и вовсе вздорные замечания: якобы в деревнях сету чуть меньше дворов, чем у русских Псковщины. Это не подтверждается более поздними исследованиями.
5 Сам М. Л. Миротворцев, не знакомый с наречием сету, не только не смог добиться от информаторов сведений о сетусской топонимии края, но и высказал мысль об отсутствии у них фольклорной и демонологической традиций [23. С. 46, 52, 61].
6 О фольклоре сету смотри другие работы Я. Гурта [2; 3].
7 Такую информацию Е. Востоков получил от священника Троицкого прихода в Залесье.
8 Именно на доказательство наличия единого восточно-чудского массива — предков сету, води, ижор и отчасти карел — направлен теоретический пафос работ Е. В. Рихтер [39. С. 406-410; 40. С. 9, 21; 42. С. 126-128].
9 Прекрасно иллюстрирует этот факт отношение русского населения Печорского района к этнографам. Когда мы во время экспедиций появлялись в русских усадьбах, нам говорили: «Что нас спрашивать — мы
не сету» и указывали, как пройти к сету. Только на третий год работ русское население привыкло к тому, что и оно интересно для исследователей.
10 Судьбы населения города Печоры значительно отличаются от судеб сельского населения, большую роль в формировании которого сыграли паломники в Псково-Печорский монастырь. В 1920-30-е гг. город целенаправленно заселялся эстонцами, а начиная с 1940-х гг. здесь стали появляться «советские» специалисты, военные, таможенники. Однако история Печор еще ждет своего исследователя.
11 Основным принципом отнесения каждого сельсовета к России или Эстонии являлось численное преобладание либо сету (которых в документах Согласительной комиссии по изменению границ именовали исключительно эстонцами), либо русских. Карты соотнесения административных границ [22. С. 37, 48, 81, 124; 26. С. 270; 44. С. 49]
12 Деревня Турок, расположенная в южной части Изборской волости. Здесь два хозяина были латышами, а еще пять — русские, приехавшие из Островского уезда [32].
Литература
1.Buck W. Petseri eestlaised. Tartu, 1909.
2. Hurt J. Setukeste laudud. Vol. I-III. Helsingfors, 1904-1907.
3. Hurt J. Uber die Pleskauer Esten oder die sogenannten Setukesen. Helsingfors, 1904.
4. KreutzwaldFr. R. Maailm ja monda. Tallinn, 1953.
5. Manninen J. Setude matusekommetest // Eesti keelu. № 1. 1924.
6. Markus E. Changes on the Esto-Russian Ethnographical Frontier in Petserimaa // Sitzungsberichte der gelehrten Estnischen Gesellschaft 1936. Tartu, 1938.
7. Magiste J. Petserimaalt, selle uurimisest ja setude paritolust // Meie maa. Eesti sonas ja pildis IV. Louna-Eesti. Lund, 1957.
8. Piho M. The Setuan breast-plat «suur solg» // Congressus Octavus Internatjonalis Fenno-Ugristarum. Pars VI. Ethnologia. Folkloristica. Moderatores. Jyvaskula, 1996. P. 338-342.
9. Weske M. Bericht uber die Ergebnisse einer Reise durch das Estenland im Sommer 1875 // Sitzungsberichte der gelerten Estnischen Gesellschaft. Derpot, 1876.
10. Вертев И. И. Итоги полевых исследований 2001 г. в Опочецком районе Псковской области // Этнографическое изучение Северо-Запада России (Итоги полевых исследований 2001 г. в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях). VI Региональная науч. конф. молодых ученых: матер. конф. / отв. ред. А. В. Гадло. СПб., 2001.
11. Верняев И. И. Традиционные хозяйственные и социальные модели в организации послевоенных колхозов (по архивным и полевым материалам Опочецкого района Псковской области середины 40-50-х годов ХХ в.) // Этнографическое изучение Северо-Запада России (Итоги полевых исследований 2002 г. в Ленинградской, матер. конф. / под ред. В. А. Козьмина. СПб., 2002.
12. Веске М. П. Славяно-финские культурные отношения по данным языка // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете. Т. VIII. Вып. 1. Казань, 1890.
13. Висковатов П. И. Некоторые сведения об эстах, живущих в пределах Псковской губернии // Труды VI Археологического съезда в Одессе (1884 г.). Т. IV. Одесса, 1899.
14. ВостоковЕ. Латыши и эсты — переселенцы Псковской губернии // Христианское чтение. N° 5-6. Май-июнь. СПб., 1886.
15. Гадло А.В., Чистяков А. Ю., Егоров С. Б. Этнография Северо-Запада России (Южные окрестности Петербурга — Приладожье — центральные районы Псковщины). СПб., 2004.
16. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. Л., 1989.
17. Гурт Я. О псковских эстонцах или так называемых «сетукезах» // Известия Императорского Русского географического общества. Т. XLI. Вып. 1. СПб., 1905.
18. Засецкая М. Л. Сету: история, культура, современные этнические процессы // Историкоэтнографические очерки Псковского края / под ред. А. В. Гадло. Псков, 1998.
19. Историко-этнографические очерки Псковского края / под ред. А. В. Гадло. Псков, 1998.
20. Каск А. Х. К вопросу об образовании и группировке эстонских диалектов // Вопросы этнической истории эстонского народа: сб. статей / под ред. Х. А. Моора. Таллин, 1956.
21. Лебедев Е. Инородческий вопрос в Псковской губернии в связи с религиозно-политическим значением Псково-Печерского монастыря. Псков, 1891.
22. Маттисен Э. Эстония — Россия: история границы и ее проблемы. Таллинн, 1995.
23. Миротворцев М. Об эстах или полуверцах псковской губернии // Памятная книжка для псковской губернии на 1860 год. Отдел историко-Статистический. Псков, 1860.
24. Моора А. Х. Об историко-этнографических областях Эстонии // Вопросы этнической истории эстонского народа: сб. статей / под ред. Х. А. Моора. Таллин, 1956.
25. Моора Х. А. Вопросы сложения эстонского народа и некоторых соседних народов в свете данных археологии // Вопросы этнической истории эстонского народа / под редакцией Х. А. Моора. Таллин, 1956.
26. Новожилов А. Г., Хрущев С. А., Громова Ю. В. Современное состояние сету по данным этнологических исследований // Историко-этнографические очерки Псковского края. Псков, 1999.
27. Новожилов А. Г., Хрущев С. А. Анализ динамики демографических параметров этнолокаль-ной группы (население Печорского района Псковской области во второй половине XX — начале XXI вв.) // Малые этнические и этнографические группы: c6. статей, посвященный 80-летию со дня рождения Р. Ф. Итса / под ред. В. А. Козьмина. СПб., 2008.
28. Новожилов А. Г. Престольные праздники в системе культурного ландшафта этнически смешанных районов Северо-Запада России // Сакральная география и традиционные этнокультурные ландшафты народов Европейского севера. Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 2. Архангельск, 2006.
29. Новожилов А. Г. Динамика традиционной культуры сельского населения Псковского пограни-чья во второй половине XX в. (Печорский, Пыталовский и Палкинский районы) // Псков в российской и европейской истории: междунар. науч. конф. Т. 2. М., 2003.
30. Новожилов А. Г. Динамика исчезновения объектов традиционной материальной культуры в XX в. по материалам Пыталовского района Псковской области // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. История. СПб., 2006. Вып. 4.
31. Об эстах в Псковской губернии // Прибалтийский листок. № 4. Юрьев, 1894.
32. Отчет Псково-Печорского отряда. 1998 г. // Архив кафедры этнографии и антропологии СПбГУ
33. Отчет Псково-Печорского отряда. 2008 г. // Архив кафедры этнографии и антропологии СПбГУ.
34. Пихо М. Э. Металлические украшения сету XIX-XX вв.: автореф. дисс. ... канд. истор. наук. СПб., 1997.
35. Пихо М. Э. Женские металлические украшения сету XIX — середины XX вв. // Материалы Международного конгресса финно-угроведов. Т. I. М., 1989.
36. «Полуверцы» Псково-печорского края // Московские ведомости. № 282. М., 1895.
37. Рихтер Е. В. Итоги этнографической работы среди сету Псковской области летом 1952 г. // Материалы Балтийской этнографо-антропологической экспедиции (1952 год). Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. Т. XXIII. М., 1954.
38. РихтерЕ. В. Женская одежда сету // Известия АН Эстонской ССР Сер. обществ. наук. Т. III. № 1. Таллин, 1954.
39. РихтерЕ. В. К вопросу об этнической истории сету // Известия АН Эстонской ССР Сер. обществ. наук. Т. VIII. № 4. Таллин, 1959.
40. РихтерЕ. В. Материальная культура сету XIX — начала XX вв. (к вопросу об этнической истории сету): автореф. дисс. ... канд. истор. наук. М.; Таллин, 1961.
41. Рихтер Е. В. Интеграция сету с эстонской нацией // Eesti talurahva majanduse ja olme arengujooni
19 ja 20 sajandil. Tallinn, 1979.
42. Рихтер Е. В. Некоторые особенности погребального обряда сету // Советская этнография. № 4. М., 1979.
43. Рихтер Е. В. Этнодемографические процессы у сету во II половине XIX-XX вв. // Известия АН ЭССР Сер. обществ. наук. Т. 34. № 3. Таллин, 1985.
44. Рихтер Е. В. Кто и как жил на земле Эстонии: этнографические очерки. Таллинн, 1996.
45. Трусман Ю. Ю. Полуверцы Псково-Печорского края // Живая старина. Вып. I. Отдел I. СПб., 1890.
46. Трусман Ю. Ю. Псково-Печорский монастырь // Псковские губернские ведомости. 1888. № 28.
47. Трусман Ю. Ю. О происхождении Псково-Печерских полуверцев // Живая старина. Год VII. Вып. I. СПб., 1897.
48.ХагуП. С. Аграрная обрядность сету: автореф. дисс. ... канд. истор. наук. Л., 1983.
49. Хагу П. С. Календарная обрядность русских и сету Печорского края // Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков, 1983.
50. Хагу П. С. Обряд первого весеннего выгона скота в Сету // Folkloor ja poeetika (Фольклор и поэтика). Тарту, 1976.





 CC BY
CC BY 127
127