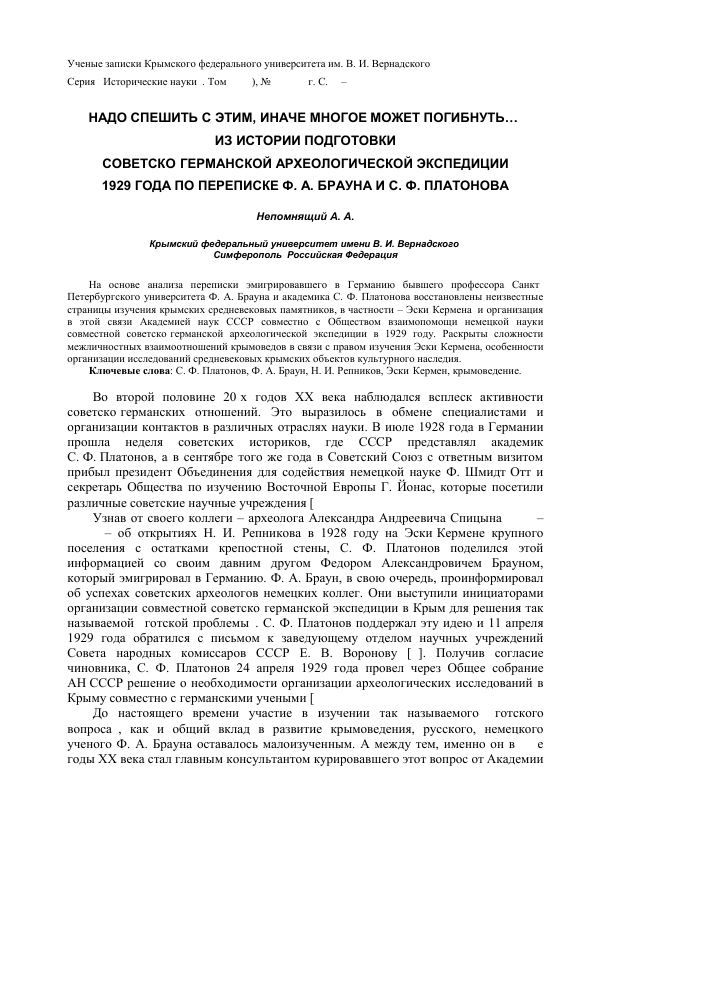Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Серия «Исторические науки». Том 2 (68), № 3. 2016 г. С. 45-64.
«НАДО СПЕШИТЬ С ЭТИМ, ИНАЧЕ МНОГОЕ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ...»:
ИЗ ИСТОРИИ ПОДГОТОВКИ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 1929 ГОДА ПО ПЕРЕПИСКЕ Ф. А. БРАУНА И С. Ф. ПЛАТОНОВА
Непомнящий А. А.
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Российская Федерация Е-таИ:бг.аап@таИ.ги
На основе анализа переписки эмигрировавшего в Германию бывшего профессора Санкт-Петербургского университета Ф. А. Брауна и академика С. Ф. Платонова восстановлены неизвестные страницы изучения крымских средневековых памятников, в частности - Эски-Кермена, и организация в этой связи Академией наук СССР совместно с Обществом взаимопомощи немецкой науки совместной советско-германской археологической экспедиции в 1929 году. Раскрыты сложности межличностных взаимоотношений крымоведов в связи с правом изучения Эски-Кермена, особенности организации исследований средневековых крымских объектов культурного наследия.
Ключевые слова: С. Ф. Платонов, Ф. А. Браун, Н. И. Репников, Эски-Кермен, крымоведение.
Во второй половине 20-х годов ХХ века наблюдался всплеск активности советско-германских отношений. Это выразилось в обмене специалистами и организации контактов в различных отраслях науки. В июле 1928 года в Германии прошла неделя советских историков, где СССР представлял академик С. Ф. Платонов, а в сентябре того же года в Советский Союз с ответным визитом прибыл президент Объединения для содействия немецкой науке Ф. Шмидт-Отт и секретарь Общества по изучению Восточной Европы Г. Йонас, которые посетили различные советские научные учреждения [1].
Узнав от своего коллеги - археолога Александра Андреевича Спицына (18581931) - об открытиях Н. И. Репникова в 1928 году на Эски-Кермене крупного поселения с остатками крепостной стены, С. Ф. Платонов поделился этой информацией со своим давним другом Федором Александровичем Брауном, который эмигрировал в Германию. Ф. А. Браун, в свою очередь, проинформировал об успехах советских археологов немецких коллег. Они выступили инициаторами организации совместной советско-германской экспедиции в Крым для решения так называемой «готской проблемы». С. Ф. Платонов поддержал эту идею и 11 апреля 1929 года обратился с письмом к заведующему отделом научных учреждений Совета народных комиссаров СССР Е. В. Воронову [2]. Получив согласие чиновника, С. Ф. Платонов 24 апреля 1929 года провел через Общее собрание АН СССР решение о необходимости организации археологических исследований в Крыму совместно с германскими учеными [3].
До настоящего времени участие в изучении так называемого «готского вопроса», как и общий вклад в развитие крымоведения, русского, немецкого ученого Ф. А. Брауна оставалось малоизученным. А между тем, именно он в 20-е годы ХХ века стал главным консультантом курировавшего этот вопрос от Академии
наук СССР С. Ф. Платонова. Ф. А. Браун вошел в историографию проблемы как крупнейший специалист по истории готов в России [4]. Не случайно в мемуарах о наиболее значимых ученых-крымоведах, помещенных в сборнике, посвященном 50-летию служения крымоведению А. И. Маркевича и 70-летию со дня его рождения, С. Ф. Платонов вспоминал и Ф. А. Брауна, который «здравствует в Лейпциге, занимая в тамошнем университете для него созданную кафедру истории Восточной Европы». С. Ф. Платонов отметил, что личный интерес к Ф. А. Брауну основывался на том, что тот был «интересным и научно-влиятельным собеседником по темам, касающимся изучения Крыма» [5].
Филолог-романист, историк, специалист в области сравнительного языкознания - Федор (Фридрих) Александрович Браун (Braun, 1862-1942) -родился в Санкт-Петербурге в семье немецкого медика. После окончания Первой петербургской гимназии с золотой медалью (1881 г.) он продолжил образование на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, где изучал романо-германскую филологию (окончил в 1885 г.). За выпускное сочинение об англосаксонской поэме «Беовульф» он был удостоен золотой медали и оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию. Более двух лет молодой ученый стажировался в университетах и академических библиотеках Германии, Швейцарии, Франции и Англии. С 1888 года он утвержден приват-доцентом по кафедре романо-германской филологии и лектором немецкого языка столичного университета. В 1900 году Ф. А. Брауном была защищена магистерская диссертация по истории западноевропейской литературы, после чего он занял должность экстраординарного, а с 1907 года - ординарного (с 1913-го - заслуженного ординарного) профессора кафедры истории западноевропейской литературы Санкт-Петербургского (Петроградского) университета [6]. В университете Ф. А. Браун занимал ряд административных должностей - секретаря (в 1900 г.), декана (19081910 и 1912-1920) историко-филологического факультета; в 1906-1908 гг. служил проректором университета [7; 8], работал также на Высших женских и педагогических курсах [9]. С 1918 года он являлся и ректором Педагогического института (бывший Санкт-Петербургский историко-филологический институт).
Ф. А. Браун активно разрабатывал проблему этногенеза германцев. Вопрос этот изучался российскими (А. С. Будилович, В. Г. Васильевский, А. Н. Веселовский, А. А. Куник) и, безусловно, немецкими историками конца XIX - первой трети ХХ века. Особое её значение подчеркивалось геополитическими интересами и национальными этнопсихологическими установками народов Центральной и Восточной Европы, которые проецировались на события эпохи Великого переселения народов. Именно Ф. А. Браун последовательно развивал идеи Ариста Аристовича Куника (1814-1899), который выявил следы готского (а не норманского, как считалось ранее) влияния на язык, быт и социальную организацию славян [10]. По мнению одного из крупнейших современных российских историков науки И. В. Тункиной, Ф. А. Брауну принадлежат наиболее яркие труды по готской истории в отечественной историографии [11].
Ученый принимал активное участие в общественной научной жизни. С 1892 года он - действительный член Русского археологического общества. С 1906-го -
46
председатель Неофилологического общества при Санкт-Петербургском университете, в 1919-м он стал членом Совета и председателем Комиссии по исторической географии Российской академии истории материальной культуры [12].
Проблема готской истории и средневековой истории Крыма стали объектом пристального внимания ученого с конца XIX века. В связи с тем, что территория расселения готов в Крыму совпадала с местом, где до переселения в Приазовье проживали татароязычные греки, рассматривалась версия о том, считать ли урумов потомками греков. На средства Императорской академии наук Ф. А. Браун предпринял научную командировку в Приазовье и Крым для с целью «отыскать путем археологических разысканий следы пребывания готов в Крыму». В этой связи в программе научной командировки Ф. А. Браун наметил изучение традиционной культуры мариупольских греков, поиск старинных икон, крестов с надписями, старых книг и рукописей, фиксацию народных преданий [13]. В связи с командировкой Ф. А. Брауна председатель Археологической комиссии А. А. Бобринский специально писал 8 мая 1890 года в Таврическую ученую архивную комиссию о предполагаемых раскопках столичного исследователя и просил оказать ему возможное содействие [14]. В «Отчете об археологических разысканиях Брауна в 1890 году» отмечалось, что он «ясных несомненных следов готских не нашел. В приданиях и песнях сохранились воспоминания лишь о тяжелой жизни в Крыму, но в глубь времен народная память не проникла, о гото-греческом Мангупском княжестве ничего не знали, из церковной утвари древних вещей нет» [15]. Ученый провел сравнительный анализ антропологического типа местных жителей и особенностей языка, материальной и духовной культуры.
Летом 1890 года Ф. А. Браун после обследования поселений потомков готов на побережье Азовского моря по поручению Императорской археологической комиссии направился в Крым для проведения изысканий на Мангупе, Сюйрени, Бия-сала, Партените «с целью отыскания там следов готских поселений» [16]. Недостаток времени и трудоемкость раскопочных работ позволили ученому провести только исследования развалин «столицы готских конунгов» (Мангуп) и немного пораскапывать могилы в Симферопольском уезде [17]. По мнению исследователя Феодоро находилось на месте Мангупа. Этому свидетельствовала найденная им надпись, относящаяся к крепости Феодоро [18].
Итоги поисков и типологических сравнений, сделанных во время поездки по Приазовью, Ф. А. Браун изложил в статье «Мариупольские греки», напечатанной в издании Отделения этнографии Русского географического общества «Живая старина», которую редактировал В. И. Ламанский. Автор утверждал, что обследованное им население - последние потомки крымских готов [19]. Быт, обычаи, язык они заимствовали у крымских татар. Это выселенные из Крыма в 1778 году греки. Основной идей статьи было показать, что у этого населения сохранилась живая связь с Крымом. Историк сравнил для этого легенды местного населения разных эпох.
Результатом экспедиции в Крым стала и публикация Ф. А. Брауна на немецком языке исследования «Die letzten Schicksale der Krimgoten» («Судьбы последних
47
крымских готов») [20]. Разыскивая следы пребывания готов на полуострове, Ф. А. Браун провел раскопки на Мангупе. Ученый обозначил три основные части поселения: 1) верхний город с цитаделью на мысе Тышкли-бурун; 2) средний город на вершине плато, от цитадели в западном направлении до Гамам-дере; 3) нижний город в районе северо-западного оврага - Табана-дере. Особое внимание Ф. А. Брауна получил холм, на который указывал до него А. С. Уваров, где рассчитывали обнаружить остатки христианского храма. После 28-дневного исследования (с 29 июня по 26 июля) Федор Александрович пришел к выводу, что это кладбищенская церковь, окруженная со всех сторон «склепами, или лучше мавзолеями, так как они высоко поднимаются над поверхностью земли [21]. Заслугой Ф. А. Брауна стал и опыт первой фотофиксации древностей Мангупа. Фотографии прилагались к отчету, составленному им для Археологической комиссии [22].
Попытки ученого выявить элементы готского языка в речи крымских татар не привели к положительными результатам. Диссертация Ф. А. Брауна «Разыскания в области гото-славянских отношений» была посвящена изучению возможных контактов готов и славян. В полном объеме исследование не было опубликовано. Напечатана только первая часть, относящаяся к пребыванию готов на Висле [23; 24]. В дальнейшем в научных штудиях Ф. А. Браун отошел от этой проблемы и занялся подготовкой корпуса памятников скандинавской письменности, относящихся к России и Востоку.
Интересно, что по заданию Императорской археологической комиссии Ф. А. Браун и в последующем занимался изучением и организацией охраны крымских древностей. С 1896 по 1900 год он был наблюдателем от комиссии за реставрацией Бахчисарайского дворца, крепости Алустон, раскопок Херсонеса [25; 26]. На заседаниях Археологической комиссии он неоднократно докладывал о состоянии этих памятников. Таким образом, ученый хорошо знал крымские памятники и активно принимал участие в их изучении в досоветский период.
В марте 1920 года Ф. А. Браун отправился в ученую командировку в Германию для знакомства с новейшей научной литературой. Страдавший болезнью горла профессор также прошел курс реабилитации в клинике Лейпцига. Врачи категорически не советовали продолжать жить во влажном климате столицы советской России. Попав из красно-бунтующего будоражащего Питера в спокойный Лейпциг, Ф. А. Браун вступил в переговоры с местным университетом о возможности его работы в Германии. Он сразу же получил приглашение прочесть в качестве приват-доцента курс лекций по германским древностям на Юге России и принял решение не возвращаться в Петроград. Он отмечал в 1921 году в собственном «Curriculum vitae», отправленном Н. Я. Марру, что решил остаться в Германии «по состоянию здоровья» [27].
Уже в 1921 году Фридрих Александрович был удостоен звания почетного доктора философии Лейпцигского университета. С 1922-го он - ординарный профессор, с 1927-го экстраординарный профессор истории Восточной Европы этого вуза. Одновременно в 1923-1925 годах он сотрудничал редактором научного
48
отдела берлинского научно-художественного журнала «Беседа», который выходил под редакцией М. Горького.
Находясь в Лейпциге, Ф. А. Браун продолжал активно контактировать со своими коллегами из Петрограда - Ленинграда. Так в 1920-1925 активное общение и сотрудничество развернулось между ним и Н. Я. Марром. Последний даже приезжал в Лейпциг, где провел больше месяца осенью 1920 года и смог убедить Ф. А. Брауна в верности яфетидологии. В это связи Ф. А. Браун активно переписывался с академиком, востоковедом-индологом Федором Ипполитовичем Щербатским (1866-1942) [28].
В Лейпциге ученый разрабатывал различные аспекты антропологии и этнологии. В университете он читал курсы по русской истории и германским древностям, исторической ономастике и топонимике германских земель. Сотрудничая с Н. Я. Марром, Ф. А. Браун предпринял попытку интерпретации его теории в научном русле. Ефитические языки ученый рисовал как субстрат для индоевропейских. При этом он полагал, что именно яфетидология способна вывести индоевропеистику на новый уровень познания. Ф. А. Браун попытался применить лингвистическую теорию Н. Я. Марра к проблеме происхождения германцев и доиндоевропейского населения Европы. Однако в 1925 году Ф. А. Браун прервал научное сотрудничество с Н. Я. Марром. Он убеждал советского коллегу заниматься «в рамках науки» доказательством родства яфитических языков. Однако Н. Я. Марр «расширял» круг этих языков, как и время существования яфитичекой семьи, отодвигая его все далее вглубь тысячелетий [29]. В итоге в СССР Ф. А. Брауна обвинили в «буржуазном примиренчестве» - стремлении «омолодить отжившие традиции» - совместить яфитическую теорию с индоевропеистикой [30].
Небезынтересным аспектом деятельности Ф. А. Брауна в 20-е годы ХХ века стала пропаганда русской культуры в Германии и немецкой в России. Так, по его инициативе и с его предисловием в 1925 году в Германии была переведена и издана «История России» В. О. Ключевского. В 1927 году в Германии издается курс лекций по русской истории С. Ф. Платонова. В СССР была отправлена для издания подготовленная Ф. А. Брауном «Систематизированная библиография немецкой научной литературы за 1917-1924 гг.», составленная в русле задания научной командировки Брауна в Германию. С той же миссией культурной пропаганды связана публикация статей Ф. А. Брауна «Высшая школа в Советском Союзе» и «О русской интеллигенции» [31].
Дружба Ф. А. Брауна с С. Ф. Платоновым стала определяющим моментом для избрания немецкого ученого членом-корреспондентом АН СССР, чему, прежде всего, поспособствовал именно Сергей Федорович. Ему Фридрих Александрович прислал необходимые для избрания документы. В частности, в личном архивном фонде С. Ф. Платонова, который отложился в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, сохранились присланные из Лейпцига по этому поводу «Автобиографическая справка» [32] и информация о научной деятельности Ф. А. Брауна [33], датированные 1927 годом.
В 1927 году по представлению академиков С. Ф. Платонова, И. Ю. Крачковского, С. Ф. Ольденбурга эмигрант Ф. А. Браун был избран членом-
49
корреспондентом АН СССР по старому досоветскому академическому устройству как иностранный член Академии наук по Отделению исторических наук и филологии с 15 января 1927 года [34]. В составленной академиками, хорошо знавшими коллегу, «Записке об ученых трудах проф. Ф. А. Брауна» отмечалось: «Научные интересы Ф. А. Брауна определились еще в те студенческие годы, когда он стал учеником А. Н. Веселовского. Направлению своего учителя он отдал дань в своей первой работе о Беовульфе; но в то же время его личные занятия приняли несколько иное направление: его особенно увлекло языкознание как общее, так и историческое, в частности, в области германских языков. С одобрения А. Н. Веселовского он и избрал их своею ближайшею специальностью, занимаясь в то же время по санскриту и сравнительному языкознанию у И. П. Минаева и по славянской филологии у И. В. Ягича. <...> В рамках языкознания тогда же (18851887) обозначился и круг тех вопросов, которым Ф. А. Браун в последствии посвятил большую часть своих самостоятельных научных работ: это были вопросы не строго лингвистические, а палеонтологические, касавшиеся древностей в широком понимании этого слова, поскольку к решению их применим языковый материал и лингвистический метод. Как русский германист Ф. А. Браун не смог не обратить внимания на невыясненность многих существенных вопросов в области взаимоотношений славянского и германского миров; именно эти вопросы и стали в центре всей его ученой работы» [35].
Несмотря на тенденции по выводу из состава Академии наук ученых-эмигрантов, которые наблюдались в последующие годы в русле откровенного нажима на руководство Академии со стороны советских властей, Ф. А. Браун числился в печатных списках Академии наук до 1930 года и официально постановление об его исключении из Академии наук СССР принято не было [36].
Сохранившиеся письма Ф. А. Брауна к С. Ф. Платонову с 28 января 1927 по 5 мая 1930 года разделены на три единицы хранения. Крымские сюжеты присутствуют лишь в части этих посланий. 9 ноября 1927 года Ф. А. Браун писал в Ленинград:
«Дорогой Сергей Федорович.
Опять я перед вами очень виноват. Получил от Вас открытку и письмо, две брошюры по крымской археологии и Вашу прелестную книжечку о Пушкинском уголке, - и за все это еще не благодарил! Простите великодушно! Я ведь занят по-уши; начало зимнего семестра всегда особенно трудно. И положительно нет свободного часа, пока голова хоть сколько-нибудь свежа. Думаю о Вас часто и много, каждый день собирался писать. <...>
Очень заинтересовала меня и брошюра о Херсонесе. Много всего вспоминается из прошлого, вспоминается радостно. <...> Музей выслал мне, и все время высылал, свои издания. Статья Гриневича из Изв. Тавр. Общ. так же очень любопытна» [37].
4 февраля 1928 года Ф. А. Браун опять касается темы Херсонеса и своего общения с К. Э. Гриневичем: «Из Херсонеса я еще ничего не получил. Не черкнете ли Вы два слова Гриневичу? Или мне ему написать? Слышал я, что Керченский музей отпраздновал какой-то юбилей и напечатал по <нрзб.> новую свою историю.
50
Как бы мне и ее тоже получить? Или это зависит от Акад. Матер. Культ. и написать об этом надо Жебелёву?» [38].
Сюжеты деятельности крымских музеев и отдельных археологов в переписке возобновились только 19 июля 1928 года. Ф. А. Браун комментировал информацию, полученную от С. Ф. Платонова, о раскопках на Эски-Кермене: « <...> Работы Репникова несомненно очень интересны, и если только есть малейшая возможность, их следовало бы продолжать. Но все же предупреждаю во избежание возможных разочарований: то толкование, которое Репников им дает (со слов Петрова) я считаю сильно преувеличенным. Он говорит о фреске, изображающей готского князя в национальном костюме, с короной на голове (!), о рунических надписях и проч. Возможно, что «национальный костюм» и есть, хотя и это невероятно. Готская княжеская династия XIII века была греческого происхождения и, конечно, одевались по византийски» [39].
Крупный деятель раскопок на Эски-Кермене в эту эпоху - Николай Иванович Репников, о котором идет речь в письме, - родился в Санкт-Петербурге 9 апреля 1882 года в крестьянской семье. Его отец работал бурлаком на лесных сплавах Громовых, а мать вела хозяйство и занималась воспитанием сына. После окончания в 1901-м коммерческого училища, в 1902-м Н. И. Репников поступил в Археологический институт. С этого же времени началась его трудовая деятельность в качестве сотрудника Археологической комиссии. Уже в двадцатилетнем возрасте он начал самостоятельные полевые исследования в Тверской и Новгородской губерниях. В 1904-м, после успешного завершения курса в Археологическом институте (был выпущен со званием члена-сотрудника), Николай Иванович провел полевой сезон в Крыму, а после возвращения в столицу поступил вольнослушателем на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, где учился до 1908 года. Именно в это время происходит его становление как археолога-полевика. Определяющую роль в этом процессе сыграл надсмотрщик над археологическими работами Керченского музея древностей — С. П. Петренко. О нем Н. И. Репников вспоминал: «Семен Петрович вводил меня в самую сокровенную своих знаний и опыта, выработанного долгим и пристальным наблюдением, смею утверждать, — недоступного большинству наших археологов». Заболев в 1908-м в Херсонесе малярией и крупозным воспалением легких, Н. И. Репников остался жив исключительно благодаря заботам С. П. Петренко, который «выносил его на руках как нянька». В 1910-м началось сотрудничество Н. И. Репникова с Этнографическим отделом Русского музея, где он являлся хранителем археологической коллекции, насчитывавшей к тому времени более пяти тысяч единиц учета. В этот период Николай Иванович развернул значительные археологические исследования в Старой Ладоге, занимался исследованием древнерусского искусства.
Раскопки Н. И. Репникова в Крыму начались с 1903 года и продолжались с некоторыми перерывами до конца его жизни. В год смерти ученого (1940 г.) состоялась его последняя экспедиционная поездка в Крым. Систематические разведки и раскопки Николая Ивановича охватили широкий круг памятников Крымского нагорья (от каменных ящиков (дольменов) первобытных эпох до
51
остатков эпохи Крымского ханства). Основные его научные интересы тут были сосредоточены на памятниках раннего средневековья: Византийский Херсон, готский могильник Суук-Су, Партенитская базилика VIII века, «пещерные города». С 1926 года Н. И. Репников проводил ежегодные раскопки в Эски-Кермене и изучал одновременные памятники Нагорья. Выявленный им обильный разнообразный материал дал археологу возможность сделать предположения о социальном строе Крымской Готии, развитии Эски-Кермена и Мангупа [40; 41].
11 января 1929 года профессор из Лейпцига извещал:
«Дорогой Сергей Федорович,
большое Вам спасибо за сообщение о ходе совещаний по Эски-Керменским раскопкам. Сказать Вам не могу, как мне жаль, что я не могу принять участия в этих беседах и в проработке планов. Говорил ли Ник[олай] Ив[анович] хотя бы что-то о руках и др.? С нетерпением буду ждать дальнейших сообщений и, конечно, был бы рад получить отчет. Ведь он скоро будет, кажется, не правда ли?» [42]. Ф. А. Браун констатировал, что в ряде немецких газет появились заметки о прошедших в прошлом археологическом сезоне раскопках «близ Бахчисарая». Авторы этих сообщений информировали немецкую общественность о разысканиях «главного города готов, известного под именем Феодоро» [43]. Ф. А. Браун сетовал, что заметки эти были слишком краткими и передавали ход археологических исследований «лишь в самых общих словах» [44].
Уже 26 января в очередном послании Ф. А. Браун впервые поднял вопрос о необходимости организации совместной экспедиции по изучению готских памятников в Крыму:
«Дорогой Сергей Федорович.
Искренне благодарю Вас, за приложение к письму отчета Н. И. Репникова. Я получил его на днях и, конечно, немедленно и внимательно прочел его. Он произвел на меня хорошее впечатление, лучшее - признаюсь - чем я ожидал после того, что мне рассказал Г. И. Петров и писала Л. А. Мерварт. Отчет написан очень толково и содержательно. О руках, к счастью, нет ни слова; а «княжеская корона», очевидно, возникла из «оригинальной шапки с матерчатым верхом и меховой опушкой» на голове бородатой фигуры в пещерном храме «донаторов» (стр. 19 отчета). Фигура эта действительно очень интересна, как и стоящие рядом с нею. Чем скорее эти фрески будут точно сняты, тем будет лучше. Быть может, при ясном освещении и тщательном осмотре удастся найти и дополнительные остатки греческой надписи. Внимательно проверить надо, конечно, и то, что пока прочтено Репниковым. Но если уже произведенная им разведка дала такие интересные результаты, то можно ждать еще гораздо более интересного материала от систематического обследования, особенно если в распоряжении экспедиции будут все нужные технические приспособления, аппараты и др., и будет толковый художник. Надеюсь, что Академия найдет средства для продолжения работ летом этого года, и найдется достаточно активного интереса к этому делу. Надо спешить с этим, иначе многое может погибнуть, раз внимание местного населения возбуждено разведкой Репникова. <. >
52
Как бы то ни было, дело, начатое Н. И. Репниковым, представляется мне чрезвычайно важным для окончательного решения давней готской проблемы -важном в самом широком смысле, не только местном. И если вы найдете, что мое мнение может помочь делу и иметь вес в глазах Академии при решении вопроса об «экспедиции», то я просил бы Вас подчеркнуть его энергичнее, когда вопрос этот будет обсуждаться в надлежащих инстанциях» [45]. Далее Ф. А. Браун предложил свои услуги в качестве посредника в переговорах с Обществом взаимопомощи немецкой науки для привлечения немецких ученых к работам по исследованию Эски-Кермена.
Письмо вводит в контекст деятелей науки, чьи интересы сосредотачивались вокруг крымского средневекового памятника, две новые фигуры. Обе они были хорошо знакомы с Ф. А. Баруном и Н. И. Репниковым. Григорий Иванович Петров (1903-1942), упомянутый и в предыдущих посланиях, обучался на естественном отделении физико-математического факультета Казанского университета. В 1923 году он перевелся в Петроград с целью специализации по антропологии. Одновременно, чтобы получить практическую подготовку, начал заниматься на Этнографическом отделении Географического института. В декабре этого же года молодой исследователь получил первую командировку от Музея антропологии и этнографии в Татарскую АССР и Марийскую автономную область для сбора этнографического материала. Удачные итоги экспедиции предопределили судьбу выпускника университета. В 1924-м Г. И. Петров стал научным сотрудником 2-го разряда Музея антропологии и этнографии. С 1926 по 1929 - он продолжил образование в аспирантуре МГУ, не оставляя при этом работу в музее. Зимой 19281929 года ученый получил возможность занятий в антропологических лабораториях берлина и Мюнхена. Он так же изучал работу антропологических и естественно-исторических отделов музеев Гамбурга, Гейдельберга, Дрездена и Лейпцига. В Лейпциге Григорий Иванович встречался и консультировался с Ф. А. Брауном [46]. Он подробно посвятил немецкого коллегу в курс дел о состоянии исследований Эски-Кермена и весьма критично отозвался о раскопках Н. И. Репникова и о его общем научно-культурном уровне. Осенью 1929 года, после возвращения из Крыма, Г. И. Петров был утвержден старшим ассистентом по кафедре антропологии географического факультета Ленинградского государственного университета. Результаты исследований советско-германской экспедиции он изложил в статье «Потомки готов в Советском Крыму» [47]. Позже появилось и более обстоятельное его исследование по результатам работы Эски-Керменской экспедиции [48].
Г. И. Петров пытался на основе раскопанного антропологического материала проверить выводы Ф. А. Брауна. Собственные исследования он проводил в деревне Черкес-Кермен. Поселение располагалось в горном ущелье в стороне от торговых путей и дорог, что способствовало сохранению этнической чистоты населения. Все жители деревни в 1929 году называли себя татарами, исповедовали ислам и разговаривали на крымскотатарском языке. Хотя, по воспоминаниям стариков, в селе проживала греческая община, действовала греческая православная церковь. Греки выселились в 1778 году в Мариупольский уезд. По мнению Г. И. Петрова, у жителей сохранился облик крымских готов - высокий рост, светлая окраска волос,
53
глаз, кожи. Исследователь связывал это с обитанием там в прежние времена германцев-готов. При этом отмечалась необходимость более глубокого исследования мариупольских греков для сравнительного анализа [49].
Другой корреспондент Ф. А. Брауна - Людмила Александровна Мерварт (Левина) (1888-1965) - супруга крупного советского антрополога немецкого происхождения Александра Михайловича (Густава Германа Христиана) Мерварта (1884-1932). В 1927 году во время поездки в Париж и Лейден Л. А. Мерварт также участвовала в работе Международного конгресса антропологов в Амстердаме. Там она познакомилась с Ф. А. Брауном [50]. Почетный член Международного института антропологии во Франции, член-корреспондент Королевского института языкознания, страноведения и этнографии нидерландской Индии [51]. Она не восприняла агрессивного в общении с коллегами, малокультурного и непрофессионального, по ее меркам, Н. И. Репникова, о чем и сообщила в Лейпциг.
В этой связи понятна озабоченность Ф. А. Брауна, постоянно звучавшая в письмах С. Ф. Платонову о правильности выводов, которые делал Н. И. Репников, и необходимости сверки его предположений с позициями других исследователей, в частности Н. Л. Эрнста.
В ответе С. Ф. Платонов попросил своего немецкого коллегу активно начать переговоры с местными учеными по вопросу о скорейшей организации экспедиции. А 8 марта 1929 года Ф. А. Браун уже рапортовал в Ленинград о результатах проведенных консультаций со своими коллегами:
«Дорогой Сергей Федорович.
Сердечное спасибо за письмо 27 февраля, за сообщение резолюций по Эски-Керменским раскопкам и все прочие новости, очень интересны, хотя не все ясны. Я очень дорожу тем, чтобы быть в курсе Ваших крымских планов и буду благодарен за всякое, хотя бы мельчайшее сообщение по этим вопросам.
<...> Шмидт-Отт при случайной встрече просил меня приехать в Берлин и «ориентировать» его и прочих интересующихся по вопросам о крымских готах. Поездка моя состоялась в этот вторник 5 марта. Я провел там 2% дня, вернулся вечером 7 марта, сразу решил сообщить Вам о результатах. Они кажутся мне важными и требующими особого внимания.
Встречен я там был очень дружески. Совещание в Notgem [Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft - Общество взаимопомощи немецкой науки] вел Шмидт-Отт, затем был обед в шикарном клубе <. >. Кроме членов Общества участвовал К. Шукардт (Sckukhardt) (авторитетнейший археолог современной Германии). Было 6 человек. Вкусно пообедали, выпили и провели в оживленнейшей беседе 3 % часа. У меня был с собой доклад Репникова и фотографии. Мне пришлось прочитать им обстоятельнейший доклад о крымских готах. К моему искреннему удивлению они совсем не были ориентированы в этих вопросах. Кроме самых общих сведений, и все, что я им говорил, падало на очень благодарную почву (двое даже записывали, как на лекции!)» [52]. Ф. А. Браун просил в этом письме С. П. Платонова срочно приехать в Берлин «хотя бы на короткий срок, по возможности, с полномочиями от Академии, что бы окончательно договорится обо всем» [53].
54
Тема Эски-Кермена была продолжена уже 12 марта. Ф. А. Браун сообщал: «Недавно я получил от Равдоникаса, сотрудника Музея антропологии и этнографии Академии наук рукопись немецкой статьи об Эски-Керменен с приложением 18-и фотогр[афических] снимков. Он просит пометить её в каком-либо нем[ецком] журнале. Я попробую это сделать, исправив кое-какие выводы и ошибки. Надеюсь, что удастся. Я напишу ему об этом на днях» [54].
Названный в этом письме Владислав Иосифович Равдоникас (1894-1976) -сыграл не последнюю роль в событиях, развернувшихся вокруг Эски-Кермена в это время. Археолог, историк первобытного общества, доктор исторических наук (1935 год, без защиты), член-корреспондент АН СССР (1946 г.) - он был выпускником Петроградского университета (1923 г.), учеником Н. Я Марра и А. А. Спицына. В. И. Равдоникас начинал как организатор, преподаватель и заведующий Тихвинским педагогическим техникумом (1921-1927), а также - председатель Комиссии по изучению Тихвинского края (1923-1928) и директор Тихвинского краеведческого музея. С 1927 года он проживал в Ленинграде, т. к в 1927-1930-м стал аспирантом Института языка и мышления АН СССР. Доцент (1929-1931), профессор (1931-1945), заведующий кафедрой (1936-1948) археологии Ленинградского государственного университета. Одновременно в 1931-1937 годах - научный сотрудник Музея антропологии и этнографии АН СССР, заведующий Отделом доклассового общества (1932-1935) и сектором (1931-1936) Государственного Эрмитажа, заведующий сектором (1937-1947), заместитель директора (1944, 1946-1952) Института истории материальной культуры АН СССР, основатель и редактор сборника «Советская археология». В конце 20-х - начале 30-х годов ХХ века В. И. Равдоникас, несмотря на то, что он в то время не являлся членом партии, стал лидером «новой» марксистской историко-материалистической археологии. Не случайно, что 22 июля 1929 года В. И. Равдоникас, имевший дружеские отношения с Н. И. Репниковым, был специально командирован Государственной академией истории материальной культуры в Крым для участия в Эски-Керменской экспедиции [55; 56].
25 марта, объясняя заминки с немецкой стороны по подготовке совместных разысканий в Крыму слабым финансированием, Ф. А. Браун заметил: «Прихожу к выводу, что лучше всего было бы, быть может, ограничится в этом году проведением - насколько хватит средств - разведочной работы (хорошо бы с участием хотя бы одного или двух немцев), и не только в Эски-Кермене, но и в других пунктах готских "климатов", и таким путем всесторонне обговорить более значительную экспедицию в будущем (1930) году, и в особенности - выработать для нее разумный план, который охватил бы всю проблему. Как Вы думаете? При таких условиях тут нашлись бы, вероятно, и нужные средства да и Вы у себя могли бы подготовить почву в этом смысле. Эрнсту в Симферополь я написал и надеюсь получить скорый ответ. Других шагов я предпринимать пока не буду; сношения с Notgem по этому вопросу теперь в ваших руках, а я отстранюсь, пока меня не вызовет та или иная сторона [57].
Из текста переписки ясно, что немецкий историк общался и с Н. Л. Эрнстом, получая от него и новинки крымоведческих публикаций. Неизвестно, насколько
55
Ф. А. Браун историк был информирован о бурно разгоравшемся в советской академической среде конфликте Н. Л. Эрнста с Н. И. Репниковым из-за раскопок на Эски-Кермене [58]. Документы, касающиеся этого конфликта, выявленные в различных архивах, свидетельствуют о желании Н. И. Репникова замкнуть исключительно на себе изучение Эски-Кермена. При этом, увы, как это нередко бывает в научном сообществе, для доказательства собственной правоты Н. И. Репников и патронировавший его В. И. Равдоникас не брезговали никакими средствами. На заседаниях Крымской комиссии Государственной академии истории материальной культуры 28 марта и 9 мая 1929 года в сторону Н. Л. Эрнста сыпались обвинения не только в неумелом, а, следовательно, и некачественном проведении археологических раскопок, но и в плагиате. Ученому инкриминировали использование без указания авторства трудов, присвоение себе чертежей и рисунков, выполненных еще досоветским крымоведом, инженером Александром Львовичем Бертье-Делагардом (1842-1920) [59]. В. И. Равдоникас и Н. И. Репников безапелляционно утверждали, что Н. Л. Эрнст использовал без указания авторства для своих научных интересов материалы архива бывшей Таврической ученой архивной комиссии, в частности, хранившиеся там бумаги (описания археологических работ, чертежи и планы раскопов) основателя Московского археологического общества Алексея Сергеевича Уварова (1824-1884) [60].
8 апреля 1929 года Ф. А. Браун просил Сергея Федоровича активизировать участие АН СССР в переговорах с Обществом взаимопомощи немецкой науки по вопросам будущей совместной экспедиции по изучению Эски-Кермена. «Уже получил ответ от Эрнста - не письмо, а кое-какие материалы: две его статьи (о Бахчисар. дворце и Олевизе Новом, и другая - о конфликте Ивана III с генуэзской Кафой Изв. Тавр. Общ.). Статьи производят очень хорошее впечатление: владеет материалом и методом (чей он ученик?). А кроме того он прислал - бюллетени Керченской конференции археологов 1926 г. Прочел я их (весь день сидел над ними). Много в них наивного и неверного, но все же гораздо больше еще чрезвычайно интересного и приходится только сожалеть о том, что доклады не будут напечатаны. Тезисы их не удовлетворяют и только возбуждают аппетит. Из доклада (тезисов) Эрнста об Эски-Кермене я вынес впечатления, что работ он там вообще не производил, а только «обозревал», но обозревал умно. Его тезисы действительно производят впечатления статьи - выдержек из доклада Репникова. Последний, вероятно, им воспользовался в довольно значительной мере; об сем он, Репников, в своих вводах добавил только гипотезу о <нрзб.>. Все же должен сказать, что Репниковым действительно произведена хорошая разведочная работа, хотя бы и по статьям Эрнста, и <нрзб.> на первый раз немало. Кстати, и Эрнст так же видит в Эски-Кермене готский город. Продолжаю не верить этому, но утверждаю вместе с тем, что нельзя миновать Эски-Кермен в поисках готов, напротив, надо, пожалуй, с него именно начать работу» [61].
18 мая 1929 года Ф. А. Браун сообщал о ходе переговоров о совместной археологической экспедиции: «Положение дела о крымских раскопках, т. е. об участии немцев в них, мне совершенно не ясно. Известий из Берлина у меня нет, никто не писал ни официально, ни частно. Боюсь, что дело там заглохло
56
совершенно; если Вы и получите письмо от Шмидт-Отта, то вероятно, уклончивое для этого года. Я ведь Вам уже написал о здешних финансовых делах» [62].
26 мая Ф. А. Браун расписал идею его приезда в Ленинград или Крым в случае, если ему представится возможность представлять Германию в совместных исследованиях. Он радовался возможности встречи со своим старым другом «именно Там, а не здесь, на чужой стороне» [63]. При этом сообщал: «У меня за это время накопилось немало соображений по крымско-готскому вопросу. Берлинцы будут совсем глупы, если не обратятся ко мне хотя бы за советом, даже если они пошлют другого, мне бы очень хотелось помочь делу совершенно независимо от личного вопроса. Возможно, что Репникову удастся взять древнейшие могилы в Эски-Кермене, возможно также явственнее выступят готы. В его хронологические определения я пока не очень верю. Но необходимо было бы найти древнейший некрополь, иначе результат будет половинчатый» [54].
Однако у руководства Германского исторического общества, а не исключено, что и у других курировавших данное мероприятие служб, были иные планы по сформированию немецкой делегации. К этому времени в Германии окончательно определились с персональным составом немецких представителей совместной археологической экспедиции. Представители Общества взаимопомощи немецкой науки профессор христианской археологии и истории искусств теологического факультета Университета Альберта Людвига в Фрейбурге И. Зауер, по воспоминаниям Н. Л. Эрнста, - «старик, неуклюжий, видимо, католический священник, археолог, очень знающий» [65] и доктор Г. Финдейзен - «молодой, шустрый, этнограф из берлинского Музея народоведения, специалист по этнографии России» («женатый на русской») [66] - приехали в Крым в контексте совместной программы советской и германской академии наук по организации совместных раскопок готских древностей в Крыму. И. В. Тункина называет и третьего ученого из Германии, который должен был прибыть в сентябре 1929 года в Крым для осмотра Эски-Кермена. Это основатель и руководитель Восточноевропейского семинара на философском факультете Гамбургского университета, профессор Р. Саломон [67]. Однако Р. Соломон в экспедиции участия не принимал. Немцы собирались только ознакомиться с объектами будущих раскопок и определить объемы дальнейших совместных исследований, согласно чему германской стороной выделялось финансирование.
Уже 6 июля 1929 года Федор Александрович с грустью сообщал в Ленинград: «Все мои планы - крымская мечта - разбились» [68]. До этого момента ученый все еще надеялся, что Германское историческое общество командирует именно его в СССР для проведения совместной археологической экспедиции на Эски-Кермене или хотя бы - в Ленинград для переговоров об организации этой экспедиции в Академии наук. Он рассчитывал в случае, если Общество отправит своего представителя сопровождать его в качестве эксперта - квалифицированного знатока проблемы. А в отсутствии компетентного специалиста по готскому вопросу в Крыму Ф. А. Браун не сомневался.
57
В дальнейших письмах 18 и 22 июля, отправленных С. Ф. Платонову уже в Гаспру, Ф. А. Браун с грустью приписывал: «...сообщайте любые весточки об Эски-Кермене» [69].
С. Ф. Платонов посетивший остатки средневекового городища, подробно описал немецкому коллеге свои впечатления и поделился результатами археологических исследований этого сезона. Академик был вынужден прервать отпуск в Гаспре и срочно выехать в Ленинград в связи с так называемым «Академическим делом». По этой причине он не дождался приезда немецких археологов, о чем и сообщил в Лейпциг. Однако Сергей Федорович продолжал пересылать немецкому коллеге все данные, получаемые из Крыма.
18 сентября Ф. А. Браун писал: «То, что Вы сообщаете об Эски-Кермене, чрезвычайно интересно, и я буду очень рад, если определение Репникова («готские» вещи VI - VII вв.) оправдаются. Не разъясните, что говорит о них Эрнст? Надо понимать, что термин «готский» в археологии условный, как большинство археол. терминов, взятых из этнологии. Эски-Кермен во всяком случае остается византийским городом (основ. Юстинианом?). Готы VI в. городов не строили и в городах не селились, смотри Прокопия. Это почти полностью относится даже и к крымским остаткам и к исламским вестготам. Очевидно, об Эски-Кермене как о готском городе придется еще поспорить.
А немцев там и не было? Неужели их задержала виза? Быть может они все таки еще приехали после Вашего отъезда? О Зауере и Финдейзене мне Шмидт-Отт все-таки, наконец, написал, уже после моего последнего письма Вам. Зауера я знаю лично; он один из самых деятельных немецких археологов; его специальность -доисторическая археология. А Финдейзен - русский немец, вероятно сын бывшего петербургского пастора. Он довольно известный журналист и писатель, и придан Зауеру в помощники, очевидно, из-за русского языка» [70].
Причиной, вынудившей С. Ф. Платонова уже в начале сентября вернутся в Ленинград, стала начавшаяся в это время «чистка» Академии наук. Начала работу Комиссия по проверке аппарата учреждений Академии наук СССР [71]. Еще в июне 1928 года С. Ф. Платонов обнаружил в протоколе открытого заседания Крымской комиссии ГАИМК от 28 марта того же года неизвестно кем сделанную приписку об обещании германской стороны 50 тысяч марок для продолжения работ на Эски-Кермене. Тогда же академик заявил, что такого обещания он не получал. Приписку он считал «недоразумением, которое следовало выяснить» [72].
С. Ф. Платонов, находясь в Ленинграде, продолжал получать подробные отчеты об исследованиях Н. И. Репникова, в том числе - о встрече немецких археологов и их исследованиях в Крыму от А. И. Маркевича и Н. Л. Эрнста. Два послания Арсения Ивановича Маркевича с описанием хода исследований и находок он переслал Ф. А. Брауну.
22 октября Федор Александрович в ответном послании благодарил своего ленинградского коллегу за пересланные «открытку и письмо Маркевича». Он прибавил: «Сообщенные Вами сведения об Эски-Кермене очень любопытны. Молодец Репников. Кончил ли он на этот год работы? Отчет он предоставит, очевидно, еще не скоро. В общем, результаты пока подтверждают давнишнее
58
убеждение, что Эски-Кермен это крепость, построенная Юстинианом. Что говорит об этом Эрнст?» [73].
14 декабря Ф. А. Браун сообщал С. Ф. Платонову о подробном письме Николая Львовича Эрнста с описанием исследований на Эски-Кермене в этот археологический период. Немецкий ученый заметил: «Результаты раскопок действительно очень интересны. Молодец Репников! Все же выводы его еще не обеспечены. Я продолжаю считать Эски византийским городом и рад, что расчистка стен, по-видимому, подтвердила мою давнюю догадку» [74].
Последнее из сохранившихся писем Брауна С. Ф. Платонову написано 5 мая 1930 года и касается частных вопросов [75].
Последнее десятилетие жизни Ф. А. Брауна в фашистской Германии не представлено в доступных источниках. К 70-летию ученого (1932 г.) его ученики подготовили юбилейный выпуск журнала «Культурно-исторический архив», где опубликованы их работы, посвященные профессору [76]. В посвящении, подписанном тремя профессорами, открывающем издание, выделены свойства личности Ф. А. Брауна - «побуждающая энергия и истинная гуманность» [77]. Там же был помещен и крайне неполный перечень научных публикаций Ф. А. Брауна (русскоязычные названия представлены в немецком переводе) [78]. Единственный из известных некрологов Ф. А. Брауна был подготовлен профессором Стокгольмского университета Т. И. Арнэ [79]. Автор некролога занимался изучением крымских древностей. В 1926 году он принимал участие в археологических раскопках на нескольких объектах Крымского нагорья и в Херсонесе. Т. И. Арнэ проводил в Херсонесе экскурсии для немецких делегаций и в интервью местной газете восхищался «темпами музейного строительства» на полуострове[80].
Список использованных источников и литературы
1. Тункина И. В. К истории изучения «готской проблемы» в советской археологии в 1920-х -начале 1930-х гг. // Труды II (XVIII) Всесоюзного Археологического съезда в Суздале / Ин-т археологии РАН; отв. ред. А. П. Деревянко, Н. А. Макаров: в 3-х т.- Москва, 2008.- Т. 3.- С. 249.
Tunkina I. V. K istorii izucheniya «gotskoi problemy» v sovetskoi arkheologii v 1920-kh - nachale 1930-kh gg. // Trudy II (XVIII) Vsesoyuznogo Arkheologicheskogo s»ezda v Suzdale / In-t arkheologii RAN; otv. red. A. P. Derevyanko, N. A. Makarov: v 3-kh t.- Moskva, 2008.- T. 3.- S. 249.
2. ИИМК РАН НА РО, ф. 2, оп. 1 (1929 г.), д. 28, л. 66.
IIMK RAN, f. 2, op. 1 (1929 g.), d. 28, l. 66.
3. Там же, ф. 2, оп. 1 (1929 г.), д. 251, л. 15 об.
Tam zhe, f. 2, op. 1 (1929 g.), d. 251, l. 15 ob.
4. Бузескул В. П. Всеобщая история и её представители в России в XIX - начале ХХ века / подг., вступ. ст. подг. текста, комм., биогр. слов. И. В. Тункиной.- М.: Индрик, 2008.- С. 235.
Buzeskul V. P. Vseobshchaya istoriya i ee predstaviteli v Rossii v XIX - nachale KhKh veka / podg., vstup. st. podg. teksta, komm., biogr. slov. I. V. Tunkinoi.- M.: Indrik, 2008.- S. 235.
5. Платонов С. Ф. Из воспоминаний // Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии.- Симферополь, 1927.- Т. 1.- С. 137.
Platonov S. F. Iz vospominanii // Izvestiya Tavricheskogo obshchestva istorii, arkheologii i etnografii.-Simferopol', 1927.- T. 1.- S. 137.
6. Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Санкт-Петербургского университета за истекшую третью четверть века его существования, 1869-1894: в 2 т.- СПб., 1896.Т. 1.- С. 90-91.
59
Biograficheskii slovar' professorov i prepodavatelei imp. Sankt-Peterburgskogo universiteta za istekshuyu tret'yu chetvert' veka ego sushchestvovaniya, 1869-1894: v 2 t.- SPb., 1896.- T. 1.- S. 90-91.
7. ЦГИА г. СПб., ф. 14, оп. 1, д. 8693.
TsGIA g. SPb., f. 14, op. 1, d. 8693.
8. РГИА, ф. 733, оп. 150, д. 3; оп. 151, д. 121; оп. 156, д. 497.
RGIA, f. 733, op. 150, d. 3; op. 151, d. 121; op. 156, d. 497.
9. Юбилей профессора Ф. А. Брауна // Исторический вестник.- 1913.- № 11.- С. 785.
Yubilei professora F. A. Brauna // Istoricheskii vestnik.- 1913.- № 11.- S. 785.
10. Куник А. [А.] О записке Готского топарха: по поводу нового открытия о Таманской Руси и крымских готах // Записки имп. Академии наук.- 1874.- Т. 24, кн. 1.- С. 61-160.
Kunik A. [A.] O zapiske Gotskogo toparkha: po povodu novogo otkrytiya o Tamanskoi Rusi i krymskikh gotakh // Zapiski imp. Akademii nauk.- 1874.- T. 24, kn. 1.- S. 61-160.
11. Тункина И. В. Н. Я. Марр и Ф. А. Браун: история взаимоотношений (1920-1925 гг.) // Stratum plus.- Кишинев, 2000.- № 4.- С. 384.
Tunkina I. V. N. Ya. Marr i F. A. Braun: istoriya vzaimootnoshenii (1920-1925 gg.) // Stratum plus.-Kishinev, 2000.- № 4.- S. 384.
12. Тихонов И. Л. Неоднократный декан историко-филологического факультета Ф. А. Браун // Материалы XXXI Всероссийской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов / СПб. ГУ.- СПб., 2002.- Вып. 10: Секция истории филологического факультета.- С. 8-13.
Tikhonov I. L. Neodnokratnyi dekan istoriko-filologicheskogo fakul'teta F. A. Braun // Materialy XXXI Vserossiiskoi nauchno-metodicheskoi konferentsii prepodavatelei i aspirantov / SPb. GU.- SPb., 2002.-Vyp. 10: Sektsiya istorii filologicheskogo fakul'teta.- S. 8-13.
13. ИИМК РАН НА РО, ф. 1, оп. 1 (1890 г.), д. 40, л. 2-4.
IIMK RAN NA RO, f. 1, op. 1 (1890 g.), d. 40, l. 2-4.
14. Там же, л. 8.
Tam zhe, l. 8.
15. Там же, л. 17-18.
Tam zhe, l. 17-18.
16. Там же, л. 2-4.
Tam zhe, l. 2-4.
17. Там же, ф. 3, оп. 1, д. 192, л. 1-3; д. 409, л. 127 об.
Tam zhe, f. 3, op. 1, d. 192, l. 1-3; d. 409, l. 127 ob.
18. Отчет имп. Археологической комиссии за 1890 год.- СПб., 1893.- С. 15-21.
Otchet imp. Arkheologicheskoi komissii za 1890 god.- SPb., 1893.- S. 15-21.
19. Браун Ф. А. Мариупольские греки // Живая старина.- СПб., 1890.- Вып. 2.- С. 78-92.
Braun F. A. Mariupol'skie greki // Zhivaya starina.- SPb., 1890.- Vyp. 2.- S. 78-92.
20. Braun F. Die letzten Schicksäle der Krimgoten // Jahresbericht der Reformierten Kirchenschule fur 1889/90.- 1890.- Р. 3-80. То же.- St.-Ptb., 1890.- 88 s.
21. Бармина Н. И. Археологическое изучение Мангупской базилики в 1850-1930-е гг.: источниковедческий аспект // Античная древность и средние века: сб. науч. тр. / Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького.- Екатеринбург, 2009.- Вып. 39.- С. 411.
Barmina N. I. Arkheologicheskoe izuchenie Mangupskoi baziliki v 1850-1930-e gg.: istochnikovedcheskii aspekt // Antichnaya drevnost' i srednie veka: sb. nauch. tr. / Ural'skii gos. un-t im. A. M. Gor'kogo.- Ekaterinburg, 2009.- Vyp. 39.- S. 411.
22. ИИМК РАН НА РО, ф. 1, оп. 1 (1890 г.), д. 40, л. 37-38.
IIMK RAN NA RO, f. 1, op. 1 (1890 g.), d. 40, l. 37-38.
23. Браун Ф. А. Разыскания в области гото-славянских отношений. I. Готы и их соседи до V века. Вып 1: Первый период: Готы на Висле // Сборник Отделения русского языка и словесности Петербургской академии наук.- 1899.- Т. 64, № 12.
Braun F. A. Razyskaniya v oblasti goto-slavyanskikh otnoshenii. I. Goty i ikh sosedi do V veka. Vyp 1: Pervyi period: Goty na Visle // Sbornik Otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti Peterburgskoi akademii nauk.- 1899.- T. 64, № 12.
24. Диссертация о готах // Археологические известия и заметки, издаваемые имп. Московским археологическим обществом .- 1900.- Т. 7, № 11/12.- С. 376-377.
60
Dissertatsiya o gotakh // Arkheologicheskie izvestiya i zametki, izdavaemye imp. Moskovskim arkheologicheskim obshchestvom .- 1900.- T. 7, № 11/12.- S. 376-377.
25. ИИМК РАН НА РО, ф. 1, оп. 1 (1894 г.), д. 19, л. 137; оп. 1 (1899 г.), д. 197, л. 7.
IIMK RAN NA RO, f. 1, op. 1 (1894 g.), d. 19, l. 137; op. 1 (1899 g.), d. 197, l. 7.
26. Медведева М. В., Всевиов Л. М., Мусин А. Е., Тихонов И. Л. Очерк истории деятельности императорской Археологической комиссии в 1859-1917 г. // Императорская Археологическая комиссия (1859-197): к 150-летию со дня основания: у истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия / ред.-сост. А. Е. Мусин; ред. Е. Н. Носов; ИИМК РАН.- СПб.: Дмитрий Буланин, 2009.- С. 169-170.
Medvedeva M. V., Vseviov L. M., Musin A. E., Tikhonov I. L. Ocherk istorii deyatel'nosti imperatorskoi Arkheologicheskoi komissii v 1859-1917 g. // Imperatorskaya Arkheologicheskaya komissiya (1859-197): k 150-letiyu so dnya osnovaniya: u istokov otechestvennoi arkheologii i okhrany kul'turnogo naslediya / red.-sost. A. E. Musin; red. E. N. Nosov; IIMK RAN.- SPb.: Dmitrii Bulanin, 2009.- S. 169-170.
27. СПФАРАН ф. 800, оп. 3, д. 134, л. 42-42 об.
SPFARAN f. 800, op. 3, d. 134, l. 42-42 ob.
28. Тункина И. В. Н. Я. Марр и Ф. А. Браун: история взаимоотношений (1920-1925 гг.) // Stratum plus.- Кишинев, 2000.- № 4.- С. 387-388.
Tunkina I. V. N. Ya. Marr i F. A. Braun: istoriya vzaimootnoshenii (1920-1925 gg.) // Stratum plus.-Kishinev, 2000.- № 4.- S. 387-388.
29. Алпатов В. М. История одного мифа: Марр и марризм: 2 изд.: доп.- М.: Едиториал УРСС, 2004.- С. 34-38.
Alpatov V. M. Istoriya odnogo mifa: Marr i marrizm: 2 izd.: dop.- M.: Editorial URSS, 2004.- S. 34-38.
30. Тункина И. В. Н. Я. Марр и Ф. А. Браун...- С. 390.
Tunkina I. V. N. Ya. Marr i F. A. Braun...- S. 390.
31. Жеребин А. И. У истоков русской германистики: профессор Ф. А. Браун // Немцы в России: русско-немецкие научные и культурные связи: [сб. ст.] / Ин-т истории естествознания и техники РАН; отв. ред. Г. И. Смагина.- СПб., 2000.- С. 19.
Zherebin A. I. U istokov russkoi germanistiki: professor F. A. Braun // Nemtsy v Rossii: russko-nemetskie nauchnye i kul'turnye svyazi: [sb. st.] / In-t istorii estestvoznaniya i tekhniki RAN; otv. red. G. I. Smagina.- SPb., 2000.- S. 19.
32. РНБ ОР, ф. 585, оп. 1, д. 1039, л. 7-8.
RNB OR, f. 585, op. 1, d. 1039, l. 7-8.
33. Там же, л. 9-11.
Tam zhe, l. 9-11.
34. Летопись Российской академии наук / отв. ред. Э. И. Колчинский, Г. И. Смагина: в 4 т.- СПб.: Наука, 2007.- Т. 4.- С. 885.
Letopis' Rossiiskoi akademii nauk / otv. red. E. I. Kolchinskii, G. I. Smagina: v 4 t.- SPb.: Nauka, 2007.- T. 4.- S. 885.
35. Платонов С., Крачковский И., Ольденбург С. Записка об ученых трудах проф. Ф. А. Брауна // Известия Академии наук СССР: VI сер.- 1927.- № 18.- С. 1518.
Platonov S., Krachkovskii I., Ol'denburg S. Zapiska ob uchenykh trudakh prof. F. A. Brauna // Izvestiya Akademii nauk SSSR: VI ser.- 1927.- № 18.- S. 1518.
36. Тункина И. В. Н. Я. Марр и Ф. А. Браун...- С. 385.
Tunkina I. V. N. Ya. Marr i F. A. Braun...- S. 385.
37. РНБ ОР ф. 585, оп. 1, д. 2377, л. 30-30 об.
RNB OR f. 585, op. 1, d. 2377, l. 30-30 ob.
38. Там же, д. 2378, л. 2.
Tam zhe, d. 2378, l. 2.
39. Там же, д. 2378, л. 15 об.
Tam zhe, d. 2378, l. 15 ob.
40. Бернштам А. Н., Бибиков С. Н. Н. И. Репников (1882-1940) // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры.- М.; Л., 1941.- Вып. 9.- С. 121123.
61
Bemshtam A. N., Bibikov S. N. N. I. Repnikov (1882-1940) // Kratkie soobshcheniya o dokladakh i polevykh issledovaniyakh Instituía istorii material'noi kul'tury.- M.; L., 1941.- Vyp. 9.- S. 121-123.
41. Равдоникас В. И. Памяти Н. И. Репникова // Старая Ладога: Материалы археологических экспедиций / Гос. музей этнографии.- Ленинград, 1948.- С. 6-10.
Ravdonikas V. I. Pamyati N. I. Repnikova // Staraya Ladoga: Materialy arkheologicheskikh ekspeditsii / Gos. muzei etnografii.- Leningrad, 1948.- S. 6-10.
42. РНБ ОР ф. 585, оп. 1, д. 2378, л. 1.
RNB OR f. 585, op. 1, d. 2378, l. 1.
43. Там же.
Tam zhe.
44. Там же.
Tam zhe.
45. Там же, л. 2-2 об.
Tam zhe, l. 2-2 ob.
46. Решетов А. М. Отдание долга // Этнографическое обозрение.- Л., 1995.- № 2.- С. 45.
Reshetov A. M. Otdanie dolga // Etnograficheskoe obozrenie.- L., 1995.- № 2.- S. 45.
47. Петров Г. И. Потомки готов в Советском Крыму // Вестник знания.- Л., 1929.- №. 7.- С. 296297.
Petrov G. I. potomki gotov v Sovetskom Krymu // Vestnik znaniya.- L., 1929.- №. 7.- S. 296-297.
48. Непомнящий А. А. История и этнография народов Крыма: библиография и архивы (19211945).- Симферополь: Антиква, 2015.- (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 25).- С. 483.
Nepomnyashchii A. A. Istoriya i etnografiya narodov Kryma: bibliografiya i arkhivy (1921-1945).-Simferopol': Antikva, 2015.- (Seriya: «Biobibliografiya krymovedeniya»; vyp. 25).- S. 483.
49. Заморяхин А. В. О последних крымских готах: по материалам отечественной историографии XIX - начала ХХ вв. // Культурология традиционных сообществ: матер. Всеросс. науч. конф. молод. ученых / Омский гос. пед. ун-т; отв. ред. М. Л. Бережнова.- Омск, 2002.- С. 23-27.
Zamoryakhin A. V. O poslednikh krymskikh gotakh: po materialam otechestvennoi istoriografii XIX -nachala KhKh vv. /\ Kul'turologiya traditsionnykh soobshchestv: mater. Vseross. nauch. konf. molod. uchenykh / Omskii gos. ped. un-t; otv. red. M. L. Berezhnova.- Omsk, 2002.- S. 23-27.
50. Людмила Александровна Мерварт: некролог // Народы Азии и Африки.- М., 1965.- № 6.-С. 246-247.
Lyudmila Aleksandrovna Mervart: nekrolog // Narody Azii i Afriki.- M., 1965.- № 6.- S. 246-247.
51. Академическое дело 1929-1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 1: Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова / Библиотека РАН; Подг. В. П. Захаров, М. Н. Лепехин, Э. А. Фомина.- Санкт-Петербург, 1993.- С. XXXVIII, XLVIII, 8-9.
Akademicheskoe delo 1929-1931 gg.: Dokumenty i materialy sledstvennogo dela, sfabrikovannogo OGPU. Vyp. 1: Delo po obvineniyu akademika S. F. Platonova / Biblioteka RAN; Podg. V. P. Zakharov, M. N. Lepekhin, E. A. Fomina.- Sankt-Peterburg, 1993.- S. XXXVIII, XLVIII, 8-9.
52. Там же, л. 4-4 об.
Tam zhe, l. 4-4 ob.
53. Там же, л. 5.
Tam zhe, l. 5.
54. Там же, л. 6 об.
Tam zhe, l. 6 ob.
55. Тихонов И. Л. Об обстоятельствах ухода В. И. Равдоникаса из Ленинградского университета: документы из личного дела // Невский археолого-историографический сборник: к 75-летию кандидата исторических наук А. А Формозова.- Санкт-Петербург: Издат. дом СПб. ун-та, 2004.- С. 216-220.
Tikhonov I. L. Ob obstoyatel'stvakh ukhoda V. I. Ravdonikasa iz Leningradskogo universiteta: dokumenty iz lichnogo dela // Nevskii arkheologo-istoriograficheskii sbornik: k 75-letiyu kandidata istoricheskikh nauk A. A Formozova.- Sankt-Peterburg: Izdat. dom SPb. un-ta, 2004.- S. 216-220.
56. Тункина И. В. Несколько штрихов к портрету В. И. Равдоникаса 1920-х гг. (по архивным материалам) // Невский археолого-историографический сборник: к 75-летию кандидата исторических наук А. А Формозова.- СПб.: Издат. дом СПб. ун-та, 2004.- С. 193-215.
62
Tunkina I. V. Neskol'ko shtrikhov k portretu V. I. Ravdonikasa 1920-kh gg. (po arkhivnym materialam) // Nevskii arkheologo-istoriograficheskii sbornik: k 75-letiyu kandidata istoricheskikh nauk A. A. Formozova.- SPb.: Izdat. dom SPb. un-ta, 2004.- S. 193-215.
57. РНБ ОР ф. 585, оп. 1, д. 2378, л. 9. RNB OR f. 585, op. 1, d. 2378, l. 9.
58. Непомнящий А. А. Профессор Николай Эрнст: страницы истории крымского краеведения.-Киев: Стилос, 2012.- (Серия: «Биобиблиография крымоведения»; вып. 15).- С. 202, 215-18, 227-230.
Nepomnyashchii A. A. Professor Nikolai Ernst: stranitsy istorii krymskogo kraevedeniya.- Kiev: Stilos, 2012.- (Seriya: «Biobibliografiya krymovedeniya»; vyp. 15).- S. 202, 215-18, 227-230.
59. ИИМК РАН НА РО, ф. 2, оп. 1 (1929 г.), д. 40, л. 45-57. IIMK RAN NA RO, f. 2, op. 1 (1929 g.), d. 40, l. 45-57.
60. Там же. Tam zhe.
61. РНБ ОР ф. 585, оп. 1, д. 2378, л. 13 об. RNB OR f. 585, op. 1, d. 2378, l. 13 ob.
62. Там же, л. 16. Tam zhe, l. 16.
63. Там же, л. 18 об. Tam zhe, l. 18 ob.
64. Там же. Tam zhe.
65. Архив ГУ ФСБ в РК и г. Севастополе, ф. 8, оп. 1, д. 010598, т. 1, л. 121. Arkhiv GU FSB v RK i g. Sevastopole, f. 8, op. 1, d. 010598, t. 1, l. 121.
66. Там же. Tam zhe.
67. Тункина И. В. К истории изучения «готской проблемы»... .- С. 250. Tunkina I. V. K istorii izucheniya «gotskoi problemy»... .- S. 250.
68. РНБ ОР ф. 585, оп. 1, д. 2378, л. 25 об. RNB OR f. 585, op. 1, d. 2378, l. 25 ob.
69. Там же, л. 28-29. Tam zhe, l. 28-29.
70. Там же, л. 31 об. Tam zhe, l. 31 ob.
71. Брачев В. С. Крестный путь русского историка: академик С. Ф. Платонов и его «дело».- Санкт-Петербург: Стомма, 2005.- С. 307.
Brachev V. S. Krestnyi put' russkogo istorika: akademik S. F. Platonov i ego «delo».- Sankt-Peterburg: Stomma, 2005.- S. 307.
72. Академическое дело 1929-1931 гг.: документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 1: Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова / Библиотека РАН; подг. В. П. Захаров, М. Н. Лепехин, Э. А. Фомина.- Санкт-Петербург, 1993.- С. LXXII.
Akademicheskoe delo 1929-1931 gg.: dokumenty i materialy sledstvennogo dela, sfabrikovannogo OGPU. Vyp. 1: Delo po obvineniyu akademika S. F. Platonova / Biblioteka RAN; podg. V. P. Zakharov, M. N. Lepekhin, E. A. Fomina.- Sankt-Peterburg, 1993.- S. LXXII.
73. РНБ ОР ф. 585, оп. 1, д. 2378, л. 32. RNB OR f. 585, op. 1, d. 2378, l. 32.
74. Там же, л. 34 Tam zhe, l. 34
75. Там же, л. 36. Tam zhe, l. 36.
76. Archiv für Kulturgeschichte.- Leipzig; Berlin, 1932.- Bd. 23, h. 2.
77. Goetz W., Steinhausen G., Schönebaum H. Friedrich Braun zum siebzigsten geburtstage // Archiv für Kulturgeschichte.- Leipzig; Berlin, 1932.- Bd. 23, h. 2.- S. 5.
78. Veröffentlichungen Friedrich Brauns // Archiv für Kulturgeschichte.- Leipzig; Berlin, 1932.- Bd. 23, h. 2.- S. 193-194.
63
79. Ame T. J. In memoriam professor F. Braun // Fornvannen.- Stockholm, 1942.- P. 375-377.
80. Шведский ученый в Херсонесе // Красный черноморец.- Севастополь, 1926.- № 220.25 сентября.- С. 4.
Shvedskii uchenyi v Khersonese // Krasnyi chernomorets.- Sevastopol', 1926.- № 220.- 25 sentyabrya.-
S. 4.
Nepomnyashchiy А. А. «We need to hurry with this, otherwise many may die ...»: the history of the preparation of the Soviet-German archaeological expedition in 1929 by correspondence F. A. Brown and S. F. Platonov
Based on the analysis of correspondence between former professor of St. Petersburg University F. A. Brown, which emigrated to Germany, and academician S. F. Platonov the unknown pages of the Crimean study of medieval monuments such as Eski-Kermen were restored, and in this regard, the joint Soviet-German archaeological expedition organized in 1929 by the USSR Academy of Sciences and the mutual aid Society of German science was considered. For the moment such question as participation of Russian and German scientist F. A. Brown in the study of the so-called «Gothic question» which was a general contribution to the development of Crimean local-history studies, was uncharted. In 1920-s S. F. Platonov became the main consultant who oversaw this issue in the USSR Academy of Sciences. The article restores the main stages of the biography of F. A. Brown and presents a bulk of little-known publications related to his activities. The author reveals the complexity of interpersonal relationships between historians of Crimean studies in connection with the right to explore the Eski-Kermen, especially the organization of studies of the medieval Crimean cultural heritage. It is established that the correspondent of F. A. Brown was L. A. Mervart - well known Soviet ethnographer. The friendship and scientific cooperation of the scientists was interrupted by the «academic case».
Keywords: S. F. Platonov, F. A. Brown, N. I. Repnikov, Eski-Kermen, Crimean local-history.
64





 CC BY
CC BY 33
33