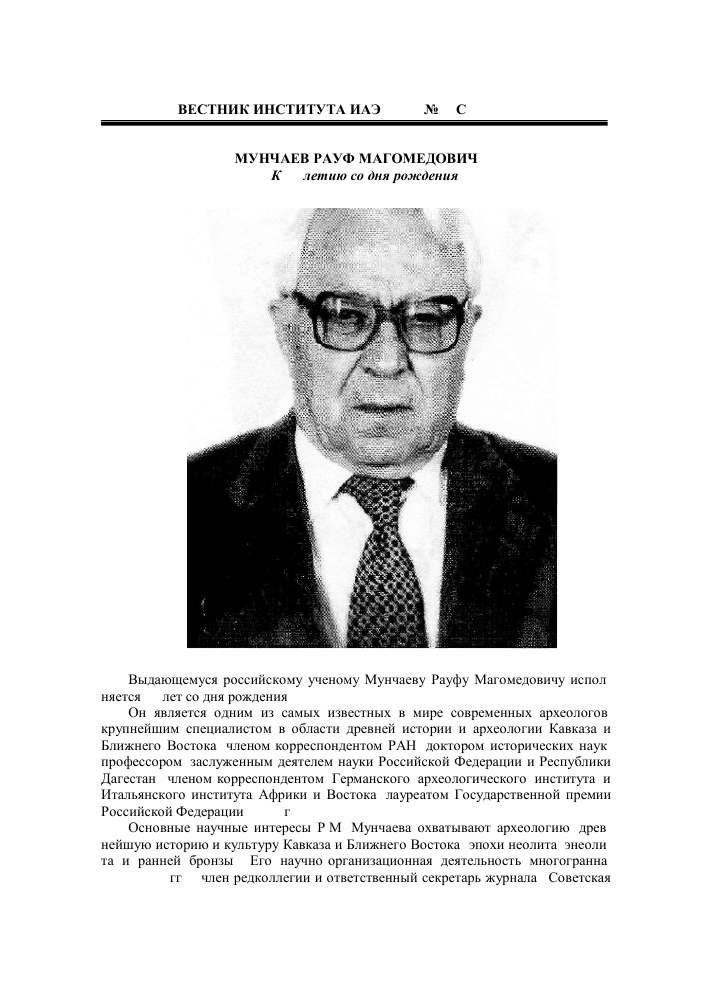ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ИАЭ. 2008. № 3. С. 146 - 158.
МУНЧАЕВ РАУФ МАГОМЕДОВИЧ (К 80-летию со дня рождения)
Выдающемуся российскому ученому Мунчаеву Рауфу Магомедовичу исполняется 80 лет со дня рождения.
Он является одним из самых известных в мире современных археологов, крупнейшим специалистом в области древней истории и археологии Кавказа и Ближнего Востока, членом-корреспондентом РАН, доктором исторических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации и Республики Дагестан, членом-корреспондентом Германского археологического института и Итальянского института Африки и Востока, лауреатом Государственной премии Российской Федерации (1999 г.).
Основные научные интересы Р.М. Мунчаева охватывают археологию, древнейшую историю и культуру Кавказа и Ближнего Востока (эпохи неолита, энеолита и ранней бронзы). Его научно-организационная деятельность многогранна: 1960-1964 гг. - член редколлегии и ответственный секретарь журнала «Советская
археология»; 1968-1991 гг. - зам. директора Института археологии АН СССР; с 1991-2006 гг. - директор Института археологии РАН; с 1981 г. - зам. главного редактора, председатель редакционного совета многотомной «Археологии СССР» («Российская археология»); 1985-1999 гг. - член экспертного совета ВАК по историческим наукам; 1987-1997 гг. - член Постоянного совета и исполкома Международного союза до- и протоисториков; с 1994 г. по настоящее время - член Координационного совета РАН по гуманитарным и общественным наукам; 1995-2002 гг. - член бюро Отделения истории РАН; с 2002 г. - член бюро Отделения историко-филологических наук РАН; председатель ученого совета ИА РАН, член редколлегий и редсоветов журналов «Советская этнография», «Вестник древней истории», «World archaeology», «Общественные и гуманитарные науки» (Сер. «История»), с 2006 г. - председатель экспертного совета РГНФ. Ныне Рауф Магомедович является научным руководителем Института археологии РАН.
О Рауфе Магомедовиче Мунчаеве написано немало (Кореневский С. Н., 2004. С. 21-27; Мерперт Н.Я., 1998. С. 5-14; Смирнов К.А., 2000. С. 148-149; К 70-летию Рауфа Магомедовича Мунчаева. 1998. С. 232-234; К 75-летию Рауфа Магомедовича Мунчаева. 2003. С. 5-8; Давудов О.М., 2005. С. 4-17 и др.) и напишут еще больше. Этот незаурядный человек привлекает внимание своим талантом ученого, организатора и созидателя. Его научная деятельность неразрывно связана с полевой экспедиционной работой и обусловлена ею.
Р.М. Мунчаев - автор более 300 научных трудов, организатор и руководитель многочисленных археологических экспедиций, работавших на Северном Кавказе, в Среднем Поволжье, Ставрополье, Болгарии, Афганистане. С 1969 по 1984 г. он -начальник Иракской экспедиции, с 1988 г. по настоящее время - начальник Сирийской экспедиции ИА РАН. Его работы получили широкое признание, а многочисленные статьи и книги опубликованы не только в России, но и в Англии, Германии, Франции, Италии, США, Ираке, Сирии, Японии и др. странах.
Родился Рауф Магомедович Мунчаев 23 сентября 1928 г. в многонациональном азербайджанском городе Закаталы. Учился в русской школе, где проявились первые успехи в освоении истории и литературы.
Он рано приобщился к труду. Когда началась война, ему было 13 лет. В большой семье Мунчаевых среди пятерых детей он был старшим, и в тяжелые военные годы на его плечи легла забота о младших. Рауф Магомедович еще в школьные годы трудился в совхозе сначала рабочим, потом лаборантом опытной сельскохозяйственной станции. Мать Рауфа Магомедовича, добрая и мудрая женщина, воспитывала своих детей в духе трудолюбия, заложила в них доброе начало. В семье Мунчаевых умели правильно расставлять акценты на истинных человеческих ценностях. В результате все они стали авторитетными людьми, хорошими специалистами: старшие братья Рауф и Шамиль - ведущими учеными страны, докторами исторических наук, профессорами, хорошими организаторами науки, сестра Савдат (Ляля) - ученым-литературоведом, преподавателем Даггосунивер-ситета. Младшие братья: Камиль - спортивным тренером, Гусейн, добрейший человек, рано ушедший из жизни, врачом.
Рауф Магомедович окончил исторический факультет Дагестанского педагогического института (ныне Даггосуниверситет). Перспективного молодого специалиста оставили работать при том же институте в должности лаборанта. А позже он был приглашен на ответственную работу помощника Председателя Совета мини-
стров Дагестанской АССР. Однако административная работа не удовлетворяла Рауфа Магомедовича.
В 1949 г. он поступил в аспирантуру Института археологии АН СССР, где прошел обучение под руководством крупнейшего кавказоведа д.и.н. Е.И. Крупнова и специализировался по археологии энеолита и ранней бронзы Кавказа. В годы аспирантского обучения он принимал активное участие в Северо-Кавказской археологической экспедиции под руководством К. Ф. Смирнова. Рауф Магомедович целенаправленно углублял свои знания в области археологии: в течение двух лет вместе со студентами занимался на кафедре археологии исторического факультета МГУ, слушал лекции выдающихся советских ученых, среди которых были С.В. Киселев и Б.Н. Граков. Он активно участвовал и в работе сектора неолита и бронзы Института археологии АН СССР, посещал заседания других секторов. В годы учебы в Москве он участвовал в работе археологических экспедиций не только Кавказа, но и Поволжья. В полевых условиях проявились основные черты характера Рауфа Магомедовича: энергичность, трудолюбие, выдержка и организаторские способности.
К 1953 г. он завершил работу над кандидатской диссертацией «Эпоха меди и бронзы в истории Дагестана (Ш-П тыс. до н.э.)» и блестяще защитил ее. Официальные оппоненты Б.Б. Пиотровский и Н.Я. Мерперт дали высокую оценку этой работе и охарактеризовали ее как новаторскую. Они особо отмечают, что Дагестан был лакуной в исследовании первобытной археологии Кавказа и диссертация Р.М. Мунчаева заполнила этот пробел. И действительно, работа Р.М. Мунчаева стала основой для изучения истории и археологии Дагестана эпохи бронзы и, в частности, определила место памятников Северо-Восточного Кавказа среди сопредельных памятников куро-араксской и майкопской культур. Он же дал обоснованное определение энеолита и бронзового века Дагестана, предложил хронологию и периодизацию памятников.
После защиты диссертации Р.М. Мунчаев полтора года проработал в Институте истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР, где он был одним из тех, кто заложил основы целенаправленного археологического изучения Дагестана. Здесь он показал себя перспективным и талантливым ученым и организатором. Им были проведены в Дагестане экспедиционные исследования, с большой оперативностью введены в научный оборот нововыявленные памятники каменного века, эпохи бронзы и раннего средневековья. Примечательно, что эти памятники были открыты в ранее наиболее слабо изученной горной части Дагестана. Среди них было Чохское поселение, получившее впоследствии широкую известность как опорный памятник особой археологической культуры неолита Кавказа, памятник, материалы которого документируют переход к производящей экономике - земледелию и скотоводству. Добытые новые материалы позволили Рауфу Магомедовичу выделить локальные варианты местных культур, рассмотреть ряд важных проблем древней истории, включая проблему заселения горного Дагестана. Им было освещено общее состояние археологического изучения республики и намечены перспективы ее изучения, которые получили реализацию в последующие годы при его личном участии.
В 1955 г. Рауф Магомедович переехал в Москву, где стал работать в Институте археологии АН СССР, ставшем для него «родным домом», здесь он прошел более чем 50-летний путь от младшего научного сотрудника до директора института, здесь проявился его талант ученого и организатора науки. Он и ныне про-
должает активно трудиться в родном Институте археологии в должности научного руководителя института, пользуясь непререкаемым авторитетом и глубоким уважением среди коллег. Рауфа Магомедовича отличают высокая культура, требовательность к себе и к своим сотрудникам, уравновешенность, терпимость, умение ценить в других добрые человеческие и творческие начала, доброта и обаяние. Одна из ярких черт его характера - интернационализм. Среди его друзей много русских, азербайджанцев, армян, грузин, евреев, арабов, курдов, представителей всех народов Дагестана и др.
В Институте археологии он и реализовал все свои творческие и организационные способности, стал признанным лидером российской археологии. Здесь он оказывал и оказывает постоянную помощь кавказоведам, проявляет пристальное внимание к проблемам и нуждам археологии и древней истории Кавказа и родного Дагестана.
В качестве зам. начальника Северо-Кавказской археологической экспедиции Р.М. Мунчаев с самого начала своей работы в Институте археологии АН СССР продолжил свои исследования древних культур Кавказа. Особого внимания заслуживают его разработки по проблемам кавказского энеолита и его соотношения с бронзовым веком (по старой периодизации). Им впервые был поставлен вопрос о сочетании в культурном слое Лугового поселения элементов куро-аракской и майкопской культур и об их взаимодействии. Одновременно экспедиция проводила широкие разведки в полупустынных районах Северо-Западного Прикаспия, где были открыты разновременные археологические памятники, в том числе эпохи ранней бронзы. Раскопки проводились и на памятниках эпохи ранней бронзы в Ачикулаке, документирующие связи между Кавказом и восточноевропейской степной полосой.
С середины 50-х гг. работа Северо-Кавказской археологической экспедиции под руководством Е. И. Крупнова была ориентирована на наименее изученную в археологическом плане Чечено-Ингушетию. Задачу по проведению широких разведок на территории этой республики возложили на отряд Р. М. Мунчаева. В итоге было открыто большое количество великолепных памятников самых разных эпох. Многие из них впоследствии стали объектами широкомасштабных раскопок и вошли в состав базовых памятников северокавказской археологии. Среди них особое место занимают Серженьюртовские I и II поселения и могильник. Р.М. Мунчаев в первый же сезон работы выявил под слоем кобанской культуры слой III тысячелетия до н.э., содержащий своеобразный керамический комплекс, представляющий материалы майкопской и куро-аракской культур. Памятники Серженьюрта, в изучении которого приняли участие Е.И. Крупнов, Р.М. Мунчаев, Н.Я. Мерперт и особенно В.И. Козенкова, позволили изучить и внести существенный вклад в освещение различных проблем археологии и древней истории Северного Кавказа.
Более десяти лет проводились работы на другом памятнике, расположенном в районе сел. Бамут. Здесь экспедиция под руководством Р.М. Мунчаева полностью исследовала два больших курганных могильника позднего средневековья и эпохи бронзы. Последний наряду с прочими материалами содержал замечательные комплексы майкопской культуры. Они вместе с материалами из нижних слоев Сер-женьюрта позволили Р.М. Мунчаеву обосновать ранее сформулированный им вывод о распространении майкопской культуры на территории Чечено-Ингушетии и ее взаимодействии с куро-аракской культурой. Это было начало принципиальным
изменениям в оценке майкопской культуры в истории Кавказа и сопредельных регионов Евразии.
Весомая заслуга ученого заключалась в большой аналитической работе, которую он проводил параллельно. Он оперативно вводил в научный оборот результаты полевых исследований и подводил итог проведенных работ. Регулярно публиковались статьи с исчерпывающей характеристикой и интерпретацией материалов основополагающих памятников - курганов у ст. Манас в Дагестане, Луговое поселение и др.
Результаты научных исследований Р.М. Мунчаева по проблемам энеолита и ранней бронзы нашли отражение в вышедшей в 1961 г. монографии «Древнейшая культура Северо-Восточного Кавказа» (МИА, № 100). В ее основу легли материалы бытовых и погребальных памятников Дагестана, Чечни и Ингушетии. В этой работе Р.М. Мунчаев разработал различные проблемы археологии и древней истории Северо-Восточного Кавказа, определил место памятников региона среди сопредельных памятников Кавказа, исследовал экономику, материальную и духовную культуру населения Северо-Восточного Кавказа эпохи ранней бронзы, обосновал вывод о культурном единстве памятников III тыс. до н.э. и высказал предположение об их едином этническом субстрате. В этом аспекте Р.М. Мунчаев продолжил исследовательские направления, заложенные такими крупнейшими исследователями отечественного кавказоведения, как Б.А. Куфтин и А.А. Иессен.
По итогам исследований северокавказских памятников в 1960 г. им были опубликованы работы «Бамутские курганы эпохи бронзы» (1964), «Комплексы майкопской культуры в Усть-Джегутинском могильнике» (1966), «Население Чечено-Ингушетии при первобытно-общинном строе» (1967), «О древнейшей металлургии Кавказа» (1968) и др. В это же время он выпустил ряд обзорных статей, посвященных другим культурам и областям региона, включая Южный Кавказ. Он поставил перед собой задачу по созданию фундаментального исследования, охватывающего территориально весь Кавказ и хронологически - неолит, энеолит и ранний бронзовый век. Иными словами, Рауф Магомедович взялся за реконструкцию истории обширной территории, охватывающей более трех тысячелетий. И блестяще выполнил ее. К 1971 г. он представил к защите в качестве докторской диссертации обширное исследование «Кавказ в эпоху энеолита и ранней бронзы». Эта работа вызвала значительный резонанс среди археологической общественности. Один из выдающихся советских археологов А.В. Арциховский писал: «Представленная известным советским археологом-кавказоведом Р.М. Мунчаевым докторская диссертация является первым в исторической литературе широким обобщающим исследованием, посвященным древнейшей истории Кавказа. Территориально охвачен весь Кавказ, что принципиально отличает работу от имевшихся до сих пор локальных исследований, ограничивавшихся отдельными районами этой важной области. Хронологический охват очень значителен: рассмотрен огромный период, длившийся три тысячелетия и ознаменованный значительными историческими сдвигами, сыгравшими огромную роль в судьбах населения, как самого Кавказа, так и обширных территорий Восточной Европы и Передней Азии. Первый из таких сдвигов - становление производящих форм экономики. Для территории нашей страны Кавказ явился одним из основных очагов этого процесса, что с предельной четкостью показано в рецензируемой работе». Второй сдвиг - появление и развитие металлургии и формирование мощного кавказского металлургического очага. Роль этого очага в экономике Восточной Европы и Передней Азии в
период раннего бронзового века невозможно переоценить. Однако во всех своих исторических проявлениях он впервые представлен лишь в настоящей работе».
В 1975 г. это исследование, пополненное новейшими материалами, было опубликовано под названием «Кавказ на заре бронзового века» и стало настольной книгой для всех кавказоведов, специалистов по истории Восточной Европы и Передней Азии. На большое значение этой работы и ее роль в разработке ключевых вопросов древнейшей истории этих регионов было указано целым рядом рецензентов. «Монография не только освещает древнейшую историю Кавказа, но и намечает основные этапы исторического процесса в специфических условиях района. Совместное рассмотрение в одном исследовании материалов Закавказья и Северного Кавказа позволило автору достаточно полно охарактеризовать историческую ситуацию, сложившуюся в У-Ш тысячелетиях до н.э.» (Массон В.М., 1977). «Насыщенная большим фактическим материалом, опирающаяся на открытия последних лет, книга эта наглядно демонстрирует успехи кавказского направления советской археологии, вводит памятники древнего Кавказа в систему культур Переднего Востока, создает почву для дальнейших плодотворных дискуссий» (Кушнарева К.Х., Джапаридзе О.М., 1978). Такие же оценки давали ученые в письмах автору при частной переписке. Известный армянский археолог А.А. Мартиросян, например, подчеркивал широту охвата материалов, фундированность интерпретаций и объективность представленных в книге оценок. Сходные оценки были высказаны специалистами и в других письмах и беседах.
В этой книге Рауф Магомедович привел убедительные материалы, свидетельствующие о развитии неолитической культуры в Закавказье и на Северном Кавказе, генетически связанной с местными мезолитической и верхнепалеолитической культурами. Это положение подтверждается каменной индустрией западнокавказских и дагестанских памятников, связанной с торденаузской техникой. Неолит Кавказа он относит к У-У тыс. до н.э., выделив два этапа его развития: ранний и поздний. На раннем этапе основой хозяйства продолжает оставаться охота и собирательство. В это время отсутствует керамика, но встречаются новые типы орудий, начинает развиваться микролитическая техника, появляются каменные шлифованные топоры. На позднем этапе осваивается значительно большая часть территории Кавказа; повсеместно встречаются оседлые поселения; дальнейшее развитие получает каменная индустрия; появляются двусторонне обработанные геометрические орудия в виде сегментов и трапеций, много ножевидных пластин, новые типы других кремневых орудий. Широкое распространение получают каменные топоры, долота, стамески, пиковидные орудия, терочники, шлифовальники и др. Появляются каменные мотыги, ступки, песты и зернотерки. Возникает керамическое производство.
Изучение керамики и другой категории инвентаря позволило Р.М. Мунчаеву определить локальные особенности в развитии отдельных областей Кавказа.
Для этого времени он отмечает переход к производящей форме хозяйства. Имеющиеся материалы подтверждают выводы ученого о развитии здесь земледелия и скотоводства. Повсеместное исчезновение микролитов обусловлено утратой значения охоты, появление ножевидных пластин - развитием земледельческого хозяйства. На поздненеолитических памятниках встречаются каменные мотыгообразные орудия, зернотерки, ступки, терочники, песты, вкладыши серпов в виде каменных пластин с ретушированными краями.
Развитие скотоводства автор документирует находками костей домашнего быка на памятниках Дагестана, козы, овцы, свиньи и собаки в Каменномостской пещере Северного Кавказа. Из всего этого следует вывод о том, что зачатки земледелия на Кавказе возникли в неолите, но при этом формирование производящей экономики здесь началось позже, чем в Передней и Малой Азии. При этом он допускает, что Кавказ мог быть локальным центром возникновения земледелия и скотоводства.
Кавказ представляет собой пестрый в почвенно-климатическом и ландшафтном плане регион, позволяющий развить разнообразные отрасли экономики и культуры. В соответствии с этим Рауф Магомедович отмечает, что процесс развития скотоводства в различных районах Кавказа протекал по-разному. В Прикуба-нье, например, основное место занимало свиноводство, в Дагестане и многих областях Закавказья - овцеводство, которое начало приобретать полукочевой или яйлажный характер.
Подробно охарактеризован в работе энеолит Кавказа, оседло-земледельческие памятники которого встречаются на территории Закавказья и Северо-Восточного Кавказа. Все они связаны преемственными узами с местными памятниками неолита и мезолита. В Закавказье энеолит представлен памятниками Шомутепе -Шулаверского типа в центральных районах и нахичеванского Кюль-тепе и Техут, рассматриваемыми Рауфом Магомедовичем как две локальные и хронологические группы, а не как отдельные археологические культуры. Особое место занимает Гинчинское поселение, характеризующее своеобразную культуру СевероВосточного Кавказа. Хронология Шомутепинских памятников определена в пределах V тыс. до н.э., нахичеванско-техутских - первой половины IV тыс. до н.э., Гинчинского поселения - первой половины IV тыс. до н.э.
Автору удалось убедительно показать значительный прогресс в культурноисторическом развитии Закавказья и Северо-Восточного Кавказа.
На отдельных поселениях Закавказья открыты медеплавильные печи, найдены кусочки металлургического шлака, сопла, лячки, формы для отливки и, наконец, сами предметы - проушные топоры, ножи-кинжалы, шилья, отдельные украшения. Среди металлических изделий встречаются предметы, изготовленные по переднеазиатским образцам - черенковые наконечники копий, топоры-клевцы.
Особое внимание в работе уделено куро-аракской и майкопской раннебронзовым культурам, относимым до начала 60-х гг. XX в. к энеолиту.
Куро-аракская культура, в основном изученная по бытовым памятникам, в настоящее время характеризуется и по погребальным комплексам. В работе дается обзор всех этих памятников. Отмечено, что поселения куро-аракской культуры располагались у рек, на холмах и горных террасах. Это были небольшие по площади поселения. В редких случаях они были укреплены. Определен ареал распространения ее памятников на обширной территории Закавказья, северо-западной части Ирана, восточной Анатолии, Дагестана, Чечни и некоторых районов Северной Осетии. Отдельные элементы этой культуры проникают в Сирию и Палестину. При этом автор обращает внимание на высокую концентрацию памятников этой культуры на территории куро-аракского двуречья и Армянского нагорья.
В работе дана характеристика жилой архитектуры, представленной домами нескольких типов. Среди жилищ приведены круглоплановые толосы, к которым иногда примыкали прямоугольные постройки - прихожие; террасно-расположенные каменные прямоугольные дома, сырцовые и глинобитные овальные и
квадратные, с овальными углами жилища; дома, сочетающие каменную и сырцовую кладки. Для интерьера жилищ характерны круглые глиняные очаги, расположенные в центре жилищ.
Проанализировал автор и своеобразную керамику куро-араксской культуры, представленную сосудами, приготовленными вручную, но так тщательно, что создается впечатление об использовании гончарного круга. Для нее характерны черная лощеная наружная поверхность и «розовая подкладка» изнутри. Много и красной лощеной керамики, а в отдельных регионах со светло-коричневой и бурой поверхностью (Дагестан). Наиболее типичны формы - крупные плоскодонные сосуды с округлым туловом и большие яйцевидные сосуды, сосуды с цилиндрической шейкой, кувшины, горшки, кружки, чаши, миски, кубки и др. Большинство сосудов снабжено ручками в виде полушарий.
Куро-аракской керамике присущи дисковидные крышки сосудов. Характерным орнаментальным мотивом являются рельефные и выпукло-вогнутые изображения в виде двойных спиралей, концентрических кругов, ромбов и других, в том числе птиц. На отдельных крышках имеются рельефные изображения оленя. Для определенной группы сосудов характерна резная орнаментация. Имеются керамические комплексы, вообще лишенные орнамента (Элар и др.). Среди керамических изделий встречаются очажные подставки различных форм, некоторые из них имеют антропоморфные и зооморфные черты.
Приведены сведения о погребальных комплексах, открытых в Закавказье и в Дагестане. У племен куро-аракской культуры практиковался обряд захоронения на площади поселения. В Шида-Картли, в районе Гори встречаются подкурганные захоронения, обычные грунтовые погребения (Урбниси) и погребения в сырцовых могилах (Гудабертка). В Грузии раскопаны погребения в каменных ящиках (Ами-ранис-гора). В Азербайджане открыты подкурганные захоронения. Погребения совершены скорченно на боку, с произвольной ориентировкой. В ряде подкурган-ных могил Азербайджана наряду с трупоположением встречено трупосожжение. Особый интерес представляют могильные сооружения в виде ям, дно которых выложено галькой. Эта особенность ставится в связь с влиянием майкопской культуры. Причем в Мильской степи обнаружен курган, который связан с майкопской культурой.
Особой удачей автора следует признать выделение локальных вариантов культуры. В заключение делается вывод о том, что племена раннебронзового века Закавказья и Северного Кавказа, развиваясь во взаимовлиянии и взаимодействии между собой и населением смежных территорий, создали самобытную яркую культуру. Хотя здесь развитие социально-экономических отношений не привело к созданию классов и государства, значительный прогресс в историко-культурном развитии налицо. Здесь на заре бронзового века известны многие важные достижения древности: применение гончарного круга, коневодство и т.д.
Анализ археологических культур позволил Рауфу Магомедовичу предположить, что в III тыс. до н.э. носители разных археологических культур Кавказа говорили на разных языках, т.е. не было единого языкового единства. Следовательно, распад общекавказского языка-основы произошел значительно раньше.
В заключении автор отмечает, что во второй половине III тыс. до н.э. жизнь на большинстве куро-аракских поселений прекращается. Население покидает места своего долговременного обитания и устремляется на запад и в горные и высокогорные районы. В отдельных горных районах Кавказа, где обитают представители
кавкасионского антропологического типа, наблюдается преемственность в развитии материальной культуры. Это дало Р.М. Мунчаеву основание предположить, что носители куро-аракской культуры являются далекими предками современного населения Кавказа.
Кавказская проблематика и в последующем продолжала занимать видное место в научном творчестве Р.М. Мунчаева. Об этом свидетельствуют новые работы - «Энеолит Кавказа» (1981), «Куро-аракская культура» и «Майкопская культура» (обе 1994), опубликованные в соответствующих томах двадцатитомной серии «Археология», а также книга «Kunst und Kultur in Nordkaukasus» (Leipzig, 1998, 176 с.) и «Северный Кавказ. Очерки древней и средневековой истории и культуры» (Тула: Гриф и К., 2003. 340 с.).
1969 год стал поворотным в творчестве Рауфа Магомедовича Мунчаева. В этом году в Институте археологии АН СССР по инициативе Е.И. Крупнова была создана Иракская археологическая экспедиция, руководство которой было поручено Р.М. Мунчаеву. Это было чрезвычайно ответственное и сложное поручение, которое можно было доверить только исключительно высокоорганизованному и эрудированному специалисту, способному представить советскую археологию в кругах международного научного сообщества. Месопотамия, центром которой является Ирак, представляет собой археологическую Мекку, где проводят исследования высококвалифицированные археологи из многих стран мира. С этим регионом связаны открытия многих поворотных моментов всемирной истории - переход от присваивающего хозяйства к производящей экономике, становление раннего земледелия и скотоводства, появление керамики, металлургии и металлообработки, резкое усложнение социальной структуры общества, возникновение городов, письменности, государственной власти, т.е. формирование древнейшей в мире цивилизации. Памятники Месопотамии специфичны, трудны для исследования и требуют особой методики раскопок. Между тем советские археологи не имели опыта изучения подобных памятников, до этого времени не принимали участия в раскопках месопотамских памятников и в их интерпретации. Начальнику создаваемой экспедиции предстояло решить все многогранные и сложные задачи, начиная от определения проблематики до выбора объектов раскопок, методических и организационных вопросов (Мерперт М.Я., 1999).
Первые раскопки Иракской археологической экспедиции Института археологии начались в Синджарской долине Ирака. Вся эта долина от г. Телль-Афара до сирийской границы покрыта густой сетью теллей со слоями от первых раннеземледельческих культур, связанных с началом заселения долины на рубеже VIII-VII тыс. до н.э. и до средневековья. Работа экспедиции была нацелена на решение двух основных задач, имеющих большое значение для древнейшей истории человечества: происхождения и развития производящего хозяйства и сложения древнейшей цивилизации в Месопотамии. Началась напряженная и многогранная работа, продолжающаяся до настоящего времени. В разные годы в составе экспедиции работали Н.Я. Мерперт, Н.О. Бадер, В.А. Башилов, О.Г. Большаков, В.И. Гуляев, И.Г. Нариманов, Ш. Амиров, Р.Г. Магомедов и др. За эти годы экспедиция постепенно накапливала опыт работы с памятниками Месопотамии, совершенствовала методику раскопок. Р.М. Мунчаев корректировал основные направления исследования, непосредственно принимал участие в их осуществлении и интерпретации итогов раскопок, нес на своих плечах груз организационного, административного и «дипломатического» обеспечения экспедиции. В результате открыты
и раскопаны памятники, охватывающие не менее четырех тысячелетий: в СевероЗападном Ираке - уникальные поселения докерамического неолита Телль-Магзалия конца УШ-УП тыс. до н.э. Также открыта древнейшая культура керамического неолита в восточной части Месопотамии, получившая название по исследованному экспедицией памятнику - Телль-Сотто, датированная второй половиной VII тыс. до н.э.
Этим самым до некоторой степени заполнена лакуна между докерамическим неолитом и неолитической хасунской культурой, выяснены корни последней. Исследовано оказавшееся наиболее значительным по мощности культурного слоя, по информативности и масштабам раскопок поселение первой половины VI тыс. до н.э. Ярым-тепе I, шестиметровой толщины культурный слой которого отражает развитие хасунской культуры от ее начала до конца. То же самое можно сказать об исследовании экспедицией поселения Ярым-тепе II. Вплоть до настоящего времени это наиболее полно исследованный памятник поздненеолитической халарской культуры (конец VI - третья четверть У тыс. до н.э.), известной благодаря своей расписной керамике исключительной красоты.
Семиметровый слой памятника отражает все ступени халафской культуры до ее аккультурации убедийской культурой, связанной своим происхождением с Южной Месопотамией. Слой поселения Ярым-Тепе III принадлежал поселению убедийского времени.
Раскопки такого масштаба, позволившие проследить развитие древнейших культур Месопотамии, беспрецедентны. Раскопки экспедиции посетили британская (рук. Д. Отс, Д. Киркбрайт, Н. Постгейтс), германская (рук. Р. Бемер), японская (рук. Х. Фудзи) и др. экспедиции. В 1974 г. в Кембриджском университете в Великобритании был организован англо-российский семинар по проблемам древнейшей Месопотамии. С 1979 по 1989 гг. работал Российско-американский симпозиум, направленный на изучение разнообразных проблем всего Древнего Востока. Одним из основных организаторов и руководителей этих форумов был Рауф Магомедович. Посетивший экспедицию английский исследователь Сетон Ллойд в книге «Археология Месопотамии» писал, что при раскопках Ярым-тепе особое внимание уделялось археологической методике, а результаты фиксировались с необычайной точностью. Эти работы не только уточнили, но и дополнили информацию, полученную нами при раскопках Хассуны. Было обследовано много небольших конструкций (свыше 100 помещений) из тринадцати строительных горизонтов, которыми охватывалась вся последовательность развития, первоначально выявленная нами в Хассуне; были также отмечены новые, ранее неизвестные черты, существенно пополнившие наши знания. Сюда относятся свинцовые браслеты, новый и весьма интересный тип антропоморфных статуэток, а также праобразы печатей, использовавшихся в более поздние периоды» (Ллойд Сетон., 1984. С. 78). Другой ветеран месопотамской археологии проф. Макс Маллован в своих мемуарах сообщает о своей беседе с Р.М. Мунчаевым в Лондоне в 1982 г., посвященной, прежде всего, раскопкам Иракской экспедиции Института археологии. Все это свидетельствует о большом интересе, которое проявило мировое археологическое сообщество к работе российских коллег в Месопотамии.
Популярности работы Иракской археологической экспедиции способствовали более 60 работ Р.М. Мунчаева и его коллег, изданные не только в России, но и в Англии, Германии, Ираке и т.д. В их числе были и такие фундаментальные труды, как «Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии» (1981 г.) и «Еаг1у
stages in the evolution of Mesopotamian civilization. Soviet Exavation in Northen Iraq» (1993 г.), обобщившие итоги 14-летней работы в Ираке. Автор этих работ Рауф Магомедович Мунчаев и его соавторы были отмечены Государственной премией РФ 1999 г. Получили они высокую оценку и за рубежом. Видный английский археолог-востоковед Джоан Отс отмечала: «Британская археология играла лидирующую роль в исследовании севера (Месопотамии. - О.Д.), но она перешла к советской экспедиции, исследования которой существенно изменили представления
0 неолите Месопотамии» (Oates J. 1994. P. 882).
В 1988 г. Р.М. Мунчаев перенес работу экспедиции на территорию СевероВосточной Сирии, которая считалась областью Передней Азии, запаздывавшей в своем развитии в сравнении с территориями, более близкими к руслу Тигра. Раскопками в течение десяти полевых сезонов используются два памятника - Телль-Хазна I и Телль-Хазна II, расположенные в Хабурской степи, на территории, являющейся прямым продолжением Синджарской долины. Раскопки на Телль-Хазне
1 продолжаются и поныне. Культурные слои Телль-Хазны I достигают 16 м, из которых нижние 4 м связаны с убейдской и урукской культурами, а верхние 12метровые отложения относятся к раннединастической эпохе.
Раскопками Рауфа Магомедовича установлено, что это был крупный культовый и административный центр конца IV - первой половины III тыс. до н.э., где совершались религиозные ритуалы, связанные с земледельческим культом, и хранились, распределялись большие запасы зерна. Здесь на площади 3 тыс. кв. м экспедицией раскопано более 400 различных построек, остатки храмового комплекса, оборонительных сооружений (Мунчаев Р.М., Мерперт Н.Я., Амиров Ш.Н., 2004).
Исследованный на Телль-Ханзе I храмовый комплекс конца IV - первой половины III тыс. до н.э., очевидно, являлся культово-административным центром целой округи. Его великолепно сохранившиеся сооружения располагались на последовательно возвышавшихся ступенчатых террасах. Ранее столь сложные храмовые комплексы такой глубокой древности были известны лишь в Южной и Средней Месопотамии. Раскопки Телль-Хазны позволили получить представление о Сирии как о передовом центре древневосточной цивилизации.
Второе многослойное поселение - Телль-Хазна II имеет нижний трехметровый слой, который принадлежит раннему этапу хассунской культуры, а также слои халафского, урукского и раннединастического времени.
В последующие годы Рауф Магомедович вновь занялся кавказской проблематикой.
Публикация материалов поселения Лейлатепе (Нариманов И.Г., Ахундов Т.И., Алиев Н.Г., 2007. С. 9-126) в Азербайджане позволила ему решить ряд интересных положений о связи Кавказа и Месопотамии (Мунчаев Р.М., Амиров Ш.Н., 2007. С. 8-9). Дело в том, что в свое время И.Г. Нариманов определил Лейлатепе как памятник месопотамской культуры, оставленный переместившимися на Южный Кавказ убейдскими племенами. Рауф Магомедович писал: «По мере исследования Лейлатепе и знакомства с его материалами я все более убеждался в принадлежности этого
„ (Мунчаев Р.М., Амиров Ш.Н. 2007. С. 8-
памятника не к убейдской, а к урукской культуре ,
9)
. С выявлением на территории Азербайджана, особенно на той же Карабахской равнине, новых однотипных памятников, связанных с Лейлатепе, он сделатл вывод о том, что Лейлатепе - это памятник, возникший и функционировавший под значительным месопотамским влиянием. По мнению Рауфа Магомедовича, урукские племена в поисках металла проникали в смежные с Месопотамией области, в первую очередь Анатолию и на Кавказ, а отдельные группы племен урукской культуры на
рубеже ІУ-Ш тыс. до н.э. или в самом начале III тыс. до н.э. через Мильско-Муганскую и Карабахскую степи и приморский Дагестан проникли в Предкавказье и положили начало формированию здесь майкопской культуры. В пользу этого свидетельствуют материалы раскопок Лейлатепе и выявленные в Великенте (прикаспийский Дагестан) находки керамики, близкие урукской керамике.
Вызывает восхищение организаторская, административная и общественная работа Рауфа Магомедовича. Крупнейший ученый и выдающийся российский археолог Н.Я. Мерперт писал: «Нет необходимости говорить о том, насколько успешно справлялся Р.М. Мунчаев со своими ответственными обязанностями, отстаивая интересы коллектива института, способствуя не только нормальному его функционированию в отнюдь не нормальных условиях, но и развитию, неуклонному повышению результативности его работы, укреплению международного престижа российской археологии в целом» (Мерперт Н.Я., 1999. С.14).
Заслуги Р.М. Мунчаева отмечены государственными наградами - орденом Дружбы (1998 г.) и медалями.
Ныне Рауфу Магомедовичу 80 лет. Но он душою молод и энергичен, полон творческих идей и замыслов. Все достоинства, отмеченные выше, не только не иссякают, но и непрестанно возрастают. Пусть же будет так еще многие десятилетия!
Мы желаем нашему юбиляру крепкого здоровья, новых научных открытий и достижений, претворения в жизнь задуманное во славу российской археологии.
БИБЛИОГРАФИЯ
Археология Месопотамии. 1984. М.: Наука.
Давудов О.М., 1999. Мунчаев Рауф Магомедович // Кавказ и Древний Восток. Махачкала. С. 4-14.
Кореневский С.Н., 2004. Мунчаев Рауф Магомедович - страницы научной биографии // АВЛ. Вып. 18.
К 70-летию Рауфа Магомедовича Мунчаева. // ВДИ. № 3. 1998
К 75-летию Рауфа Магомедовича Мунчаева. // РА. № 4. 2003
Кушнарева К.Х., Джапаридзе О.М., 1975. Мунчаев Р.М. Кавказ на заре бронзового века. М.: Наука // СА.№1.
Ллойд Сетон, 1984. Археология Месопотамии. М.
Массон В.М., 1977. Р.М. Мунчаев. Кавказ на заре бронзового века // ВИ. № 8.
Мерперт Н.Я., 1998. К семидесятилетию Рауфа Магомедовича Мунчаева // РА. № 3.
Мунчаев Р.М., Амиров Ш.Н., Цетлин Ю.Б., Рукавишников Д.В., Лунькова Д.Ф., Мадуров Д.Ф., Элиас С., 2007. Телль-Хазна 1: Итоги исследований Сирийской экспедиции // АО-2005. М.: Наука.
Мунчаев Р.М., Мерперт Н.Я., Амиров Ш.Н., Цетлин Ю.Б., Рукавишников Д.В., Мадуров Д.Ф., 2004. Телль-Хазна 1: Результаты новейших исследований // АО-2003. М.: Наука; Мунчаев Р.М., Мерперт Н.Я., Амиров Ш.Н., 2004. Телль-Хазна I. Культово-административный центр Северной Месопотамии. М.: Палеограф. 2004.
Мунчаев Р.М., 2007. Урукская культура (Месопотамия) и Кавказ // Археология, этнография и фольклористика Кавказа. Новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе. Материалы Международной научной конференции. Махачкала.
Нариманов И.Г., Ахундов Т.И., Алиев Н.Г., 2007. Лейлатепе. Поселение, традиции, этап в этнокультурной истории. Баку.
Смирнов К.А., 2000. Рауф Магомедович Мунчаев // АЭАЕ.
Oates J. An ехtгаогdinarity ungrateful conceit: a western publication of important Soviet fildstudies // Аntiquity. V. 6. P. 261. 1994.
А.И. Османов,
О.М. Давудов,
М. С. Гаджиев,
Р. Г. Магомедов





 CC BY
CC BY 30
30