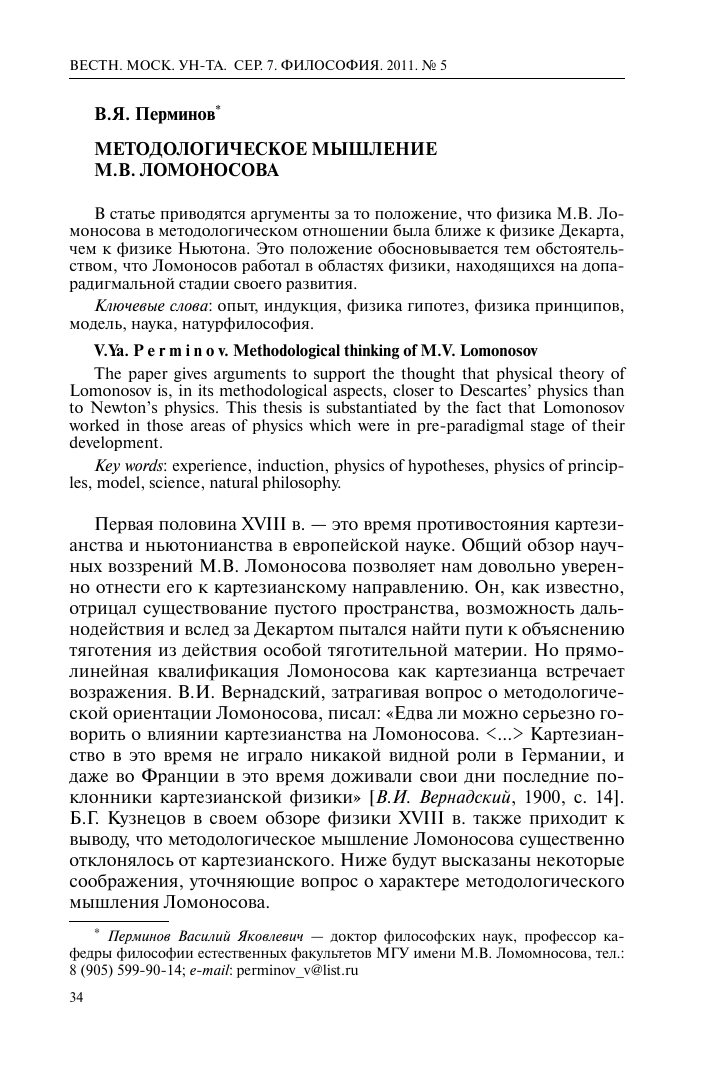ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 7. ФИЛОСОФИЯ. 2011. № 5
В.Я. Перминов*
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
М.В. ЛОМОНОСОВА
В статье приводятся аргументы за то положение, что физика М.В. Ломоносова в методологическом отношении была ближе к физике Декарта, чем к физике Ньютона. Это положение обосновывается тем обстоятельством, что Ломоносов работал в областях физики, находящихся на допа-радигмальной стадии своего развития.
Ключевые слова: опыт, индукция, физика гипотез, физика принципов, модель, наука, натурфилософия.
V.Ya. P e r m i n o v. Methodological thinking of M.V. Lomonosov
The paper gives arguments to support the thought that physical theory of Lomonosov is, in its methodological aspects, closer to Descartes' physics than to Newton's physics. This thesis is substantiated by the fact that Lomonosov worked in those areas of physics which were in pre-paradigmal stage of their development.
Key words: experience, induction, physics of hypotheses, physics of principles, model, science, natural philosophy.
Первая половина XVIII в. — это время противостояния картезианства и ньютонианства в европейской науке. Общий обзор научных воззрений М.В. Ломоносова позволяет нам довольно уверенно отнести его к картезианскому направлению. Он, как известно, отрицал существование пустого пространства, возможность дальнодействия и вслед за Декартом пытался найти пути к объяснению тяготения из действия особой тяготительной материи. Но прямолинейная квалификация Ломоносова как картезианца встречает возражения. В.И. Вернадский, затрагивая вопрос о методологической ориентации Ломоносова, писал: «Едва ли можно серьезно говорить о влиянии картезианства на Ломоносова. <...> Картезианство в это время не играло никакой видной роли в Германии, и даже во Франции в это время доживали свои дни последние поклонники картезианской физики» [В.И. Вернадский, 1900, с. 14]. Б.Г. Кузнецов в своем обзоре физики XVIII в. также приходит к выводу, что методологическое мышление Ломоносова существенно отклонялось от картезианского. Ниже будут высказаны некоторые соображения, уточняющие вопрос о характере методологического мышления Ломоносова.
* Перминов Василий Яковлевич — доктор философских наук, профессор кафедры философии естественных факультетов МГУ имени М.В. Ломомносова, тел.: 8 (905) 599-90-14; e-mail: perminov_v@list.ru
1. Физика гипотез и физика принципов
Физика как наука о движении, намеченная Аристотелем, была возрождена в Новое время в философии Декарта, который заменил аристотелевские законы движения новыми, более близкими к современным. Мы видим у него формулировку принципа инерции, закона действия и противодействия и закона сохранения количества движения. Падение тел, которое Аристотель объяснял стремлением тел к центру мира, Декарт объяснил из допущения вихрей материи, образующихся вокруг больших тел. Эти вихри, по Декарту, поднимая легкие тела над землей, прижимают к ней тяжелые тела. Движение планет он также объяснил движением вихрей, которые увлекают за собой планеты, так же как вода в реке увлекает за собой стоящие на ней суда.
Декартовская физика механистична в том смысле, что она ставит своей задачей объяснить все явления природы, наблюдаемые на земле и в космосе, из перемещения и взаимодействия по законам механики мельчайших частиц (корпускул), составляющих материю. Мы можем сказать, что физика Декарта — это физика гипотез, объясняющая явления на основе предположений о частицах материи, которые перемещаются и воздействуют друг на друга.
Через четыре десятилетия на смену физики Декарта пришла физика Ньютона. Заслуга Ньютона как ученого состоит в том, что он указал полную систему принципов, достаточных для описания непосредственно наблюдаемых механических движений, а также для объяснения видимого движения небесных тел. «Математические начала натуральной философии» Ньютона задали теоретическую основу физического знания на последующие два столетия. Наряду с основами механики Ньютон заложил также и основы оптики как науки. «Физическая оптика до Ньютона, — писал С.И. Вавилов, — оставалась хаотическим нагромождением разрозненных наблюдений, без всякой мало-мальски правдоподобной системы, не говоря уже о теории. Из рук Ньютона учение о свете вышло с громадным новым количественным и качественным содержанием» [С.И. Вавилов, 1945, с. 101].
Ньютон переосмыслил саму методологическую основу физики. В своем знаменитом методе принципов он указал новые требования к обоснованию физической теории. Вся предшествующая физика, начиная с Аристотеля, в своих объяснениях исходила из гипотез, а именно из некоторых представлений о внутренних, не наблюдаемых механизмах явлений. Основная методологическая идея Ньютона состояла в том, чтобы избавить физику от такого рода умозрительных предположений. Если, говорит Ньютон, мы принимаем гипотезы только потому, что они возможны, то мы те-
ряем различие между истиной и ложью. Его замысел состоял в том, чтобы заменить гипотезы принципами, проистекающими из фактов и черпающими свою достоверность исключительно в фактах. Мы не знаем, в чем причина тяготения, но мы фиксируем факт тяготения, устанавливаем на опыте сферу его действия и зависимость силы тяготения от массы тел. Мы, таким образом, принимаем закон тяготения как индуктивный, чисто феноменологический принцип, описывающий наблюдаемые факты, без привнесения каких-либо гипотез о механизме тяготения. Ньютон пишет в «Математических началах натуральной философии»: «Причину же этих свойств силы тяготения я до сих пор не мог вывести из явлений, гипотез же я не измышляю. Все же, что не выводится из явлений, должно называться гипотезой, гипотезам же метафизическим, механическим, скрытым свойствам не место в экспериментальной философии. <...> Довольно того, что тяготение на самом деле существует и действует согласно изложенным нам законам, и вполне достаточно для объяснения движения всех небесных тел и моря» [И. Ньютон, 1936, с. 661].
Ньютон хорошо осознавал тот факт, что анализ явлений не доказывает общих положений и что принципы также в некотором смысле гипотетичны. Но эта гипотетичность, по его мнению, есть наименьшее зло, ибо она свободна от произвольных гипотез и от допущения скрытых свойств вещей.
Рожер Котс в предисловии ко второму изданию «Математических начал натуральной философии» противопоставляет метод Ньютона подходам Аристотеля и Декарта. Перипатетики, говорит он, исходили из скрытых свойств вещей и целиком пребывали в мире фантазий. Декарт и его сторонники поняли, что явления должны быть объяснены из простых начал, они пришли к пониманию мира как совокупности движущихся и взаимодействующих частиц, но они приписывали этим частицам произвольные и вымышленные свойства. Истинным путем идет только третья категория физиков — это последователи экспериментальной философии. «Они также стремятся вывести причины всего существующего из простых начал, но они ничего не принимают за начало, как только то, что подтверждается происходящими явлениями» [там же, с. 5].
Важность метода принципов для самого Ньютона очевидна. Декарт затратил огромные усилия на прояснение природы тяготения, так и не достигнув здесь успеха. Ньютон отбросил все гипотезы на этот счет и достиг впечатляющего продвижения в объяснении физических явлений. Ньютоновский принцип «Гипотез не измышляю» ставит связь, подтвержденную опытом, выше ее причины, закон — выше связанных с ним представлений, открывая путь к систематизации опыта на основе феноменологических принципов.
Ньютон не накладывал категорического запрета на использование гипотез в рамках физического мышления. Сам он неоднократно прибегал к гипотезам: к гипотезе о корпускулах для объяснения света, к гипотезе о колебаниях эфира для объяснения интерференции и т.п. Он допускал использование гипотез для того, чтобы сделать явления наглядными, но он был убежден в том, что явление остается не объясненным до тех пор, пока оно не выведено из принципов, основанных на фактах. Ньютон не устранял гипотезы из физики, но лишал их обосновательного статуса.
Континентальные физики не приняли методологического подхода Ньютона. Основная причина лежала в понимании задач физики и ее допустимых методов. Фонтенель, Гюйгенс, Мальбранш, Буйе, Бильфингер и И. Бернулли обвиняли Ньютона в том, что он, давая математическое описание явлений, не раскрывает их причин и теряет из виду саму цель физики, которая состоит в том, чтобы объяснять явления природы из ясных представлений о движении и взаимодействии ее простых элементов. Сами они пытались соединить теорию вихрей с новой математикой и на этой основе подойти к обоснованию законов Кеплера и других фактов в видимом движении небесных тел.
В противостоянии ньютонианства и картезианства можно видеть три уровня: физический, методологический и метафизический. К середине XVIII в. ньютоновская физика, основанная на понятии тяготения и дальнодействия, вытеснила картезианскую теорию вихрей, основанную на идее близкодействия. Но в методологическом плане существенного сдвига не произошло. Признавая авторитет Ньютона, физики тем не менее должны были следовать за Декартом, прибегая к использованию умозрительных гипотез. То же самое мы видим и на уровне метафизики. Декартовская установка на то, чтобы все качества вещей объяснить из движения и взаимодействия мельчайших частиц материи, остается руководящей на протяжении всего XVIII в. П. Мопертюи, принявший методологию Ньютона, тем не менее, писал: «Нет ничего прекраснее идеи Декарта, что все в физике должно быть объяснено материей и движением» [цит. по: А.Д. Люблинская, 1943, с. 381].
2. Истоки методологических воззрений Ломоносова
Из предшествующих физиков для Ломоносова, несомненно, ближе всего Декарт, которого он считает подлинным основателем новой науки. В предисловии к «Экспериментальной физике» Вольфа он пишет: «Славный и первый из новых философов Кар-тезий осмелился Аристотелеву философию опровергнуть и учить по собственному мнению и вымыслу» [М.В. Ломоносов, 1986, с. 273].
Главный момент методологии Ломоносова, сближающий его с Декартом, состоит в его стремлении к механистически причинному обоснованию всех явлений, к пониманию научного объяснения явления как базирующегося на раскрытии его исходных (механических) причин. Ломоносов, однако, расходится с Декартом в понимании материи и корпускулы. Если Декарт характеризует материю только через протяженность, то Ломоносов считает, что материя должна быть определена как протяженность, обладающая непроницаемостью и инертностью. Если для Декарта материя делима до бесконечности, то Ломоносов считает, что физика без ущерба для себя может обойтись без этой гипотезы. В основе физики, считает он, должно лежать представление о неразрушимой частице, имеющей протяженность. «Частицы. должны быть крайне прочными и не подверженными каким-либо изменениям, поэтому их по справедливости следует называть атомами» [там же, с. 53, 93].
Особое отношение у Ломоносова к идеям Ньютона, которого он упоминает не иначе как с эпитетами «знаменитый», «великий» и «величайший». В своих первых физических сочинениях он всецело находится под влиянием ньютоновского идеала науки, основанной на принципах. Он настаивает на том положении, что научное объяснение природы не может прибегать ни к каким положениям, не проистекающим из опыта. В «Заметках по физике и корпускулярной философии» (1743) он пишет слова, почти буквально повторяющие знаменитое ньютоновское изречение «Гипотез не измышляю»: «Я не признаю никакого измышления и никакой гипотезы, какой бы вероятной она ни казалась, без точных доказательств, подчиняясь правилам, руководящим рассуждениями. <...> Один опыт я ставлю выше тысячи мнений, порожденных только воображением [там же, с. 32, 33]. В этой работе и в «Опыте о теории нечувствительных частиц» он переписывает знаменитые «правила философствования» из третьей книги «Начал» Ньютона. Здесь мы видим Ломоносова как горячего сторонника Ньютона, воодушевленного перспективами строго эмпирического и математического естествознания.
Однако главное влияние на формирование методологических установок Ломоносова оказал его учитель Христиан Вольф. В качестве основы для философии будущего Вольф рассматривал философские идеи Лейбница и свою основную теоретическую задачу видел в усовершенствовании лейбницевского принципа предустановленной гармонии, впервые указывающего, по его мнению, путь к объяснению связи материального и духовного. Он, однако, не принял лейбницевского учения о монаде как чисто духовной сущности. В своей метафизике он исходит из понятия простых вещей, которые являются физическими точками или центрами
физических сил. Очевидно, что Вольф стремился преобразовать монадологию Лейбница в сторону ее большего соответствия с формирующейся физической картиной мира. Вольф также существенно изменил лейбницевское понятие априорных истин. Если у Лейбница априорные истины относились к логике, к математике и к абстрактной метафизике, то Вольф переносит их в систему позитивного знания: он истолковывает их как схватываемые разумом причины и основания вещей, позволяющие объяснить связи, выявляемые опытом. Научное знание является, по Вольфу, сферой взаимооправдания априорных (философских) и апостериорных (эмпирических) истин. По существу, под философскими истинами Вольф понимает теоретические предпосылки, выдвигаемые учеными на основе фактов, но он понимает эти предпосылки не как гипотезы, проверяемые опытом, а как основоположения, устанавливаемые разумом и имеющие статус априорных и окончательных истин. Вольф подходит здесь к идее априорных принципов естествознания, которая впоследствии нашла место в «Критике чистого разума» Канта.
В понимании физических явлений Вольф — сторонник механицизма, согласно которому все качества вещей имеют основания в законах механического движения, какими бы сложными они нам ни представлялись. Механицизм Вольфа существенно отличается от декартовского. Декарт, исходя из механистических представлений, не настаивал на их истинности: он требовал объяснения мира из механистических причин, но допускал, что мир на самом деле возникает на основе совсем иных причин. В еще большей степени эта относительность проявляется у английских физиков: Бойль, Гук и Ньютон считали корпускулярные представления гипотезами, приемлемыми для понимания лишь самых простых явлений. В философии Вольфа декартовский механицизм превращается в абсолютный метафизический механицизм, в бытийное основание мира и в необходимую методологию его познания.
Ранние сочинения Ломоносова написаны под решающим влиянием методологических установок Вольфа. В духе радикального вольфианского механицизма Ломоносов пишет: «Насекомые, в которых мы не видим ничего механического, на деле имеют механические части, откуда мы по справедливости можем заключить, что корпускулы подчинены механическим законам. И это совершенно верно: ведь все, что имеет протяжение и движется, подчинено механическим законам, а корпускулы протяженны и движутся» [там же, с. 35]. Все процессы, включая процессы зрения, обоняния и вкуса, основаны, по Ломоносову, на механическом взаимодействии тысяч корпускул. Химические превращения происходят посредством механических движений и истинным клю-
чом к «философии химии» является механика. Как и Вольф, Ломоносов убежден, что математика и механика представляют собой истинный фундамент всей естественной науки. В «Элементах математической химии» (1741) он пишет.: «Какой свет способна возжечь в спагирической (химической. — В.П.) науке математика, может предвидеть тот, кто посвящен в ее таинства и знает такие главы естественных наук, удачно обработанные математически, как гидравлика, аэрометрия, оптика и др.; все, что до того было в этих науках темно, сомнительно и недостоверно, математика сделала ясным, достоверным и очевидным. <...> Если бы те, которые все свои дни затемняют дымом и сажей и в мозгу которых господствует хаос от массы непродуманных опытов, не гнушались поучиться священным законам геометров, которые некогда были строго установлены Евклидом и в наше время усовершенствованы знаменитым Вольфом, то, несомненно, могли бы глубже проникнуть в таинства природы, истолкователями которой они себя объявляют» [там же, с. 27—28]. Очевидно, что Ломоносов рассматривает здесь химию как только усложненную механику, и это дает ему основание считать, что математические методы, так блестяще проявившие себя в механике, могут быть перенесены и в теоретическую химию.
Мы видим у Ломоносова также и безусловно идущую от Вольфа идею о необходимой связи эмпирических и философских положений. «Химик-теоретик есть тот, кто обладает философским познанием изменений, происходящих в смешанном теле. <...> Истинный химик, следовательно, должен быть также и философом» [там же, с. 26]. В «Рассуждениях о причине теплоты и холода» Ломоносов говорит о необходимой связи априорных и апостериорных положений в физической теории.
Отклонение Ломоносова от Вольфа относится к общей философии. Первое и наиболее существенное отклонение заключается в полном отказе его от телеологических причин и от идеи божественного вмешательства в мир явлений. Мы видим, что всюду и везде он нацелен только на объяснение из движущих причин и нигде не допускает даже возможности феноменов, которые требовали бы внепричинного и нематериального объяснения. Другое расхождение с Вольфом касается понятия монады и монадологии в целом. Вслед за Гассенди Ломоносов с самого начала говорит о физической монадологии как своей принципиальной установке. В письме к Эйлеру (1754) он писал по поводу монадологии: «Хотя я твердо убежден, что это мистическое учение должно быть до основания уничтожено моими доказательствами, но я боюсь опечалить старость мужу, благодеяния которого по отношению ко мне я не могу забыть, иначе я бы не побоялся раздразнить по всей Германии шершней-монадистов» [М.В. Ломоносов, 1948, с. 168—169]. Под «му-
жем» он имеет в виду Вольфа, и мы можем заключить из этого высказывания, что Ломоносову была совершенно чужда монадология как в варианте Лейбница, так и в половинчатом варианте Вольфа. В этом решительном отрицании мистики и идеализма Ломоносов с самого начала проявляет себя как ученый, сориентированный исключительно на материальное и универсально причинное объяснение явлений окружающего мира.
3. Общий взгляд на методологические установки Ломоносова
Анализ философии Декарта, Ньютона и Вольфа позволяет нам увидеть истоки методологии Ломоносова. Эти истоки неоднородны и в ряде моментов противоречивы. Декартовский и ньютоновский подходы не могут быть приняты как одинаково истинные. Априоризм Вольфа чужд строго эмпирической установке Ньютона. Опираясь на эти основания, Ломоносов вырабатывает новую методологию, которая в определенном смысле соединяет эти несовместимые друг с другом воззрения.
Это мы видим прежде всего во взглядах Ломоносова на физическую картину мира. Петербургская академия наук в начале 40-х гг. XVIII в. в своем естественно-научном отделе состояла преимущественно из сторонников картезианской физики. Петербургские академики Г. Бильфигер и Д. Бернулии были удостоены премии Парижской академии наук за математическую разработку декартовской теории вихрей. У Ломоносова мы, однако, нигде не находим аргументов в защиту физики Декарта. Но именно в это же время он пишет о Ньютоне как о знаменитом ученом, установившем законы притяжения. Кеплер и Ньютон, считает Ломоносов, довели картину мира до такой точности, которую в прежние времена достигнуть было невозможно [см.: М.В.Ломоносов, 1986, с. 334]. Мы можем сказать, что во взгляде на физическую картину мира Ломоносов с самого начала проявляет себя сторонником Ньютона. Если иметь в виду только вопрос о физической картине мира, то В.И. Вернадский безусловно прав в том, что картезианство существенно не затронуло Ломоносова.
Но это лишь одна сторона дела. Ломоносов не мог быть в полной мере ньютонианцем уже потому, что он не разделял взглядов последователей Ньютона на тяготение как на действие сил на расстоянии. Ему, как и Декарту, дальнодействие представлялось некоторой мистической силой, противоречащей всякому здравому соображению. Он указывал на то, что сам Ньютон никогда не принимал идеи чистого тяготения и что только последователи Ньютона превратили тяготение в некоторое свойство вещей, не имеющее причин [там же, с. 43, 260]. Мы не будем, — пишет Ло-
моносов, — вступать в спор с теми, кто причисляет тяготение тел к их существенным атрибутам и поэтому не находит нужным исследовать его причину». Тем не менее он указывает на истоки этого заблуждения. Атрибутивные или общие свойства материальных тел, считает Ломоносов, в действительности существуют — это такие свойства, как протяженность, форма, движение, непроницаемость и инертность. Но такие свойства, как теплота, сцепление частей, цветность, тяжесть, — это свойства частные, наличие или свойства, отсутствие которых не изменяет сущности вещей. Методологическая установка Ломоносова состоит в том, что достаточное основание всех частных качеств заключается в изменениях общих качеств. «Поскольку должно существовать достаточное основание, в силу которого ощутимым телам свойственно скорее устремляться к центру земли, чем не устремляться, то приходится исследовать причину тяготения» [М.В.Ломоносов, 1952, с. 361].
Другое понимание тяготения, характерное для первой половины XVIII в., состояло в том, что тяготение — это общее свойство вещей, проистекающее из Божественной воли. Эта идея была выдвинута Р. Котсом в упомянутом выше предисловии к «Началам» Ньютона. Котс писал, что в законах природы, установленных Ньютоном, «проявляется много величайшей мудрости, но нет и следа необходимости». В поддержку такого понимания неоднократно высказывался П. Мопертюи. Сам Ньютон также был, скорее всего, сторонником такого понимания. В «Математических началах натуральной философии» мы читаем: «Изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не могло произойти иначе, как по намерению и по власти могущественного и премудрого существа» [И. Ньютон, 1936, с. 659]. Ломоносов решительно отклоняет такого рода теологическую трактовку. Для него неприемлема позиция, в соответствии с которой «магнит притягивает железо, потому что так хочет Бог» [М.В. Ломоносов, 1950, т. 1, с. 191]. За тяготением, считает Ломоносов, стоит не воля Бога, а взаимодействие материальных субстанций. «Приписывать это физическое свойство, — пишет он, — Божественной воле или какой-либо чудодейственной силе мы не можем, не кощунствуя против Бога и природы; необходимо признать, что существует некая материя, своим движением толкающая тяготеющие тела к центру земли» [там же, т. 2, с. 197].
Ломоносов не отрицает Бога как творца мироздания. Он убежден в том, что постулат о вечном движении корпускул уже требует допущения Бога как вечного двигателя. Но он считает, что это единственное допущение, необходимое для объяснения природы, — все остальное должно быть объяснено исключительно из движения корпускул по законам механики. Позиция Ломоносова, таким образом, двойственна: он принимает ньютоновскую картину мира
как наиболее совершенную, но требует картезианского прояснения ее физического содержания, которое может быть достигнуто только через понимание физической сущности тяготения.
Аналогичное соединение позиций мы видим и во взглядах Ломоносова на процесс обоснования научного знания. Ведущей для Ломоносова является здесь картезианская позиция, согласно которой движение к истине достигается только на основе гипотез. Нельзя, говорит он, понять, как часы отсчитывают время, если не делать предположений об их устройстве. «Осторожные физики», отказывающиеся от гипотез о строении вещей, по его мнению, не заслуживают поддержки [см.: М.В. Ломоносов, 1986, с. 262]. Уже первые работы Ломоносова вызвали критику в том отношении, что автор исходит из предположений, не доказанных опытом, т.е. из гипотез. В ответ на эту критику Ломоносов формулирует свое положение о значении гипотез в познании мира. «Журналист не должен спешить с осуждением гипотез. Они дозволены в философских предметах и даже представляют собой единственный путь, которым величайшие люди дошли до открытий самых сложных истин. Это — нечто вроде прорыва, который делает их способными достигнуть знаний, до каких никогда не доходят умы низменных и пресмыкающихся в прахе» [там же, с. 226]. Из контекста этих высказываний видно, что Ломоносов защищает гипотезы о внутренней структуре вещей, т.е. именно те гипотезы, против которых боролся Ньютон.
Но Ломоносов не оставляет без внимания и аргументы Ньютона. Он ставит задачу устранения из физики вымышленных и произвольных гипотез. В предисловии к «Вольфианской экспериментальной физике» он пишет: «Ныне ученые люди, а особливо испытатели натуральных вещей, мало взирают на родившиеся в одной голове вымыслы и пустые речи, но больше утверждаются на достоверном искусстве». В «Слове о пользе химии» мы читаем: «Некоторые с немалою тратою труда своего и времени, пустыми замыслами и в одной голове родившимися привидениями натуральную науку больше помрачили, чем свету ей придали». Считая использование гипотез неизбежным, Ломоносов убежден в том, что из всех возможных гипотез мы можем выделить гипотезы истинные, соответствующие природе и обоснованные опытом. Вместо принципов Ньютона, основанных на опыте, он кладет в основание науки гипотезы, основанные на опыте. Б.Г. Кузнецов справедливо отмечает этот момент как основной для понимания мышления Ломоносова. Он пишет: «Если ньютоновская "физика принципов" стремилась преодолеть произвольность гипотез отказом от кинетических гипотез вообще, то Ломоносов пошел другим путем: выдвинутые им кинетические модели должны были, по замыслу ученого, одно-
значным образом вытекать из экспериментальных результатов» [Б.Г. Кузнецов, 2009, с. 268]. Эта сторона мышления Ломоносова как характеризующая его особый стиль была отмечена его гениальным современником Л. Эйлером. В письме к И.Д. Шумахеру Эйлер писал: «Ныне таковые умы весьма редки, так как большая часть остаются только при опытах, почему и не желают пускаться в рассуждения; другие же впадают в такие немыслимые толки, что они в противоречии всем началам здравого естествознания. Поэтому предположения господина Ломоносова тем большую имеют цену, что они удачно задуманы и правдоподобны» [цит. по: В.Л. Че-накал, 1958, с. 438]. Понятие гипотезы, базирующейся на опыте, является основой методологической позиции Ломоносова. Здесь мы снова имеем дело с некоторым синтезом декартовского и ньютоновского подходов.
На уровне метафизики Ломоносов неизменно придерживался механистической установки Вольфа. В.И. Вернадский справедливо характеризует Ломоносова как естествоиспытателя, проникнутого механистическим мировоззрением. Оно состояло в том убеждении, что движение корпускул по законам механики — глубинная основа физического мира и последняя инстанция его объяснения. Декарт, как уже сказано, не придавал механистическим представлениям статуса физической реальности. Ньютон смотрел на эти представления как на гипотезы, ограниченные в сфере действия, и даже Вольф отступал от механистического детерминизма, допуская вмешательство Бога в течение естественных процессов. Механистическая установка Ломоносова уникальна в смысле своей метафизической абсолютности и универсальности.
История науки показывает, что методология, декларированная ученым, не обязательно реализуется практически. Мы должны обратиться теперь к рассмотрению работ Ломоносова и к анализу реально используемых им методологических допущений.
4. Корпускулярная философия и теория теплоты
Высшим достижением Ломоносова как физика является, несомненно, его корпускулярно-кинетическая теория теплоты. Основные положения этой теории намечены Ломоносовым уже в «Опыте теории о нечувствительных частицах тел» (1743). В работе «Размышления о причинах теплоты и холода» (1745) они обосновываются через соотнесение с фактами опыта и со своими теоретическими следствиями.
Идея о связи теплоты с внутренним движением частиц тела появилась задолго до Ломоносова в работах Ф. Бэкона, Р. Декарта, Х. Гюйгенса, Р. Бойля и Р. Гука. Наряду с механической теорией
теплоты в XVII в. оформилась теория теплорода как учение об особой тонкой материи, которая входит в поры тел и приводит к их нагреванию. К началу XVIII в. теория теплорода завоевала общее признание и полностью вытеснила чисто корпускулярную теорию теплоты. Сторонниками теплородной теории в первой половине XVIII в. были такие физики, как Дж. Блэк, Г. Гамбергер, Г. Бургаве, С. Дюкло, В.К. Шееле, Л. Тюмиг и др. В это же время получила признание идущая от И. Бехера и Э.Г. Шталя теория флогистона как учение об особом веществе, обусловливающем процесс горения. Р. Бойль уяснил различие теплорода и флогистона: он опытным путем установил, что трение может порождать теплоту в безвоздушном пространстве, в котором горение невозможно. Лавуазье, выяснив кислородный механизм горения, отверг флогистон, но оставил теплород в числе химических элементов. Ломоносов, напротив, признавал флогистон и опирался на него в ряде работ («О металлическом блеске» (1745), «О рождении и природе селитры» (1749) и др.), но теорию теплорода считал абсурдной и не имеющей оснований.
Свою задачу Ломоносов видел в опровержении теории теплорода и в восстановлении чисто корпускулярной концепции теплоты. «В наше время, — пишет он, — причина теплоты приписывается особой материи, которую большинство называет теплотворной, другие — эфиром, третьи — элементарным огнем. <...> Это мнение в умах многих пустило такие глубокие корни и настолько укрепилось, что повсюду приходится читать в физических сочинениях о внедрении в поры тел названной выше теплотворной материи, как бы привлекаемой каким-то приворотным зельем; или, наоборот, о бурном выходе ее из пор, как бы объятой ужасом» [М.В. Ломоносов, 1986, с. 85].
«Размышления о причинах теплоты и холода» — шедевр физической литературы XVIII в. Это небольшое сочинение написано так, что и сегодня в нем нельзя увидеть ничего, что могло бы показаться лишним, затемняющим логику объяснения. Через анализ простых наблюдений Ломоносов обосновывает то положение, что теплота порождается вращательным движением корпускул. Используя это положение он объясняет более сложные тепловые явления — такие, как появление теплоты при трении, расширение тел при нагревании, и, наконец, подходит к обоснованию таких не вполне понятных с точки зрения обыденных представлений явлений, как постоянство температуры воды в процессе ее кипения и замерзание воды в жидком соляном растворе.
Ломоносов рассматривает опыты Р. Бойля по обжиганию металлов, в которых наблюдалось некоторое увеличение веса обжигаемых образцов. Этот факт сторонники теории теплорода истолковывали как вхождение в поры металлов материи огня или теплотворной
материи. Ломоносов объясняет наблюдаемое здесь увеличение веса конденсацией частиц материи, содержащихся в продуваемом воздухе, а также вхождением в окалину частиц горючего вещества, содержащегося в пламени. Его вывод состоит в том, что точный количественный анализ реакции не оставляет никаких оснований для заключения о прибавлении массы тел в результате их нагревания.
Корпускулярная теория теплоты была выдающимся теоретическим достижением Ломоносова вследствие предельной логической законченности и ясности аргументации, фактически не оставляющей места для возражений. Необходимо признать совершенно справедливым мнение Д.М. Перевощикова, который считал, что Ломоносов своей теорией теплоты опередил на полстолетия современную ему науку. «Предложения Ломоносова не имеют ли всех достоинств истинной теории? Если имеют, то почему мы русские оставляем его в забвении? Почему в учебных книгах своих без исследования повторяем слова иностранных ученых, которые, не зная рассуждений Ломоносова, единогласно утверждают, что Рум-форд первый предположил возникновение теплоты от внутреннего движения тел» [Д.М.. Перевощиков, 1829, с. 488]. Выдающийся фи-зико-химик И.А.Каблуков в начале прошлого века писал о работах Ломоносова по теории теплоты: «М.В. Ломоносов изложил механическую теорию теплоты с такой проникновенностью во внутреннее строение тел, что некоторые места этой диссертации могут и в настоящее время быть перенесены без всякого изменения в трактаты по физике. <...> При чтении некоторых мест этого труда может показаться, что они написаны не в 1744—1747 годах, а во второй половине девятнадцатого столетия после установления первого закона термодинамики. Для примера достаточно указать, что он дает вполне точное и ясное представление об абсолютном нуле температуры, хотя это понятие было введено в науку только в девятнадцатом столетии. <...> При чтении этих творений Ломоносова испытываешь радостное и вместе с тем горькое чувство: радостное — ибо видишь, что не бездарна природа России, производящая таких титанов знания, горькое — потому что открытия, сделанные Ломоносовым, лежали как бы под спудом и мало повлияли на дальнейшее развитие науки» [И.А.Каблуков, 1912, с. 7—8, 18].
Относительно малого влияния работ Ломоносова мы можем сегодня сказать следующее. Это, конечно, не было следствием провинциализма или языкового барьера, как это можно было бы подумать исходя из современной ситуации в отечественной науке. Ломоносов не страдал от неизвестности. «Рассуждение о причинах теплоты и холода» было напечатано в 1750 г. в «Комментариях» Петербургской Академии наук на латинском языке и получило широкую известность в европейских ученых кругах и большое
число отзывов. Основная причина того положения, что эта работа не осталась в истории физики в качестве поворотного пункта, состоит в том, что она была совершенно преждевременной. Теория теплорода находилась на пике своего влияния и ей предстояло существовать еще почти сто лет. Только точные калориметрические опыты относительно перехода механической энергии в тепловую, проведенные в начале XIX в. Румфордом, Деви, а позднее Джоулем, привели к ее окончательному исчезновению. Но история науки, как показывает практика, не фиксирует преждевременных идей, сколь бы истинными они не были: они рассматриваются как некоторого рода случайности, лежащие вне основной траектории науки. Другая причина малого влияния теории Ломоносова на современную ему науку более банальна: она состоит в том, что у Ломоносова не было достаточно времени для утверждения своих идей. Известно, что он не обработал и не опубликовал своих более продвинутых опытов по теории теплоты, проведенных в 1755—1756 гг., которые, как сегодня установлено, существенно предвосхищали исследования Лавуазье: у него не оказалось для этого достаточно времени. Он писал Л. Эйлеру в 1754 г.: «Я принужден здесь быть не только поэтом, оратором, физиком и химиком, но и целиком почти уйти в историю. <...> Я часто за самой работой ловил себя на том, что душой я блуждаю в древностях российских» [М.В.Ломоносов, 1948, с. 158]. Многообразие деятельности Ломоносова, которая вызывает у нас сегодня удивление и восхищение, было для него в действительности вынужденным и отрывало его от занятий, где он был на высоте своего времени. Грамматика, риторика и история, конечно, существенно снизили потенциал и влиятельность Ломоносова как физика.
В методологическом плане работа Ломоносова о теплоте является более близкой к ньютоновскому стилю обоснования, чем все другие его работы. Ломоносов формулирует некоторый принцип, называемый им «всеобщим законом природы», который состоит из двух положений: «Тело, которое своим толчком возбуждает другое движение, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому», и «Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого» [М.В. Ломоносов, 1986, с. 113]. Первое положение представляет собой декартовский принцип сохранения количества движения, второе положение принадлежит самому Ломоносову и представляет собой предвосхищение закона сохранения химического состава. В работе «Рассуждение о причине теплоты и холода» первое положение явно формулируется (§ 18) и используется для объяснения процесса перехода теплоты от теплого тела к холодному. Второе положение в неявном виде используется (§ 31)
как аргумент против теплородной теории. Ломоносов убежден в том, что если при обжигании металлов мы фиксируем некоторое увеличение их веса, то это увеличение может произойти только за счет частичек воздуха, обтекающих тело, или за счет частиц вещества, содержащихся в пламени. Он указывает здесь на С. Дюкло, который именно так истолковал свои опыты по обжиганию металлов. Принцип «если прибавилось к одному, то убавилось от другого» позволяет возвести это истолкование в закон и понять химическую реакцию только как перераспределение материальных частиц, содержащихся в реальных («чувствительных») телах, вовлеченных в нее. При такой трактовке химической реакции для теплородной материи не остается места. В работе Ломоносова «Рассуждение о причинах теплоты и холода» мы видим первую в истории физики попытку обоснования конкретного научного вывода с точки зрения общего принципа сохранения.
В основе этого подхода лежит механическая аналогия: ориентируясь на закон сохранения количества движения в механике, Ломоносов формулирует более широкий принцип, важный для физики и для химии. Известно, что у ученых XVIII в. не было полной уверенности в отношении сохранения веса в химических реакциях [см.: Т.Кун, 1975, с. 98]. Медленно и постепенно, на основе анализа конкретных химических реакций и уточнения их механизма к концу этого века это положение было утверждено как закон постоянства химического состава. Механическая аналогия Ломоносова оказалась эффективной в том смысле, что она позволила ему априори, на полуметафизическом уровне принять принцип сохранения как основу для понимания химических процессов и как базу для критики теплородной теории. Метод Ломоносова здесь близок к физике принципов Ньютона.
Но в этой работе мы видим также и существенное уклонение от ньютоновского метода. Главное отличие состоит в принятии Ломоносовым корпускулярно-кинетических представлений о теплоте в качестве обосновательных. С точки зрения Ньютона, являются несостоятельными все гипотетические построения, будь то декартовская теория вихрей или волновая теория света Гюйгенса. Даже свою собственную эмиссионную теорию света Ньютон считал только гипотезой, но не обосновательным представлением. Но в кор-пускулярно-кинетической теории Ломоносова нет индуктивно обоснованных принципов, а есть мысленное представление о ее внутреннем механизме. Не индуктивный принцип, а гипотеза кладется Ломоносовым в основу объяснения. В теории теплоты Ломоносова первичен не закон, а модель, не индуктивный принцип, а гипотеза о скрытых процессах, протекающих в веществе, подтверждаемая лишь своими следствиями.
Ломоносов так формулирует свою установку: «Нет более надежного способа доказательства, чем способ математиков, которые подтверждают выведенные a priori положения примерами и проверкой а posteriori» [М.В.Ломоносов, 1986, с. 79]. Если ньютоновкая теория должна начинаться с положений, доказанных опытом, то Ломоносов считает, что она должна начинаться с априорных гипотез. Если исходные положения в ньютоновской теории максимально подтверждены опытом и истинны с самого начала, то Ломоносов считает, что истинность исходных положений должна быть доказана их следствиями. «Надо напомнить, что при объяснении следствий я буду поступать так, чтобы не только они легко объяснялись из основного положения, но и доказывали само это положение» [там же, с. 33].
Можно было бы подумать, что Ломоносов намечает здесь логику гипотетико-дедуктивного построения, принятую в современной физической теории. Но это не совсем верно. Подчеркивая априорность гипотез, он одновременно настаивает на том, что эти гипотезы обоснованы опытом. Априорность у Ломоносова не нечто врожденное, как у Декарта, и не нечто умозрительно спекулятивное, как у Вольфа, а положение, отражающее самый простой, общезначимый и неустранимый опыт. Если общая схема Ньютона может быть записана как «опыт — принцип — дедукция», то схема объяснения Ломоносова будет выглядеть как «опыт — гипотеза — дедукция — подтверждение гипотезы». Несомненный опыт позволяет нам сформулировать априорные гипотезы, и применение этих гипотез доказывает их истинность за пределами этого первичного опыта.
Мы должны здесь понять то обстоятельство, что Ломоносов не мог следовать той логике обоснования, которая была намечена Ньютоном. Как показывает практика теоретических наук, существует два способа убедительного объяснения: объяснение на основе принципов (законов) и объяснение на основе моделей. Теоретическая наука в конечном итоге достигает стадии принципов, и модельные представления остаются в ней лишь в качестве эвристики. Но в процессе становления науки модельное объяснение часто предваряет обоснование на основе принципов и является во многих случаях единственной возможностью продвижения вперед. Ньютон был прав, намечая свой идеал физического объяснения, и предложенное им построение механики удовлетворяет этому идеалу. Но дело в том, что этот идеал не мог быть навязан физике в целом. Ньютон полагал, что объясняющие физические принципы находятся где-то в непосредственной близости от фактов и что посредством некоторого метода типа бэконовской индукции они могут быть выявлены на основе этих фактов. Практика физических
исследований в XVIII в. показала полную несостоятельность этого положения, неприменимость его за пределами механики. Принципы теории теплоты и других физических наук оказались более скрытыми и недостижимыми на основе простой индукции. Огромное количество фактов длительное время оставалось здесь без всякого объяснения. Если следовать Ньютону, то за неимением признанных объясняющих принципов ученые должны были бы заниматься лишь систематизацией фактов и выведением из них некоторых тривиальных следствий. Ясно, что теоретическое мышление не могло пойти по такому пути и оно неизбежно должно было возвратиться к построению гипотез о внутренних механизмах явлений, нацеленных на объяснение фактов. Вводя корпускулярно-кинетические представления в качестве объясняющих в своей теории теплоты, Ломоносов делал совершенно необходимый шаг, требуемый логикой развития теории теплоты и стадией ее развития. Собственно феноменологическая теория теплоты, отвечающая ньютоновскому идеалу, появилась только в середине XIX в. Это термодинамика, определившаяся в качестве самостоятельной теории на основе работ Р. Клаузиса и У. Томсона.
Ньютоновская методология была излишне радикальна. Ньютон в одинаковой мере отвергал как декартовскую теорию вихрей, так и волновую теорию света Гюйгенса, принимая последнюю только в качестве некоторой эвристики. Но в настоящее время мы понимаем, что волновое представление неустранимо из теории света и, следовательно, оно не метафизика, а некоторая необходимая часть физической теории. То же самое относится и к молекулярно-кине-тической теории теплоты. Будучи отодвинутым в сторону термодинамикой, оно восстановилось в конце XIX в. в статистической механике.
Понимание статуса теоретических моделей позволяет нам судить об отношении теории Ломоносова к современной теории теплоты. Ломоносов не создал физической теории теплоты в полном смысле этого понятия, так как он не сформулировал системы теоретических принципов, достаточных для чисто дедуктивного развертывания этой теории. Такая теория, как уже сказано, появилась только в XIX в. Но он создал зрелую (парадигмальную) модель тепловых явлений, такой способ их понимания, который не утратил значения и для современной теории. Кинетическая теория Ломоносова не вполне соответствует современным представлениям: в настоящее время считается более правильным связывать возникновение теплоты не с вращательными, а с поступательными движениями молекул. Но эта теория уже вскрывала сущность тепловых явлений и становилась основой их теоретического анализа. В настоящее время ясно, что молекулярно-кинетическая модель
теплоты — не умозрительная натурфилософия и что она как таковая не устранима из теории теплоты. Можно сказать, что Ломоносов достиг здесь истины, которая не колеблется временем.
5. Наука и натурфилософия в оптике Ломоносова
Существенно иная методологическая установка проявляется у Ломоносова при разработке им проблем оптики.
Преобладающее положение в оптике XVIII в. занимали два воззрения на природу света — волновое и корпускулярное. Р. Гук и Хр. Гюйгенс, опираясь на аналогию света со звуком, ввели представление о свете как о колебательном движении эфирной материи и применили эту идею для объяснения ряда световых явлений, которые мы относим сегодня к эффектам интерференции и дифракции. Исходя из этих представлений, Гук на качественном уровне объяснил смену окраски тонких пластинок и мыльных пузырей в зависимости от изменения угла зрения, а Гюйгенс объяснил законы отражения и преломления света. Несколько позднее Ньютон выдвинул эмиссионное воззрение на природу света, согласно которому свет является некоторого рода эманацией тела, движением ничтожно малых частиц материи, испускаемых светящимся телом. Ньютон не соглашался с чисто волновой теорией по той причине, что она, по его мнению, не объясняет прямолинейного распространения света. Он, однако, не отвергал волновую теорию полностью, считая ее приемлемой для объяснения взаимодействия света с материальными предметами. Отвечая на критику Гука, он писал: «Если мы предположим, что световые лучи состоят из маленьких частиц, выбрасываемых по всем направлениям светящимся телом, то эти частицы, попадая на отражающие и преломляющие поверхности, должны возбудить в эфире колебания столь же неизбежно, как камень, брошенный в воду. <...> Польза таких колебаний для объяснения отражения и преломления света, образования тепла солнечными лучами, для объяснения цветов тонких прозрачных пластинок... не ускользнет от внимания тех, которые считают целесообразным затратить труд на применение гипотезы к объяснению явлений» [цит. по: С.И. Вавилов, 1943, с. 70]. Ньютон предлагает, таким образом, новое представление о природе световых явлений, которое учитывает как корпускулярное, так и волновое их истолкование.
Выдающимся достижением Ньютона является, несомненно, установление того факта, что окраска тел не создается взаимодействием их поверхностей с лучами света, а является качеством самих лучей и зависит от свойственной им длины волны. Цветовая окраска тел создается, с этой точки зрения, исключительно их
способностью отражать одни компоненты светового луча и поглощать другие.
Ньютоновская теория света была оспорена рядом ученых XVIII в., в том числе и Л. Эйлером. В отличие от Ньютона Эйлер пытался объяснить явления света исключительно на основе волновой теории. Расхождение между Ньютоном и Эйлером касалось в основном двух проблем, а именно проблемы цветности и проблемы прозрачности. Ньютон полагал, что всякая вещь, освещенная лучами света, поглощает лучи одной длины волны и отражает лучи другой длины волны. Цвет предмета, с этой точки зрения, определяется составом отражаемых лучей. Эйлер считал, что частицы поверхности освещаемого тела приходят в возбуждение и начинают излучать собственные лучи, зависимые от химического состава тела. Цвет тела определяется, с этой точки зрения, не характером его освещения, а химическим составом тела. Аналогичное расхождение наметилось и в истолковании прозрачности. Если прозрачность тел объясняется, по Ньютону, наличием у них пор, пропускающих световые частицы, то,по Эйлеру, тела являются прозрачными, если в их составе находится достаточно большое число частиц эфира, передающих световые волны.
В расхождении Ньютона и Эйлера в объяснении света и цветов Ломоносов принял сторону Эйлера, полагая, что теория света может быть построена только на основе прояснения его волновой природы. Ломоносов считает явно ошибочной ньютоновскую теорию света и приводит против нее ряд доводов, которые исходят из механистического понимания реальности. Прозрачные тела, согласно эмиссионной теории, прозрачны потому, что сквозь их поры проходят частицы света. Если взять, говорит Ломоносов, кристалл кварца и две свечи, стоящие по разные стороны от него, то мы можем с полной ясностью увидеть и ту и другую свечу, смотря с разных сторон кристалла. Корпускулярная теория, считает он, не может внятно объяснить, в какую сторону движутся световые частицы в порах кристалла и как они расходятся между собой. «Должны ли мы оставить законы механики? <...> Где тут ненарушимые движения законы?» — спрашивает Ломоносов [М.В. Ломоносов, 1986, с. 246]. Он указывает также на то, что ньютоновское понимание прозрачности ведет к предположению, что наиболее прозрачные тела должны быть наиболее пористыми и как следствие наиболее слабыми («рухлыми») в смысле своей прочности, что не подтверждается никаким опытом.
Основная проблема, которую хочет решить Ломоносов, — это объяснение цветности окружающих нас тел. Ньютон, оставляя в стороне свою теорию принципов, объясняет цветность тел исходя из некоторого структурного представления о телах как о совокуп-
ностях частиц, находящихся на определенных расстояниях друг от друга. Именно эти специфические для каждого тела расстояния и определяют, по его мнению, состав поглощаемых и отражаемых лучей и восприятие тела как окрашенного в тот или другой цвет. Л. Эйлер считал, что цветность тела обусловлена не геометрией расположения частиц, а химическим составом вещества и должна быть прояснена на основе химических экспериментов. В своем письме к Ломоносову от 19 марта 1754 г. он писал: «Я уже давно, на основании обыкновенных опытов, был вынужден отказаться от теории Ньютона, так как не мог истолковать ни истечение лучей наподобие реки, ни их отражение в непрозрачных телах, от которого происходят цвета. Поэтому я придумал другую теорию... Правда, эта теория, которую я пространно развил в нескольких диссертациях, весьма нуждается в подкреплении многочисленными опытами, и не сомневаюсь, что ее можно усовершенствовать при помощи Ваших опытов, произведенных так тщательно» [МВ. Ломоносов, 1948, с. 164—165]. Ломоносов, так же как и Эйлер, считал, что эта проблема может быть решена в рамках химии. «Изыскание причины цветов, — пишет он в предисловии к «Вольфианской физике», — больше зависит от химии, моей главной профессии.» Свои воззрения по этому вопросу Ломоносов изложил в своем докладе на заседании Академии 1 июля 1756 г., который был опубликован затем как «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее».
В самом кратком изложении решение вопроса о цветности выводится Ломоносовым из следующих допущений.
1. Существуют три вида частиц эфира. Первые, наиболее массивные, заполняют все пространство, касаясь друг друга подобно сложенным в кучу пушечным ядрам, вторые, менее массивные, располагаются в промежутках между первыми, и, наконец, третьи, которые располагаются в промежутках между вторыми.
2. Существует три основных цвета, а именно красный, желтый и синий. Все остальные цвета производные, получаемые смешением исходных.
3. Возможны три типа движений частиц эфира, а именно поступательное, вращательное и колебательное. Ощущение цветов вызывается вращательным движением частиц эфира.
4. Вращательное движение крупных частиц эфира ответственно за красный цвет, вращение частиц второго размера ответственно за желтый цвет и вращение частиц третьего размера вызывает синий цвет.
5. Существует три типа основных материй, образующих тела, а именно соляная, ртутная и серная материи, и два типа служебных материй, а именно земля и вода.
6. Между тремя типами частиц эфира и тремя видами материй существует особого типа совместность, заключающаяся в том, что частицы эфира, соприкасаясь с частицами совместной материи, теряют поступательное и вращательное движение и оставляют у себя только колебательное движение. Наиболее крупные частицы эфира в этом смысле родственны с соляной материей, частицы второй величины — с ртутной материей и частицы третьей величины — с серной материей.
7. Ощущение цветов зависит от химического состава тел и в конечном итоге является результатом взаимодействия световых лучей с частицами, образующими поверхность тел. Если поверхность тела содержит в себе частицы всех материй, тогда эфирные частицы всех родов, прикасаясь к ним, теряют вращательное движение и теряют способность воздействовать на наше зрение. Это тот случай, когда тело кажется нам черным.
8. Если поверхность тела содержит в себе только частицы земли и воды, тогда все частицы эфира в полной силе своего вращательного движения воздействуют на наше зрение, и мы имеем случай, когда предмет кажется нам белым.
9. Если поверхность тела состоит из соляной материи, то в этом случае устраняется вращательное движение наиболее крупных частиц эфира, ответственных за красный цвет, и мы будем видеть только желтый и голубой цвета, которые, соединяясь друг с другом, дадут нам ощущение зеленого цвета и т.д.
Теория света, построенная Ломоносовым, радикально отличается от его теории теплоты на уровне методологических посылок. Здесь отсутствуют не только принципы в их ньютоновском понимании, но и универсальные модели, приложимые к объяснению явлений света. Если корпускулярные представления о природе теплоты выводятся им из простых явлений — таких, как появление теплоты в результате трения, передача теплоты от одного тела к другому, и с самого начала обосновываются как представления необходимые, раскрывающие природу теплоты, то идея трех видов эфирных частиц и их взаимодействия с родами материи выглядят как искусственное построение, нацеленное на объяснение одного типа фактов, а именно фактов восприятия человеком окраски тел. Это гипотеза ad hoc, никак не продиктованная системой простых опытов. Здесь Ломоносов не говорит об априорности гипотез, ибо нет непосредственного опыта, поддерживающего эти гипотезы. Он оставляет область позитивной науки в ее ньютоновском понимании и входит в сферу умозрительных, чисто натурфилософских построений.
Принятая схема объяснения во многом повторяет оптику Декарта. Мы видим здесь три рода материи, три основных цвета 54
и представление об ощущении цветов как производимое вращательным движением частиц материи. Сам Ломоносов в отчете о своих открытиях пишет: «В Слове о происхождении света и цветов, произнесенном в публичном собрании Академии, показывается, сколь прочно и правильно несравненными мужами Картезием и Мариоттом установлена теория света и числа цветов» [МВ. Ломоносов, 1986, с. 495].
С.И. Вавилов говорил об оптических теориях Ломоносова как о домыслах [С.И. Вавилов, 1935, с. 35]. Это верно в том отношении, что, в отличие от «Рассуждения о происхождении теплоты и холода», в этих теориях нет ничего, что можно было бы поместить в современные учебники по физике. Здесь мы находим умозрительные построения, характерные для начального этапа физической теории, имеющие только историческое значение. Адекватная основа для решения вопроса о природе цветности стала формироваться только в конце XIX — в начале XX в. в работах Г. Кирхгофа, М. Планка, Н. Бора и Э. Шредингера. В настоящее время мы хорошо понимаем, что вопрос о природе цветности не мог быть решен Ломоносовым на основе тех физических и химических представлений, которыми он владел. Альтернатива, которая была у него, состояла в том, чтобы, осознав сложность вопроса, оставить его для будущих поколений вместе с вопросом о природе тяготения. Ломоносов не мог поступить так по свойствам своего характера. В настоящее время мы хорошо понимаем, что такого рода осторожная стратегия не принесла бы пользы науке. Во-первых, у ученых никогда не было и никогда не будет ясных критериев, разделяющих вопросы на разрешимые и не разрешимые для данного времени. Во-вторых, история науки учит нас, что преждевременные и обреченные на неудачу теории — не напрасно потраченное время, а единственный способ подготовки к будущему продвижению. Все значительные ученые ставили и решали проблемы, для решения которых еще не было необходимых средств. В сфере учения о теплоте, о свете и об электричестве в XVIII в. было создано огромное количество теорий, претендующих на универсальность, о которых мы сегодня ничего не знаем. Но именно через критику этих умозрительных и бесперспективных построений физика смогла продвинуться к современным понятиям.
6. Неизбежность натурфилософии
Главный вопрос, который возникает при рассмотрении методологического мышления М.В. Ломоносова, состоит в понимании бросающейся в глаза разнородности его подходов. Если теория теплоты строится им достаточно близко к требованиям ньютоновской
теории принципов, то в теории света он всецело находится в рамках гипотез, типичных для декартовской физики. Положение усугубляется тем фактом, что мы видим у Ломоносова явно выраженную защиту как той, так и другой методологической позиции. Ему была чрезвычайно близка идея ньютоновского математического естествознания, и он постоянно говорил о необходимости строго эмпирического и математического подхода к исследованию природы. Но он защищает и метод Декарта, основанный на выдвижении гипотез и на раскрытии механической основы явлений.
Как мы можем объяснить это раздвоение? Имеем ли мы здесь дело с обычной для ученого эклектичностью методологических установок или мы имеем дело с позицией, проистекающей из исторических условий мышления? Приведенные выше факты говорят в пользу последней версии. Двойственность методологических установок Ломоносова может быть понята в действительности только из состояния физики в ХХ столетии, из ее положения как знания, находящегося между наукой и натурфилософией.
В IV в. до н.э. Аристотель пришел к мысли, что природа заслуживает специального исследования, и выдвинул положение, что наряду с первой философией, исследующей бытие вообще, необходима вторая философия, исследующая движение. Так началось обособление физики от философии. Ньютон сделал второй шаг в этом направлении. Он осознал то обстоятельство, что физика для своего успеха должна освободиться от безбрежной сферы метафизических гипотез и сосредоточиться на положениях, проистекающих из наблюдаемых фактов. Принцип «Гипотез не измышляю» появился как лозунг позитивного знания, как принцип автономии науки от метафизики.
М.В. Ломоносов, как и большинство физиков его времени, принял этот принцип как общую установку, соответствующую устремлению к объяснению мира из него самого. Но дело в том, что ньютоновский идеал физической науки не мог быть проведен в жизнь, он не мог стать основой систематизации физического знания в целом. Отступление от Ньютона, которое делает Ломоносов в теории теплоты, состоит в том, что он вводит универсальную модель в качестве основного средства обоснования явлений, заменяя ньютоновские принципы гипотезами, проистекающими из наблюдений. Это было отступлением от объяснения на основе принципов, но это не было выходом за пределы физики как строгой науки. При переходе к явлениям оптики Ломоносов не находит и этого средства, т.е. универсальной модели, позволяющей подойти к систематической интерпретации опыта. Эмпирический материал пребывал здесь еще в первичном состоянии, без определяющих его представлений. Отступление в сферу натурфилософ-
ских конструкций оказалось здесь неизбежным. Гипотеза ad hoc была здесь единственным методом движения вперед.
Сегодня мы понимаем то обстоятельство, что ньютоновский метод принципов — это только метод обоснования развитой теории, но не метод ее развития. Предписывая физической теории принципы в качестве ее исходной базы, Ньютон смешивает канон и органон, способ изложения зрелой теории со способами ее развития. В теории, переживающий первый этап своего развития, нет и не может быть принципов. Метод гипотез является здесь единственно допустимым и определяющим. Несмотря на авторитет ньютоновского метода принципов, он никогда не был реализован в практике физического мышления. Он существовал в физике XVIII столетия лишь в качестве идеала позитивности, в качестве общей философии физики, не определяя, однако, ее методологической практики. Практика науки требовала натурфилософских гипотез. Несмотря на свое неприятие умозрительных гипотез, Ломоносов не мог отказаться от них, так как работал в науке, находящейся на допарадигмальной стадии своего развития.
В философии XIX в. появилось негативное отношение к натурфилософии как к некоторому антинаучному методу. Мы можем здесь вспомнить слова Ф. Энгельса: «Теперь натурфилософии пришел конец. Всякая попытка воскресить ее была бы не только излишней, а была бы шагом назад». Известный физик О.Д. Хвольсон писал в начале прошлого века: «Старая натурфилософия умерла. Она шла по ложному пути, и это было причиной ее гибели. Бесполезно продолжать над нею издеваться и — de mortus aut nihil aut bene. Снимем шляпу и возложим венок на могилу честной могучей работы ума, искавшей истину на пути, который казался ей правильным».
Такого рода оценки натурфилософии упрощают дело. Во-первых, натурфилософия не умерла и не может умереть. Она возрождается всякий раз, когда человеческое мышление вступает в сферу нового опыта, для которого теряют значение старые представления. Во-вторых, натурфилософия на допарадигмальной стадии развития теории — не ложный, а единственно приемлемый путь. Было бы совершенно неверным думать, что Ломоносов произвольно, вследствие своей натурфилософской школы или из-за некоторых внешних влияний отступил от ньютоновских требований к физической теории и оставил научную физику ради натурфилософии. В действительности в современной ему физике он не мог действовать иначе. Он строил теоретическое объяснение теплоты, явлений электричества и явлений света и цветов в той форме, в которой оно было возможно для его времени.
Принимая ньютоновский идеал физической теории, физики XVIII в. должны были двигаться по декартовскому пути, а именно через построение умозрительных гипотез, их подтверждение и отбрасывание. Историческим фактом является то, что ни теория теплоты, ни оптика, ни теория электричества не достигли в XVIII в. твердого обоснования на основе принципов. Физика не перешла и не могла перейти к ньютоновской теории принципов как к практической методологии. Кажущаяся двойственность методологических установок Ломоносова полностью объясняется положением физики его времени между наукой и натурфилософией. Основное и постоянное стремление Ломоносова, которое прослеживается во всех его работах, состояло в том, чтобы, не отказываясь от гипотез, соблюсти требование строгого эмпирического обоснования физики. Именно в этом состоит смысл его положения о гипотезах, основанных на опыте. Такого рода качественная, реальная, подтвержденная опытом гипотеза мыслилась Ломоносовым как некоторое разрешение дилеммы, как компромисс между гипотезами Декарта и принципами Ньютона.
Победа ньютонианцев над картезианцами в понимании физической картины мира, которая совершилась при жизни Ломоносова, не была отказом от картезианской методологии. Картезианство существовало в физике на протяжении всего XVIII столетия как вера в возможность механистического объяснения природы и как метод продвижения к истине на основе гипотез. Ломоносов не мог не быть картезианцем, ибо и теория теплоты, и оптика, и теория электричества, т.е. все области физики, в которых он работал, находились в состоянии допарадигмального развития, вне своего оформления на основе принципов. Эти области физики в XVIII в. проходили тот же этап натурфилософского развития, который проходила механика в XVII в. в рамках философии Декарта. Требование опытного подтверждения гипотез, выдвинутое Ломоносовым, существенно отделяло его от картезианской методологии, но, как мы видим, он сам сумел выдержать это требование только в теории теплоты.
Методологическое мышление создается практикой научного поиска, а последняя определяется этапом развития науки и уровнем зрелости научной теории. XVIII в. — время, когда физическое мышление находилось между наукой и натурфилософией и при общем признании требований научности фактически подчинялось логике натурфилософских построений. Понимание методологического мышления Ломоносова и его кажущихся внутренних противоречий требует осознания методологической двойственности современной ему науки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Вавилов С.И. Исаак Ньютон. М.; Л., 1945.
Вавилов С.И. Физическая оптика Леонарда Эйлера // Леонард Эйлер 1707—1783: Собр. материалов к 150-летию со дня смерти. М.; Л., 1935.
Вернадский В.И. О работах Ломоносова по минералогии и геологии. М., 1900, .
Каблуков И.А. М.В. Ломоносов как физико-химик. М., 1912.
Кузнецов Б.Г. Развитие научной картины мира в физике ХУН—ХУШ столетия. М., 2009.
Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.
Ломоносов М.В. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1950—1952. Т. 1—3.
Ломоносов М.В. Соч.: В 8 т. М.; Л., 1948. Т. 8.
Ломоносов М.В. Избр. произв.: В 2 т. М., 1986. Т. 1—2.
Люблинская А.Д. О влиянии Ньютона на французскую науку (спор ньютонианцев с картезианцами) // Исаак Ньютон (1643—1727): Сб. статей к 300-летию со дня рождения М.; Л., 1943.
Ньютон И. Математические начала натуральной философии / Пер. с лат. и комментарии А.Н. Крылова. М.; Л., 1936.
Перевощиков Д.М. О физических сочинениях Ломоносова // Атеней. 1829. № 5.
Ченакал В.Л. Эйлер и Ломоносов // Леонард Эйлер: Сб. статей в честь 250-летия со дня рождения. М., 1958.





 CC BY
CC BY 89
89