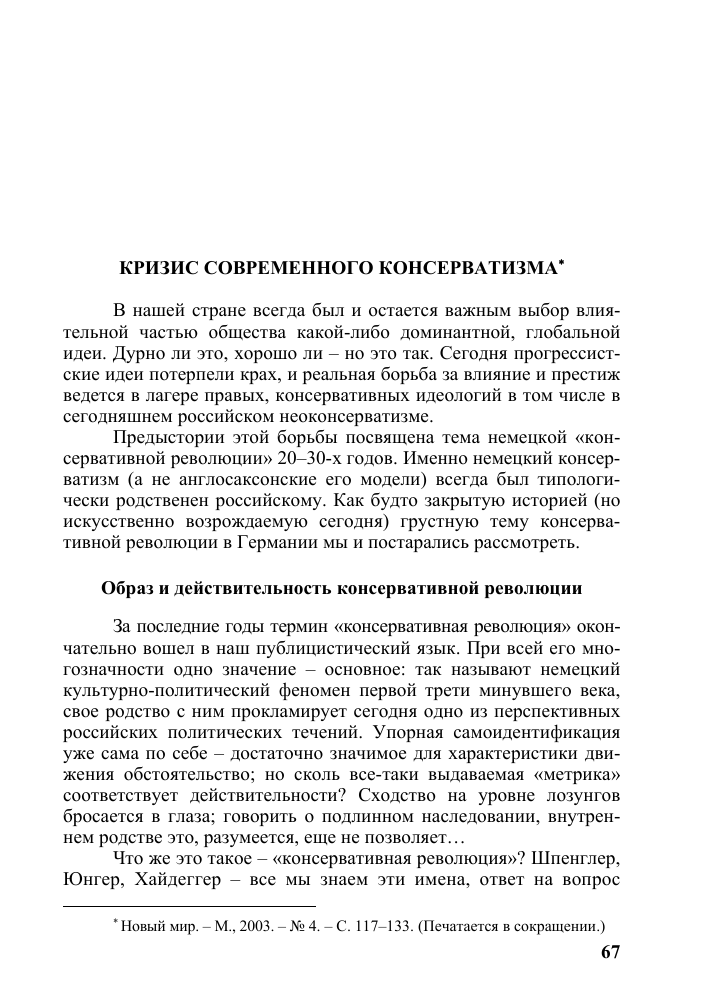КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО КОНСЕРВАТИЗМА*
В нашей стране всегда был и остается важным выбор влиятельной частью общества какой-либо доминантной, глобальной идеи. Дурно ли это, хорошо ли - но это так. Сегодня прогрессист-ские идеи потерпели крах, и реальная борьба за влияние и престиж ведется в лагере правых, консервативных идеологий в том числе в сегодняшнем российском неоконсерватизме.
Предыстории этой борьбы посвящена тема немецкой «консервативной революции» 20-30-х годов. Именно немецкий консерватизм (а не англосаксонские его модели) всегда был типологически родственен российскому. Как будто закрытую историей (но искусственно возрождаемую сегодня) грустную тему консервативной революции в Германии мы и постарались рассмотреть.
Образ и действительность консервативной революции
За последние годы термин «консервативная революция» окончательно вошел в наш публицистический язык. При всей его многозначности одно значение - основное: так называют немецкий культурно-политический феномен первой трети минувшего века, свое родство с ним прокламирует сегодня одно из перспективных российских политических течений. Упорная самоидентификация уже сама по себе - достаточно значимое для характеристики движения обстоятельство; но сколь все-таки выдаваемая «метрика» соответствует действительности? Сходство на уровне лозунгов бросается в глаза; говорить о подлинном наследовании, внутреннем родстве это, разумеется, еще не позволяет...
Что же это такое - «консервативная революция»? Шпенглер, Юнгер, Хайдеггер - все мы знаем эти имена, ответ на вопрос
* Новый мир. - М., 2003. - № 4. - С. 117-133. (Печатается в сокращении.)
67
«кто?» прост и ясен; но что объединяло этих людей? Попытки ответить нередко заводят в тупик; даже в научной литературе утверждают подчас, что консервативной революции... просто никогда не существовало1.
В общем, резонов разобраться в консервативной революции накопилось достаточно. Приведем напоследок еще один: речь ведь идет о последнем великом явлении немецкой культуры.
Консервативно-революционное движение всегда было малочисленным по составу; годы Рейха едва ли не полностью разметали и уничтожили его. Кто-то был расстрелян диктатором, кто-то пошел к нему на службу; одни сгнили в тюрьмах, другие успели умереть своей смертью. Выживших обстановка к разговору о консервативной революции явно не располагала. Сохранить прошлое взялся швейцарский историк Армин Молер, секретарь и друг Эрнста Юнгера. Уцелевшие сведения он систематизировал в объемистой диссертации, которую позже издал как книгу2. Диссертация была защищена у Карла Ясперса - знаменитого мыслителя, врага иррационализма, демократические воззрения которого сомнению не подлежали. Все получалось, таким образом, респектабельно и надежно.
Между тем само происхождение термина осталось не вполне ясным. В печати сочетание «консервативная революция» употребил, по-видимому первым, прославленный немецкий почвенник3 Томас Манн. Сделал он это в 1921 г. в статье «Русская антология»4 (так - случайным, быть может, стечением обстоятельств - оказались с первого момента связанными: «консервативная революция» и «Россия»). Шесть лет спустя термин вводит в широкий оборот в зажигательной речи «Литература как духовное пространство нации» австрийский поэт и драматург Хуго фон Гофмансталь: «Процесс, о котором я веду речь, есть не что иное, как консервативная революция, имеющая размах, невиданный до сих пор в европейской истории.». Слово прозвучало, клич подхвачен, среди подхвативших его - один из активнейших младоконсерваторов Эдгар Юлиус Юнг. Консервативно-революционное движение встало, наконец, в полный рост.
Что означает выразительный, емкий термин? «Это понятие, -пишет в своей книге А. Молер, - обозначает объемлющий всю Европу процесс <...> начало которого, скорее всего, совпадает с Французской революцией. Ибо любая революция рождает из самой себя ответную силу, противоборствующую ей. Вместе с Французской революцией побеждает тот мир, в котором "консервативная
революция" видит своего врага и который предварительно можно описать как мир, движимый верой в постепенный прогресс, считающий все вещи, отношения и события доступными рассудочному пониманию и стремящийся изолировать и постичь любой предмет в его отдельности от других». Как всегда, немецкое мышление стремилось к предельному синтезу, консервативная революция охватывала в нем «имеющие общий фундамент изменения во всех областях жизни, уже происшедшие или только начинающиеся, - изменения в теологии и в физике, в музыке и в градоуст-ройстве...» Нас, однако, в связи с чисто политическим образом консервативной революции, явленным публицистикой сегодняшней России, особо интересует именно политический ее аспект. В негативистской своей части он достаточно очевиден. Революция предполагает кардинальное неприятие современных ей реалий: бездуховности, потребительства, деградации высших начал. И далее -демократии и парламентаризма, либерализма, рационализма. Прилагательное же консервативная указывает направление желаемых перемен: речь идет не о рывке вперед по прогрессистским -социалистическим или коммунистическим - рецептам; нет, консерваторы - сторонники реставрации, борцы за возвращение к.
Здесь наше изложение вынуждено запнуться: возвращение -к чему? Кажется, ответ опять очевиден: к цельности не только сознания, но и всего национального бытия. Но это все-таки слишком общие слова: под пером консервативных революционеров что только не появлялось на свет в качестве символа, кристаллического ядра этой цельности! Им становилась давно утерянная «культура замков» (Эрнст Юнгер); сословно-земельная аристократия, единственный создатель подлинно высокой культуры (Освальд Шпенглер). Или - истинный прусский социализм, воплощающий высшие чаяния «носителя новой религиозности», немецкого народа. В коем, в противовес бездушному англо-американскому индивидуализму, «не каждый за себя, а все за всех» (это все тот же Шпенглер). Не обошлось и без универсальной отнюдь не только для православного Востока идеи третьего: Третьего рейха - Третьей империи - Третьего Рима. Сочетание «Третий рейх» тогда еще не заставляло тревожно вздрагивать: речь шла, конечно же, об «определяющем высшую действительность», «невидимом Рейхе» (Фридрих Юнгер). Но если в романском понимании Империя подчеркнуто отрицалась - с русскими образами дело обстояло не так: идеи великого средневекового еретика Иоахима Флорского воспринимались как непосредственно, так и через их преломление -
у Достоевского, Мережковского. Третий Завет - Третий Рим -Третье Царство (Мёллерванден Брук). Не только по поверхностному «антивеймарскому» слою идей тематика тех консервативных революционеров совпадает с сегодняшней, с нашей. То, что мы называем, обобщенно и отвлеченно, «Европой», немцы тоже часто видели где-то в стороне, далеко от себя. Не нужно забывать: Германия тоже - окраинная страна, и по ней не успел тогда еще основательно прокатиться западный цивилизационный каток. «Если человек не подчинился ладу зова, исходящего от дороги, он напрасно тщится наладить порядок на земном шаре, планомерно рассчитывая его. Велика опасность, что в наши дни люди глухи к речам проселка. Шум и грохот аппаратов полонили их слух, и они едва ли не признают его гласом Божиим. Так человек рассеивается и лишается путей»5. Странно - но так писалось всего полстолетия назад, в самой технически развитой стране континента. Однако романтические призывы бежать от современности приводят подчас не на идиллический сельский проселок - слова великих немцев запечатлелись не только в истории мысли.
По эту сторону христианства
К началу прошлого века потенциал дехристианизации уже достиг в Европе критической массы. Речь шла не столько о борьбе с религией, в большинстве стран уже не актуальной, сколько о порыве окончательно освободиться от сформированных христианством ценностей, прежде всего - от выношенного классическим Средневековьем понятия о человеке. Задача оказалась непростой. Провозгласив смерть Бога, базельский отшельник заглянул в бездну; но и она в ответ глянула ему прямо в глаза, - и Ницше не вынес этого взгляда. «Где Бог? Мы Его убили - вы и я! Мы все Его убийцы! Но как мы сделали это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и больше ночь?» Предсмертные записки впавший в безумие философ подписывал именем «Распятый».
«Сейсмограф европейского духа» преподал хороший урок: бороться с Богом бессмысленно. В вопросе о выходе из самой христианской проблематики опыт Ницше играл ценную негатив-
ную роль. И.К. Хаусхофер, Д. Эккарт, другие полузабытые сегодня немецкие интеллектуалы нашли иной путь.
В начале XX в. по Европе распространились странные игры. Игры в таинственные, недоступные профанному взору земли и острова, в пещеры, где ждут своего часа могучие великаны, представители древних рас... Сочинения «людей играющих» многократно изданы, широко доступны сегодня в России. Но постичь их суть нелегко. Известные нам труды, для примера одного из мэтров «космической революции» француза Рене Генона, можно по тематике разбить на две группы. I. «Восток и Запад», «Кризис современного мира», «Царство количества и знамения времени» -это понятно о чем. II. «По поводу доктрины космических циклов», «Место атлантической традиции в Манвантаре», «Атлантида и Гиперборея» - это уже не вполне понятно, но на профанов и не рассчитано. Оба круга идей сами по себе здесь не очень нам интересны. Интересна - их связь.
Проникнуть в глубины гиперборейской премудрости оказывается непросто. Многостраничные, с длинными арифметическими выкладками рассуждения о продолжительности космических циклов; о Великих Годах, о таинственном мистическом центре - Туле, о могущественных магических свойствах свастики. Как углядеть мост между всем этим иномирием - и жесточайшей критикой современности: идей «прогресса», «просвещения», «гуманизма», «демократии», «индивидуализма»?
Но вот посреди рассуждений о смене эпох и рас нам с нажимом сообщается, что «логика цикла прямо противоположна идее "прогресса", как его понимают современные люди». Знакомишься с сакральными истинами друидизма и Пурана - и так и тянет не мешкая согласиться с выводами Генона об «антиметафизичности и антиинициатичности западного "индивидуализма"». И становится совсем уж очевидным, что «современные люди Запада - не законные потомки народов, населявших Запад ранее, так как они потеряли ключ от своей собственной Традиции».
Что нельзя победить - надо растворить, аннулировать, растопить в космических далях. С Богом и Его миром теперь не борются - их попросту закрывают. В расщелинах бескрайних ледяных миров, в рассуждениях о длящейся 64 800 лет Кали-Юге презренное понятие личности окончательно нивелировалось, теряло всякий смысл.
После Первой мировой войны в Мюнхене возникло исповедовавшее доктрину космической революции Общество Туле.
Публика в Обществе была университетская, в основном специалисты по санскриту. И они уверились: древняя раса великанов не исчезла - она выжидает. Сильные люди, которые окажутся того достойны, вступят с нею в мистический контакт и покорят мир. Члены Общества были достойны; но не хватало медиума, посредника между ними и человечеством. Ему не нужен был здравый рассудок, требовалось иное: способность чутко принимать и передавать дальше - в адаптированном виде, на профанную аудиторию -магические сигналы. Молодым членам Общества, архитектору Розенбергу и сотруднику журнала «Геополитика» Гессу, медиума найти удалось. Им оказался начинающий политик Адольф Гитлер.
Два метафизических призрака бродили в начале минувшего века по Европе. Вскоре им предстояло схватиться в борьбе за власть над ней.
«Космическая революция» играла в Третьем рейхе огромную роль, она влияла на принятие важнейших государственных и военных решений. Но главное - она была духовной его основой. Без этой основы представить себе Рейх нельзя. Объяснять его патологическое вдохновение, волевой импульс всем известной поверхностью расовой доктрины - то же самое, что сводить историю советского государства к борьбе за объединение пролетариев всех стран.
Что же писали в эту эпоху - эпоху тотальной хладнокровной де-христианизации мира - немецкие консервативные революционеры?
«Мировая ночь распространяет свой мрак. Эта мировая эпоха определена тем, что остается вовне Бог <.. > Время мировой ночи -бедное, ибо все беднеющее. И оно уже сделалось столь нищим, что неспособно замечать нетость Бога». Эти слова Хайдеггера не нуждаются в пояснениях и толкованиях. Обратим лишь внимание на родство с мироощущением и образами Ницше: обезбоженная, нигилистическая, по терминологии последнего, эпоха - беспросветное время мировой ночи.
Незадолго до смерти Мартин Хайдеггер дал большое интервью журналу «Шпигель». В нем он подвел - упрощенно, но вряд ли поступаясь сутью - итоги своих философских «вопрошаний».
«Только Бог может нас спасти. Единственную возможность спасения я вижу в том, чтобы <...> приуготовлять готовность к явлению Бога либо же к отсутствию Бога в гибели, - чтобы мы, говоря грубо, не "подыхали", а уж если погибали, то перед лицом отсутствующего Бога». Позади остались десятилетия метаний, вдохновенные уходы в сумеречную доэллинскую архаику. Перед читателем предстал давнишний выпускник иезуитского колледжа -
схоластические трактаты нередко начинаются формулой: «Допустим, что Бога нет». Какой вывод делает мыслитель из этого допущения? Рассуждения об этом - далеко за пределами нашей статьи, констатируем лишь очевидное: христианство как проблематика не исчезало из хайдеггеровской философии.
Перейдем к Шпенглеру
«Когда Иисуса привели к Пилату, мир фактов и мир истин встретились непосредственно и непримиримо, в столь ужасающей отчетливости и весомости символики, как ни в одной другой сцене всей мировой истории. В знаменитом вопросе римского прокуратора "Что есть истина?" лежит весь смысл истории <...> И на это не уста, но молчаливое чувство Иисуса ответило иным вопросом, имеющим окончательное значение для мира религии: "Что есть действительность?" Для Пилата она была всем, для него самого - ничем. Иначе и не может вести себя истинная религиозность перед лицом истории и ее сил.»
«Вся мировая история», «весь смысл истории». Эти понятия Шпенглер всегда решительно отрицал: нет мировой истории, уж тем более - нет ее "смысла", перед нами лишь совокупность (не целокупность) нескольких замкнутых культур. Однако главное не в словах: противостояние Пилата и Иисуса действительно оказывается у Шпенглера фундаментальным, и притом не только в пределах «фаустовской» культуры. Не забудем: «Пилатов мир», мир фактов, противостоит у философа не только Иисусу, но и Культуре, остающейся с ходом времени все далее позади. И Шпенглер с подчеркнутой невозмутимостью славит пришедшее царство торговли, реальности, инженерного дела. Пока вдруг не срывается в уже несдерживаемый, мгновенно смещающий и меняющий местами доказательные пласты крик: «Я не могу жить без Гёте, без Шекспира, без старой архитектуры!».
После Шпенглера остались наброски к ненаписанной драме «Иисус»: Распятый воскресает и снова является в мир. «Его отталкивают, так как ему нечего ответить на вопрос, православный ли он, католик или протестант <...> Какой-то кинооператор замечает его и предлагает ему сняться в фильме <. > Священники бранятся и упрекают друг друга <. > Иисус спрашивает консисторского советника, во что же он сам верит? "Это зависит от религии катехизиса, - а также от экспертов синодальной коллегии Саксонской области"»6.
Отношения с христианством Эрнста Юнгера складывались сложнее: идеи «космической революции» долго держали писателя в своей власти. В наше время, по Юнгеру, происходит новая смена гештальта богов, они вновь вторгаются в мир из природы и космоса; знаменитый юнгеровский «гештальт рабочего» - новое явление раскованного Прометея. «Вулканизм будет возрастать. Земля породит не только новые виды, но и новые роды. Сверхчеловек еще относится к видам <.. > Крушение богов пока еще не завершилось: материальная атака на мир предков с его князьями, священниками и героями <...> Гесиод и "Эдда" обретают актуальность». Наш скептически-рациональный ум склонен отмахиваться от подобных переживаний, относя их к отграниченному от реальности миру художественных образов, вымыслов, как бы классифицируя их по ведомству артистической богемы. Но в немецком воздухе прошлого века границы между вымыслом и реальностью оказались угрожающе стерты, и иррациональное властно подчинило себе жизнь. Гёльдерлиновские видения, обладавшие статусом религиозной реальности в мире впавшего в окончательное безумие поэта, определяли в прошлом веке состояние больной культуры.
«В эпоху, такую бедную оригинальными умами, Бого - одно из тех знакомств, над которыми я много размышлял. Большая часть молодых интеллектуалов поколения, возмужавшего после Великой войны (1914-1918 гг. - В. С.), прошли через его школу. Ныне подтвердилось мое давнее подозрение: он основал Церковь. Сейчас он отошел от догматической части и уже очень далеко продвинулся в создании литургии. Он показал мне серию песнопений и цикл праздников "языческий год", включающий в себя точный распорядок богов, животных, цветов, блюд, камней и растений». Под именем Бого в «Парижских дневниках» 1943 г. Юнгер зашифровал профессора Гильшера. Духовное влияние этого интеллектуала и впрямь было значительным.
. На одном из нюрнбергских процессов был приговорен к смерти за убийство тысяч цыган эсэсовский полковник Зиверс. У свидетелей процесса осталось от него чувство неудовлетворенности: судьи и обвиняемый просто не понимали друг друга. Убийство поражало: оно было методичным, бескорыстным и абсолютно бессмысленным. Зиверс не пытался оправдываться, он словно бы отсутствовал в зале и слышал иные голоса. Гильшер явился в суд, чтобы свидетельствовать в пользу своего ученика; он пустился в рассуждения о переселениях и древних расах - рассуждения, которые были сочтены умышленно абсурдными. Профессор проводил
своего ученика к виселице, и они долго молились по неведомому страже ритуалу.
Эрнст Юнгер прожил 103-летнюю жизнь. Мы лучше знаем первую ее часть - певца «стальных гроз», «крови и огня». Но вот что писал он потом - уже на исходе лет, в очерке «Вокруг Синая»: «Возможно, конечно, что человеческий род возник посреди миллиарда других возможностей благодаря простой удаче. Но, может быть, лотерея еще не закончена и возможны и другие сюрпризы? Может быть, они будут лучше прежних? Печаль, непрерывно сопровождающая человечество, уже нашла выражение в Девяностом псалме (в православной традиции это псалом 89-й. - В. С.): "Господи! Ты нам прибежище в род и род"».
Общеевропейское обезбоживание не было принято немцами с комфортабельным равнодушием, оно рождало ледяной ужас в великих умах. Ницшевская линия продолжилась и в XX в.; но реакция на нее в России оказалась уже другой. Кто только ни писал о «самом русском» философе: о влиянии Ницше на их религиозные пути говорили Франк, Бердяев, Булгаков, Волынский, Мережковский. В сегодняшней России религиозные смыслы немецкой консервативной революции никого больше, похоже, не интересуют, и меньше всего почитателей ее. Прошел век, - и нашу невозмутимую православность опыт европейских гениев уже не задевает.
Консервативная революция и Карл Шмитт. Фашизм
В интересующем нас круге маститых авторов был все же один, которого нисколько не волновала вся эта метафизическая суета. Выходец из католической среды, автор большой работы «Римский католицизм и политическая форма», поклонник знаменитых католических мыслителей Д. Кортеса7 и де Местра, юрист и государствовед Карл Шмитт сущностно религиозными вопросами никогда не интересовался. Верил он только и исключительно в силу, - и когда Шмитт, разочаровавшись в мощи и незыблемости католицизма, пошел служить Гитлеру, в этом для него не было никакой измены себе.
Кем был Шмитт? Поклонники, а их сегодня немало, пишут о нем как о глубоком мыслителе, существенно повлиявшем на политическую жизнь Германии между мировыми войнами. Уже сам круг тем этого автора, практически сводящийся к теориям государства и права, исключал возможность какого-либо глубокого и широкого влияния с его стороны. Можно высоко ценить его труды.
Но невозможно представить их себе как «полномочное» выражение взглядов консервативных революционеров - на религию, культуру, метафизику нации и государства. Между тем именно такими полномочиями Шмитт оказался наделен сегодня. О консервативной революции «на примере Шмитта» пишут ее непримиримые противники, объективные исследователи и верные друзья. Ситуация предстает еще удивительнее, если учесть, что некоторые серьезные авторы саму принадлежность Шмитта к консервативным революционерам аргументированно отрицают. «Шмитт -критик политического романтизма - никогда не мог быть в числе его идейных наследников», - пишет, например, один из исследователей8. Можно указать и другие существенные признаки, по которым взгляды юриста Шмитта и консервативных революционеров значительно разнятся.
Объяснение чрезвычайно просто. Из значительных мыслителей консервативно-революционного круга Шмитт - единственный, которого без натяжек можно назвать фашизоидным. Это определение требует уточнений, но против сути дела все-таки не грешит.
Что такое, в конце концов, фашизм? У теории и режимов, которые, подчеркнуто отграничивая их от нацизма и расизма, рекомендуют ныне под этим именем, есть один ясный определяющий признак: фашизм - это государствопоклонничество. Это всего лишь этатизм, но неведомый в такой степени прошлому, возведенный в абсурдно-религиозную степень.
Сегодняшнее примирение части интеллектуальной элиты с фашизмом базируется, по сути, на двух принципах. Лозунги фашизма во многом приемлемы: общественное и национальное единение; не национализируемое, однако регулируемое производство. Почти все отталкивающее, что ассоциировалось вчера с фашизмом, - не на его, а на нацистском счету. И эта констатация может показаться даже убедительной, но лишь на первый взгляд. Судить о политическом движении по его лозунгам после XX в. довольно наивно. И еще более странно хвалить его за то, чего в нем, оказывается, не было. По этой логике можно превозносить Гитлера за непроведение коллективизации, а Сталина - за отсутствие газовых камер. Разумный критерий оценки, на наш взгляд, может быть лишь один: а что хорошего было в этой политической системе? Чем на практике, а не в лозунгах она вписала свое имя в историю?
Ответ на этот вопрос весьма прост. Фашистские диктатуры, имевшие, как казалось, в своих руках все возможности, никакие
структурные реформы осуществить не смогли. Крах почти всех фашистских режимов во Второй мировой войне не позволяет рассмотреть возможный дальнейший ход их развития. Но сам этот крах закономерен: по различным причинам, но вполне единообразно эти режимы связали себя с гитлеризмом (хоть Муссолини в 30-е годы еще стремился к союзу с Западом). А уделом уцелевшей Португалии (соседняя Испания католика Франко фашистской страной не была) стала беспросветная стагнация, вполне аналогичная развитому социализму.
Фашизоидность ряда нынешних интеллектуалов не свидетельствует об их кровожадности или же мракобесии. Она говорит всего лишь о полной их безответственности, нежелании знать, куда хорошие фашистские лозунги закономерно заводят государство и народ.
В писаниях Шмитта есть, однако, мотивы, ставящие его политическое творчество далеко за умеренную фашистскую грань.
Время от времени в российской публицистике разгораются споры: что является образующей силой - государство или народ? Перед нами всегда оказывается не спор об истории. Ясно, что исторических, фактических аргументов в пользу «народного» происхождения России или какой-либо континентальной западноевропейской страны нет и не может быть: «воля народа», «сила народа» - это не сколько-нибудь точные термины. Перед нами символы веры. И если «этатизм» в сегодняшнем словоупотреблении часто имеет негативный оттенок, то с народоверием дело обстоит по-другому: «Да, народ не всегда прав, но все-таки.».
Перед нами иная форма язычества, намного более зловещая и опасная, чем этатизм. Идол-Государство лишен иррационально-магических, глубинно религиозных черт. От Государства ждут довольства, сытости, стабильности, порядка - и поклонение такому божку носит рационально исчислимый, трезвый характер. Если идол прикажет жестоко карать нарушителей спокойствия и закона, необходимо подчиниться: нарушителей и следует карать, а как именно - ему виднее. Но у него нет власти свыше повелеть части подданных ограбить и вырезать другую их часть; такие полномочия за ним не будут признаны.
Между тем нет преступления, которого нельзя было бы совершить именем народа. Именем Бога, справедливости или права сотворить все это было бы невозможно, - так, помнится, подытожил бытие Третьего рейха Томас Манн; вряд ли какой-либо европейский гуманист решился бы до войны на такую крамольную фразу.
В своей подробной классификации консервативных революционеров Армин Молер выделяет, в частности, «народников» и «государственников». Мы не знаем, велись ли между ними споры о приоритетности одного из этих двух понятий. Но обращает на себя внимание выразительный факт: «народники» оказались единственной, по сути, частью движения, принявшей Гитлера, вписавшейся в состав его интеллектуальной элиты.
Там оказался и Карл Шмитт. С безукоризненной логичностью он и ранее обосновывал законность выделения «народом-сувереном» из своих недр - через понятие «чрезвычайного положения» -истинной Диктатуры. Карл Шмитт по-своему прав. Достаточно лишь, приняв руссоистское положение о «народе-суверене», со шмиттовской неуклонной последовательностью разработать его -и в выводах с видным юристом невозможно будет не согласиться.
Легитимному диктатору Рейха эти изысканные построения не понадобились. Но они не пропали даром: их с готовностью берет на вооружение постсоветский неоконсерватизм. Тревожно наблюдать, как в существенном вопросе о «государстве - народе» нынешние «новые правые» солидаризуются с крайней, нациствующей частью консервативных революционеров 20-х годов.
«Никакого американского будущего!»
Излагать идеи консервативных революционеров - занятие неблагодарное: авторы эти принадлежат к тому, немецкому по преимуществу, мыслительному направлению, где убедительнейшее доказательство - образ, где неразрывны содержание и стиль. Понятие для них лишь «мертвый кристалл мысли, слово - ее живой цветок». Перед нами не доказательная аргументация, скорее магический гипноз словесных внушений, «условная сигнализация в душу читателя, сообщение ему своих знаний о жизни, мире и познании» (так характеризовал подобное мышление блестящий знаток немецкой культурфилософии Федор Степун). Вот и попробуйте-ка сухо и деловито пересказать подобные сигналы. В главной теме консервативно-революционной школы, теме европейского будущего, сошлось много очень разного по своему существу. Но, как бы то ни было, общим знаменателем разноуровневых рассуждений консервативных революционеров стала брошенная еще Фридрихом Ницше мысль: «Мелочность духа, идущая из Англии, представляет нынче для мира великую опасность <...> Мы нуждаемся в безусловном сближении с Россией и в новой общей программе,
которая не допустит в России господства английских трафаретов. Никакого американского будущего! Сращение немецкой и славянской расы».
Идеи консервативной революции четко сформулированы в «Пруссизме и социализме» Шпенглера. Мы изложим их, в основном следуя этой емкой брошюре.
«Мировая война на закате западной культуры - это великий спор двух германских идей, которые, как все истинные идеи, не высказывались, а переживались <. > По корню своему прусский народ ближе всего родственен английскому <. > Но из духа викингов и монашеских орденов немецкого рыцарства медленно развились две прямо противоположные нравственные заповеди <. > личная независимость и сверхличная общность. Ныне их называют индивидуализмом и социализмом <. > Быть свободным и служить - нет ничего труднее того и другого, и народы, дух и бытие которых основаны на одном из этих свойств, достойны великой судьбы. Служба - это проявление старопрусского духа <.. > Не каждый стоит за себя, а все за всех <. > Дух пиратов уже в позднее время увлек в американские прерии всех тех, в чьих жилах текла еще кровь викингов; это было позднейшим продолжением путешествия времен Эдды <. > Так сложились английский и прусский типы, это различие между народом, который развивался, чувствуя себя островитянином, и другим народом, который вынужден был беспрестанно охранять свою территорию, со всех сторон открытую для врагов. В Англии остров заменил собой государственную организацию <. > Английский народ создался сам, прусский же - создание Гогенцоллернов...» И этим противостоянием определяется все. «В Англии либерал - цельная натура, свободная этически, а потому и в делах. Он вполне сознает эту связь <...> Мы же, немцы, так созданы, что не можем быть англичанами, а лишь карикатурами на англичан <. > В Германии презрение вызывает только либерализм <. > Без внутреннего воспитания, без глубины живого бытия, без малейшего понятия о напряженной активности и уверенности в своих целях английского либерализма - этот либерализм всегда лежал лишь камнем на нашем пути». Различны - английское и немецкое понятия свободы. «Частное лицо - это понятие обозначает сумму этических свойств, которым, как всему ценному в этическом отношении, нельзя научиться; они в крови, и в целом ряде поколений они медленно совершенствуются. Английская политика - это политика частных лиц и групповых соединений таких лиц. Именно это, и ничто другое,
обозначает термин "парламентское представительство" <...> Немецкий же либерализм в своем нравственном ничтожестве только отрицает государство, не имея способности оправдать свое отрицание <...> Сообщество из "Я" без пафоса сильного, однородного чувства жизни всегда немного смешно.» Но не способный к индивидуальной свободе немец обладает иной, высшего порядка, свободой. «В небольших кружках царил истинный дух единения; вся жизнь признавалась служением; этот жалкий обрывок земного существования в юдоли печали приобретал смысл только в связи с более высокой задачей. Здесь, в Пруссии, рос новый человек, духовно сильный носитель новой религиозности. Глубокое презрение к одному лишь богатству, к роскоши, к удобству, к "счастью" <.> Никогда не поймет англичанин и весь свет не понимает, что с прусским духом связана глубокая внутренняя независимость. Система социальных обязанностей обеспечивает человеку с широким кругозором суверенитет его внутреннего мира, который несоединим с системой социальных прав, воплощающей индивидуалистический идеал».
Перед нами вековая мечта немецкого консерватизма - мечта о внутренней свободе под охраной сильного просвещенного государства.
Различны - два великих хозяйственных принципа немцев и англичан. «От викинга произошел сторонник свободной торговли, от рыцаря - чиновник-администратор. Примирения здесь быть не может <. > Должно ли мировое хозяйство быть всемирной эксплуатацией или всемирной организацией?»
И далее, и далее. «Немецкий либерализм <.> взял как цель из единства английской сущности одну лишь идею чисто хозяйственной диктатуры частного богатства без ее нравственного содержания <.> Он требует чистого парламентаризма не потому, что он стремится к свободному государству, а потому, что он не хочет иметь никакого государства и знает так же хорошо, как Англия, что предрасположенный к социализму народ, переодетый в чужое платье, - теряет дееспособность».
А вот вкратце и выводы. «Мы знаем теперь, что поставлено на карту: не одна лишь немецкая судьба, но судьба всей цивилизации. Это решающий вопрос не только для Германии, но для мира, и он должен быть разрешен в Германии для всего мира: должна ли в будущем торговля управлять государством или государство торговлей?»
Со всеми этими идеями мы до некоторой степени знакомы -в той вульгаризованной их форме, в которую, можно сказать, и заключено политическое мировоззрение постсоветского консерватизма. Но что означает подобное знакомство: передает оно суть или, напротив, огрубляет и искажает ее? Для ответа надо присмотреться к отличиям предтоталитарного литературного первообраза от посттоталитарной идеологической действительности.
У ведущих консервативных революционеров нет ни народо-верия, ни плоского этатизма. Сильное, авторитарное государство для них не самоцель, оно лишь форма, необходимая для сохранения культуры и личности. Достаточно обоснованное обвинение в куль-турпоклонничестве, которое подчас бросают немецким младокон-серваторам той поры, снимает поверхностные упреки в этатизме: этим двум богам, Государству и Культуре, одновременно поклоняться - не получится. Личность же мыслилась немцами не в правовом, единственно воспринимаемом сегодняшним сознанием аспекте, а в сложном ее единении с макрокосмом Культуры. И сильное государство призвано было, в их построениях, защитить внутреннюю свободу такой личности от внешних угроз, в том числе и от той растрачивающей и обезличивающей политико-избирательной суеты, которая «по английским понятиям» равносильна самой свободе. Парламентская пошлость лишает личность чести и достоинства! - негодующе писал создатель романтической теории сословно-корпоративного государства Отмар Шпанн.
Давайте посмотрим вначале на отношение младокосерва-торов к «исконным врагам», англичанам. На уровне одной фразы, афоризма перед нами - лишь психологически понятное презрение «солдата» к «торгашу». Но развернутые рассуждения дают другую картину: перед нами высокий человеческий тип, нисколько не уступающий немецкому. Он просто иной - и становится смертельно враждебным лишь тогда, когда немцам и всему миру навязывают это иное.
«Тори и виги - прежде всего джентльмены, члены одного и того же избранного общества с его достойным удивления единством жизненного уклада <.. > Британский парламентаризм был старой, зрелой, благородной, бесконечно утонченной формой; чтобы владеть ею в совершенстве, необходим был весь такт английского джентльмена...» Представим себе, что наши американофобы так пишут о своем противнике - или хотя бы, как в последнем отрывке, о его прошлом. В этом случае в самоё атмосферу политической жизни России они вносили бы иной, чем ныне, вклад.
Посмотрим на отношение консервативных революционеров к другим народам и странам. Англия? - это мы видели выше. Испания? - страна, которая по духу своему оказывается старшей родственницей Германии. «Вена - создание испанского духа <.> Бисмарк был последним государственным деятелем испанского склада». Франция? - «с упадком Франции гибнет западная культура.».
Особое же место в таких построениях занимает Россия. Любимую мысль русских консерваторов - о взаимопритяжении, о родстве наших двух стран в противостоянии их всеизмельчаю-щему прогрессу - мировые войны отодвинули в космически удаленное прошлое, мы как что-то неотмирное встречаем ее в книгах вековой давности. Но в сочинениях младоконсерваторов эта мысль еще успела прозвучать в полную силу. Происхождение же ее -намного более раннее.
«Меняю все счастье Запада на русский лад быть печальным». По этим словам нелегко опознать сочинявшего себе славянскую родословную Ницше. Как и Шпенглера - по словам о «детски-туманной и полной предчувствий России <.> замученной, разоренной, израненной, отравленной "Европой".». О стране, дух которой «знаменует собой обещание грядущей культуры, между тем как вечерние тени на Западе становятся все длиннее и длиннее. Русский дух отодвинет в сторону западное развитие и через Византию непосредственно примкнет к Иерусалиму.».
Но у России и Германии не только общее внепрогрессисское будущее. У них и общее прошлое: многие глубокие мысли консервативных революционеров имеют русские корни. Так, влияние Достоевского - «святого в навязанном ему Западом бессмысленном и смешном образе писателя романов»10 - отдельная огромная тема.
Наконец, при рассмотрении немецкой консервативной революции «как» не менее важно, чем «что». Какова же была тогда магическая консервативно-революционная «аргументация»?
«Ибо опошлилось само время, и многие даже не знают, в какой степени это относится к ним самим. Дурные манеры всех парламентов, общая тенденция участвовать в не очень чистоплотных сделках, сулящих легкую наживу, джаз и негритянские танцы, ставшие выражением души самых различных кругов <.> все это доказывает, что чернь стала задавать тон. Но пока здесь смеются над благородными формами и старыми обычаями <. > там, на противоположном конце, разжигают ненависть, жаждущую уничтожения, зависть ко всему, что не всякому доступно, что выделяется своим превосходством и оттого подлежит ниспровержению <.>
Какое-нибудь одно аристократически выточенное лицо, какая-нибудь одна узкая стопа, с легкостью и изяществом отрывающаяся от мостовой, противоречит всякой демократии.»
Шпенглеру вторит Эрнст Юнгер, его убийственный аргумент: парламентаризм нерыцарственен! А кроме того. «Упадок в свойственной массам манере одеваться соответствует упадку индивидуальной физиогномики. Наверное, нет другой эпохи, когда люди одевались бы так плохо и так безвкусно, как сейчас. Впечатление такое, будто содержимое огромной барахолки заполнило своим дешевым разнообразием улицы и площади, где и донашивается с гротескным достоинством. Бюргерская одежда делает фигуру немца особенно нелепой <.> Причина этого бросающегося в глаза явления заключается в том, что по сути своей немец лишен какого бы то ни было отношения к индивидуальной свободе, а тем самым и к бюргерскому обществу».
На какой же слой общества были рассчитаны эти абсолютно леонтьевские писания? Как ни странно, на не такой уж узкий: довоенная Германия была уникально культурной страной. Но все-таки не читатели Юнгера и ван ден Брука11 решительно определяли в это время ее судьбу.
«Но не эти дни мы ждали»
Как консервативные революционеры представляли себе пути реализации своих идей? «До Гёте мы, немцы, больше никогда не дойдем, но можем дойти до Цезаря», - как всегда, не весьма оптимистично, но зато весьма глобально рассуждал Шпенглер.
К власти тем временем уверенно шел нацизм. Сколь ответственны консервативные революционеры за его приход? Есть два полярно противоположных ответа. Одни утверждают: идеи младо-консерваторов при адаптации их к реальности ни к чему иному и не могли привести. Другие, и в их числе весьма авторитетный, хотя и небеспристрастный Молер, категорично доказывают: ни на каком этапе младоконсерваторы и гитлеровцы не нуждались друг в друге и друг друга не поддерживали. Оба эти утверждения частично верны. «В эпоху материализма <.> война должна нам представить все то, что составляет великое, сильное, прекрасное. Она представлялась нам мужественным подвигом, радостным поединком стрельцов на цветущем, орошенном кровью лугу», - писал позднее Эрнст Юнгер. Представляли так - войну и получили. Но посмотрим теперь на вопрос с другой стороны: к чему были
нацистам консервативные революционеры? К «Закату Европы» оптимисты-гитлеровцы относились резко отрицательно; Юнгера, едва придя к власти, начали свирепо одергивать. О существовании главного теоретика тоталитаризма Карла Шмитта фюрер, похоже, так никогда и не узнал, ни к чему ему были юридические премудрости.
Но давайте переведем проблему на язык нашей истории. Повинен ли Серебряный век в уничтожении исторической России? Поставленный так, вопрос звучит достаточно нелепо. Однако роль художественной элиты в создании в стране апокалиптически-мессианских, революционных настроений была весьма велика.
Как воспринимали победное шествие нацизма консервативные революционеры? К Гитлеру они относились со смешанным чувством презрения и надежды. На Цезаря расчетливый политикан не тянул, и использование им парламентского пути к власти Юнгер именовал очередным проявлением ослиного нрава: диктатору надлежало въехать на каком-нибудь белом коне. И вот родилась новая теория. Ефрейтор свергнет ненавистный Веймар. А затем - затем произойдет истинная революция, она сметет новую пошлость и грязь.
Это было утешительно - и первое действие подтверждало прогнозы: Гитлер у власти! Позади веймарское болото, немецкое унижение и позор! Вряд ли кто поверил бы тогда, что унижение и позор впереди несравнимо большие. Но пока - все приветствуют фюрера, и вот уже Юнгер преподносит ему свою новую книгу «Огонь и кровь». Одну из ликующих толп ведет молодой офицер Клаус фон Штауфенберг, его имя войдет в историю: он возглавит единственную в Германии попытку уничтожить нацизм. Однако и до этого пока еще далеко.
Среди консервативных революционеров был лишь один человек, чье отношение к нацистам было устойчиво отрицательным. Шпенглер рано понял, что гитлеровское лекарство грозит оказаться похлеще, чем веймарская болезнь. «Я вижу все еще одну последнюю возможность: повернуть дело так, чтобы промышленники наконец решительным образом взяли в свои руки политические гарантии. Иначе нам не избежать кровавого события, которое однажды случится», - пишет философ в 1923 г. крупному промышленнику П. Ройшу. И тогда же он обращается к главнокомандующему силами рейхсвера генералу Секту: Гитлер опасен для Германии, надо принять все меры для национального спасения. Реакции не последовало.
События развиваются с каким-то мрачным юмором. «Мне говорили, - писала Шпенглеру Э. Фёрстер-Ницше, сестра покойного мыслителя, - что Вы встали в энергичную оппозицию к Третьему Рейху и его фюреру <.> Теперь же я и сама услышала от Вас, сколь энергично Вы высказываетесь против высокочтимого нового идеала. Но как раз этого я не могу взять в толк. Разве не сулит наш искренне почитаемый фюрер Третьему Рейху те же идеалы и ценности, о которых у Вас шла речь в "Пруссизме и социализме"? Откуда же в Вас теперь такое противоречие?» Не только «злобная антисемитская дурра», как Ницше титуловал свою сестрицу, усматривала в шпенглеровской позиции противоречие; при всей дубовости подобной логики ситуация требовала объяснений. «Если посадить обезьяну за рояль играть Бетховена, она лишь разобьет клавиши и разорвет ноты. Они не поняли идей -для этого нужны мозги. Они их растоптали, поругали, опорочили, умалили до хулиганских фраз», - отчаянно обороняется мыслитель. Некоторые новые записи ненавистника парламентаризма поражают. «Партия по самой своей сути есть коррупция. Дело еще ладится, покуда различные партии не спускают друг с друга глаз. Одна партия, лишенная контроля, подавляет каждый намек на критику и правду в прессе, книгах, общественности, вплоть до разговоров в кругу семьи, так как само существование этой банды кровопийц покоится на молчании жертв». Позади остались изящные рассуждения о красоте, легкости, узкой стопе. Демократия была плоха. Диктатура оказалась много хуже.
Геббельс дважды просит философа с мировым именем поддержать фюрера - оба раза следует отказ. И немедленно начинается травля. Вскоре имя «воспитателя Германии» попросту запретили упоминать в прессе этой страны.
Судьба Хайдеггера была иной: попытки найти с нацизмом общий язык растянулись на несколько месяцев. Найти не удалось: от интеллигента, с чем-то согласного, а что-то готового уступить, быстро стали требовать совсем иного. Избранный ректором Фрей-бургского университета, философ пытается отстоять автономность науки и вскоре уходит с поста. «Возвращение из Сиракуз» - так прокомментировал окончание эпопеи один из сохранивших разум коллег. История повторяется, и платоновские попытки вразумить тирана столь же бесплодны в наше время, как и тысячи лет назад.
Дистанцируется от режима и Юнгер, он поселяется в провинции, опекая семью арестованного фронтового друга. Такое поведение смотрится вызовом. Юнгеру от имени фюрера пред-
лагают пост депутата рейхстага, почетное место члена Академии искусств. Писатель отказывается, реакцией становится гестаповский обыск у него в доме.
Но этих людей охраняло мировое имя, до полного пренебрежения подобным фактором в Рейхе дело не дошло. У других же такой защиты не было. Эдгар Юнг гневно обличал веймарскую демократию - «господство неполноценных». Но вот господство неполноценных становится наконец законченным. Юнг пытается сопротивляться, выступать против Гитлера - и в 1934 г. расстрелян.
«Консервативные революционеры отшатнулись от гитлеров-щины, оставшись на позициях респектабельного цезаризма. Они исчезли с политической сцены, а их прогноз истинной революции не осуществился»12. Так нередко пишут. Последний тезис, однако, неверен: консервативная революция в Германии все-таки состоялась. Длилась она один день (и была подавлена с редкой даже для Гитлера жестокостью). Но не только поэтому мы не замечаем ее.
Двадцатое июля 1944 г.
В этот день на совещании в Ставке полковник генерального штаба фон Штауфенберг поставил под стол фюрера портфель с бомбой. Покушение оказалось неудачным, Гитлер не пострадал. Полковник был схвачен и со странной поспешностью расстрелян. Перед смертью он выкрикнул слова о вечной Германии, кого-то из немецких романтиков.
На всех территориях Рейха начались расправы. Были арестованы тысячи людей, удары направлялись в основном против аристократии и военных. Арестованных приговаривали к виселице или расстрелу. Какая участь в действительности ждала многих из них, выяснилось позднее.
Но и во всем этом хватало странностей. Многим предлагали выбор: быть арестованным или покончить с собой. Боевые офицеры и генералы выбирали, естественно, второе. Было неясно, чего больше жаждут карательные службы: с корнем вырвать заразу или скрыть ее масштабы и суть. В том числе и от себя самих.
Гитлеру удалось обескровить собственную армию, он повторил сталинский опыт. Правда, на ход войны это уже не влияло. Но восточного собрата ему удалось даже перещеголять. Арестованных, приговоренных к виселице, медленно душили фортепьянными струнами. Обезьяны нашли наконец для музыкального инструмента достойное применение.
Среди расстрелянных в Моабите был сын Карла Хаусхофера, духовного лидера Общества Туле. В окровавленной одежде молодого поэта нашли стихи. Он просил Бога пощадить своего отца: не ведая, что творит, тот распахнул двери ада.
К следствию был привлечен и Эрнст Юнгер. Доказательств его вины не нашли, и дело ограничилось увольнением из армии героя всех высших наград Первой мировой войны.
Несколько десятилетий спустя в демократической Германии развернулась волнующая дискуссия. Кто был Штауфенберг: можно ли считать его героем, ведь он был человеком реакционных взглядов? Тоталитарное столетие требовало простых и ясных классификаций. Нехорошему Гитлеру должен был противостоять хороший и надежный, прогрессивный человек. Для непрогрессивных рубрика предусмотрена не была. Проще всего было отнести их туда же, в гитлеровский стан.
Такая нехитрая операция проделывалась не раз, но со Штау-фенбергом она явно не проходила. В конечном счете немцам удалось не опозорить себя, и в Берлине графу поставлен памятник. Но эта история лишний раз оттеняет суть вопроса: кто же были по своим взглядам Штауфенберг и его друзья? Едва ли не у каждого пятого из казненных перед фамилией стоит частица «фон». Демократия в этой среде популярностью не пользовалась. Но и нацизм - тоже.
Перед нами консервативные революционеры - если термин этот относить не только к десяткам авторов, но и к читателям их. Тот немецкий культурный слой, который давно вычеркнут из истории. Недострелянный Гитлером, он туповатой денацификацией был морально добит.
Заговор против Гитлера был единственной политической акцией консервативных революционеров. Планы заговорщиков вынашивались долго, по меньшей мере с 1942-го. Поэтому для нас имеет смысл их программу рассмотреть.
Она была несложна. Нацисты не уничтожили традиционные немецкие институты, они лишь подмяли и частично подменили их. Поэтому внутри страны уничтожение нацизма уже решало многое. А оно в свой черед сводилось, по замыслу заговорщиков, к уничтожению Гитлера: НСДАП не была руководящей и направляющей силой, все держалось на личном авторитете фюрера, и после его устранения роспуск партии должен был пройти без особых осложнений. Ясна была и внешнеполитическая стратегия: кончить войну. Под крышей военной разведки (одним из заговорщиков был ее
руководитель адмирал Канарис) Штауфенберг наладил контакты с западными союзниками: если нацистов не будет, то зачем им с Германией и воевать? В войне будет заинтересован лишь Сталин. Но переговоры с ним и не предполагались: с помощью дружественной Германии русские скинут большевизм и переговоры будут идти с национальным правительством. Пытаясь реализовать эти планы, Штауфенберг, вопреки прямым гитлеровским запретам, содействовал созданию в России антисталинских военных формирований.
Так немецкие консерваторы встали на сторону демократии, против двух диктатур. Это не было вопросом вкусового выбора. За них распорядилась история.
Но этот выбор не был взаимным: союзники никакого интереса к переговорам не проявляли, они жаждали сокрушения Германии и не желали разбираться во всяких тонкостях. Несвоевременная «культура замков» оказалась в войне демократий с гитлеризмом в причудливом положении третьей силы. Противостоящая нацизму и отождествленная с ним, она никогда уже не смогла заявить о себе.
Консервативная революция осталась в истории последним ярким явлением немецкого романтизма. Западу нет до него дела, немцам, кажется, уже тоже. Оставлено это явление - нам, у России еще есть силы впитать его и обогатиться им. Но все это нисколько нас не интересует.
А еще запечатлелась консервативная революция - сокрушительным опытом политического поражения. Примером того, как не надо. Как все равно не получится.
И этот-то опыт мы считаем примером для себя и хотим повторить!
Примечания
1 Breuer St. Anatomie der Konservativen Revolution. - Darmstadt, 1993. - S. 181.
2 Möhler A. Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Grundri Hihrer Weltanschauungen. - Stuttgart, 1950.
3 He оговорка: Томас Манн в 20-х годах - убежденный, последовательный почвенник. Позже - в «Докторе Фаустусе», интеллектуально-психопатологической интерпретации немецкой духовной драмы, - писатель разделывается именно с настроениями собственной молодости.
4 См. в журнале: В мире книг. - М., 1975. - № 6. - С. 73.
5 Хайдеггер М. Проселок // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. -М.: Гнозис, 1993. - С. 240.
6 Свасьян К.А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // Шпенглер О. Закат Европы: В 2 т. - М.: Мысль, 1993. - Т. 2. - С. 101.
7 Русскому читателю Доносо Кортес известен в основном по резкой полемике с ним Александра Герцена («С того берега»).
8 Bendersky J. Carl Schmitt and the Conservative Revolution // Telos. - 1987. - N 72. -P. 27-42. (Цит. по: Филиппов А. Карл Шмитт. Расцвет и катастрофа // Шмитт К. Политическая теология. - М.: КАНОН-пресс-Ц: Кучково поле, 2000. - С. 295.)
9 Положение несколько изменилось в 1943 г.: Нацистские лидеры заговорили о «Крепости "Европа"», а к официальному культу Фридриха Барбароссы присоединился культ Карла Великого. Впрочем, эти предсмертные шарахания так и не вышли из стадии верхушечного эксперимента, и принцип Гитлера «Нацизм -не предмет для экспорта!» по-прежнему действовал в полную силу.
10 Это тоже - из «Пруссизма...».
11 Это имя уже упоминалось нами выше. Артур Мёллерванден Брук - один из ведущих немецких специалистов по Достоевскому, ключевая фигура.
12 В подобной оценке консервативных революционеров фактически солидаризуются столь различные по своему подходу к проблеме исследователи, как Свасьян К. Указ. соч. - С. 109 и Люкс Л. Третий Рим? Третий рейх? Третий путь? Исторические очерки о России, Германии и Западе. - М.: Моск. философский фонд, 2002. - С. 99, 156-157, 283.





 CC BY
CC BY 68
68