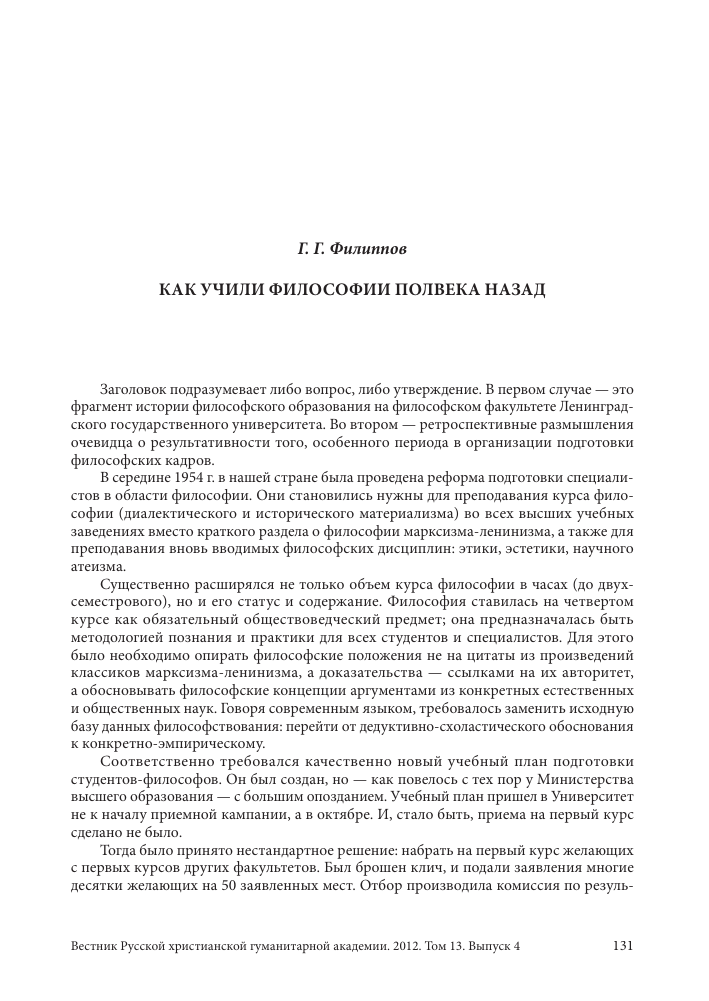Г. Г. Филиппов КАК УЧИЛИ ФИЛОСОФИИ ПОЛВЕКА НАЗАД
Заголовок подразумевает либо вопрос, либо утверждение. В первом случае — это фрагмент истории философского образования на философском факультете Ленинградского государственного университета. Во втором — ретроспективные размышления очевидца о результативности того, особенного периода в организации подготовки философских кадров.
В середине 1954 г. в нашей стране была проведена реформа подготовки специалистов в области философии. Они становились нужны для преподавания курса философии (диалектического и исторического материализма) во всех высших учебных заведениях вместо краткого раздела о философии марксизма-ленинизма, а также для преподавания вновь вводимых философских дисциплин: этики, эстетики, научного атеизма.
Существенно расширялся не только объем курса философии в часах (до двухсеместрового), но и его статус и содержание. Философия ставилась на четвертом курсе как обязательный обществоведческий предмет; она предназначалась быть методологией познания и практики для всех студентов и специалистов. Для этого было необходимо опирать философские положения не на цитаты из произведений классиков марксизма-ленинизма, а доказательства — ссылками на их авторитет, а обосновывать философские концепции аргументами из конкретных естественных и общественных наук. Говоря современным языком, требовалось заменить исходную базу данных философствования: перейти от дедуктивно-схоластического обоснования к конкретно-эмпирическому.
Соответственно требовался качественно новый учебный план подготовки студентов-философов. Он был создан, но — как повелось с тех пор у Министерства высшего образования — с большим опозданием. Учебный план пришел в Университет не к началу приемной кампании, а в октябре. И, стало быть, приема на первый курс сделано не было.
Тогда было принято нестандартное решение: набрать на первый курс желающих с первых курсов других факультетов. Был брошен клич, и подали заявления многие десятки желающих на 50 заявленных мест. Отбор производила комиссия по резуль-
Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2012. Том 13. Выпуск 4
131
татам вступительных экзаменов этих первокурсников и по итогам собеседования комиссии с каждым персонально.
Надо отметить, что в то время конкурс в Университет был достаточно большой (например, на журналистику — 25 человек на место, на геологический факультет — 26, на экономический факультет — 6 человек, меньше всего был конкурс на юридический факультет, туда можно было поступить и с «тройками»). На исторический факультет, как мне помнится, конкурс составлял человек 8-10. Чтобы поступить на истфак, надо было сдать 5 экзаменов и получить 24 балла из 25. Так что у комиссии были большие возможности выбора, и она всех предупреждала, что учиться будет трудно, ибо программа очень обширна и разнообразна.
Собеседование проводилось не формально, а весьма внимательно и лояльно. Комиссия выясняла прежде всего готовность и способность к обучению с большими нагрузками. Кристальная чистота биографии не требовалась. Оттого в составе зачисленных оказались ребята, побывавшие в оккупации, лица, имевшие репрессированных родственников по политическим статьям. На последующих за нами курсах оказывались даже молодые люди, реабилитированные после заключения по политическим основаниям.
К концу октября набор был сделан, и с начала ноября мы приступили к учебе в составе двух групп: одна большая (около 30 человек) — философы и вторая поменьше (около 15 студентов) — психологи. Группу философов сразу разделили на три специализации: физико-математическую, химико-биологическую и логико-математическую. Каждая специализация продолжалась три года обучения. Ее вели преподаватели соответствующих факультетов нашего Университета.
Учебная программа действительно оказалась очень насыщенной. На первых трех курсах аудиторные занятия продолжались по 38-42 часа в неделю. На каждой неделе ставилось по три, а то и четыре групповых занятия (семинарских, практических, лабораторных). Практические и лабораторные занятия проводились обычно на соответствующих факультетах (математическом, биологическом и пр.) и в университетских исследовательских институтах (НИФИ, НИХИ и пр.).
Учебный план нашего обучения отражен в Приложении к диплому кратко и обобщенно. Там зафиксировано 20 учебных дисциплин, 6 спецкурсов, один семинар, курсовая работа (одна) и один из трех цикловых предметов (физика и математика, или биология и химия, или логика и математическая логика). Всего 20 экзаменов и 10 зачетов, т. е. получается меньше двух экзаменов на семестр и чуть больше одного зачета за девять семестров обучения. Неужто для этого надо было заниматься по 40 часов в неделю?
Ответ простой: учебные дисциплины были объемными, продолжались по 2-4, а то и более семестров, включали большие самостоятельные разделы и отрасли наук, а оценка выводилась одна — общая. Так, «основы современной математики» продолжались два года и включали аналитическую геометрию, дифференциальное исчисление, интегральное исчисление и теорию вероятности, но оценка в Приложении к диплому стоит одна. Так же дело обстояло и с физикой, куда входила и механика, и основы теоретической механики, и основы сопромата, начала квантовой механики и даже математическая физика.
Еще сложнее обстояло дело с общенаучными и общекультурными дисциплинами. Что ни семестр, то — экзамен по очередному разделу длинного курса. История философии продолжалась девять семестров — от древней до современной. Всеобщая
история преподавалась два года с несколькими экзаменами и зачетами. Политическая экономия также длилась два учебных года. Психологию и физиологию изучали мы три семестра, логику — два, введение в языкознание — тоже два семестра. Иностранному языку (первому) учили то ли четыре, то ли шесть семестров с обязательной сдачей «домашнего чтения» по несколько десятков страниц за семестр.
Особо следует отметить, что по всем предметам надо было обязательно конспектировать основную литературу к семинарским занятиям. Преподаватели проверяли, правда, не очень строго. Но отсутствие конспектов считалось фактом невыполнения графика академической успеваемости. Отрабатывать свои упущения приходилось опять-таки конспектами.
Поэтому по совокупности в каждом семестре надо было сдавать по 4-5 экзаменов и по 4-6 зачетов, да еще лабораторные работы. Для желающих добавлялись факультативы, вроде второго языка.
Успевать по всем предметам было нелегко, но учиться было интересно, да и материальный стимул подгонял — стипендия. За учебу с «тройками» давали обычную стипендию — 43 рубля, при том, что комплексный обед в столовой стоил 83 копейки, а место в общежитии — 3 рубля в месяц. Повышенная стипендия (за одни «пятерки») составляла 56 рублей в месяц и позволяла даже немножко пошиковать: за 3-4 рубля посидеть с девушкой вечер в ресторане.
В целом учебный план нацеливал не только на фундаментальную общенаучную подготовку, но и на углубленную специальную — посредством спецкурсов и спецсеминаров. Все это делалось в расчете на перспективу — возможность в будущем преподавать в вузах философию. В то же время в учебном плане закладывалась и дополнительная возможность последующего трудоустройства. Для этого вводился на старших курсах обязательный предмет — «основы культурно-просветительской работы», который читался преподавателями Высшей профсоюзной школы. Этот курс готовил выпускников к деятельности в роли заведующего клубом или культпросветработника (клубного работника), чем, кстати, некоторые выпускники и воспользовались.
Такой насыщенный учебный план, конечно, не укладывался в разумные временные пределы. Но тогда не было жестких лимитов на объемы аудиторных занятий и внеаудиторной работы. И деканат не стеснялся в расширении расписания занятий, а преподаватели — в расширении списка литературы к семинарским занятиям, которую часто можно было найти только в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в студенческом зале на Фонтанке, 36. Поэтому большая часть нашей группы проводила в «публичке» вторую половину дня 3-4 раза в неделю, благо библиотека в то время работала до 23 часов, а трамваи и троллейбусы ходили до часу ночи.
Естественно, далеко не все студенты выдерживали такие нагрузки. Из принятых на первый курс получили диплом чуть больше половины: часть была отчислена за академическую неуспеваемость, некоторые перешли на другие факультеты, иные были отчислены за различные «художества» — политические, уголовные и моральные. Выпускники, получившие диплом с иронически звучавшей специальностью — «философ», в подавляющем большинстве стали в дальнейшем кадровыми преподавателями философских дисциплин, кандидатами и докторами наук.
Такую сложную учебную программу, которую нынче следовало бы назвать модным затасканным словом «инновационной», реализовывала целая когорта преподавателей, как уже ранее работавших на факультете, так и впервые привлеченных с других факуль-
тетов и из других вузов. Мы, студенты, не знали табеля о рангах преподавательского корпуса, мало что слышали о сложностях взаимоотношений кафедр, общественных организаций и преподавательских группировок на философском факультете, который тогда славился в Университете повышенной активностью в написании кляуз и доносов преподавателей друг на друга. Мы еще не усвоили, что в среде интеллигенции нормой жизни является «двойной стандарт», поскольку подавляющее большинство из нас выросли в рабочих, крестьянских и солдатских семьях. К тому же у всех было за спиной военное детство, где суровость повседневности делала невозможной всякие изыски, экивоки и фигурации амбивалентного поведения.
Поэтому мы судили о преподавателях с нашей, тогда невысокой колокольни: знает свой предмет; свободно ориентируется в своей науке; вразумительно и понятно объясняет учебный материал; эрудированно отвечает на наши, часто каверзные вопросы; излагает каждую тему доказательно, не прячась за цитаты и авторитеты; говорит красивым литературным стилем и с юмором (в те времена студенты это особо ценили); не уходит от острых проблем, научных и политических и т. д.
С этих студенческих позиций тех лет, подчеркиваю — тех студенческих времен, запомнилась целая плеяда преподавателей. Она осталась в памяти еще живущих выпускников и в сохраняемых доныне конспектах лекций. Но были и такие, лики и фамилии которых пребывают лишь в канцелярских архивах прошедшего века.
Задал шкалу наших оценок Аркадий Аркадьевич Квасов, который читал нам целый год курс диалектического материализма. Он излагал нам философские положения не как неоспоримые аксиомы, которые надо безоговорочно принять и накрепко заучить, а как обобщения и выводы из конкретных естественных наук, прежде всего физики, математики, химии, физиологии высшей нервной деятельности. Например, проблему соотношения первичных и вторичных качеств он разъяснял нам, разбирая «детский» вопрос — почему небо голубое, а не серо-буро-малиновое в крапинку. Он напоминал нам школьный опыт по физике с рассеянием света, проходящего через стеклянную призму, затем ссылался на закон Релея, который мы проходили в школе по физике в разделе «оптика». Писал формулу закона рассеяния электромагнитных волн при прохождении земной атмосферы, рисовал схему траекторий волн разной длины, показывая длину пути волны, соответствующей голубому свету. А затем ссылался на характер реакции колбочек и палочек человеческого глаза, обеспечивавшей именно такое цветовосприятие. И в заключение делал вывод о небесном цвете как реальном свойстве взаимодействия двух объективных материальных явлений.
Он поражал нас продуктивностью обобщающих (философских) выводов из вроде известных нам из школы конкретных естественно-научных знаний. Говоря о закономерностях развития научного знания, он показывал на доске превращение формул релятивистской механики в формулы законов классической механики Ньютона в случае несравнимости скорости движения тела со скоростью света. Отсюда следовал вывод: каждая более общая теория включает в себя предшествующую как частный случай.
Он поражал нас своей эрудицией, детализированной до мелочей. И не только поражал, но и подавлял в первом семестре. А мы, чтобы не срамиться на семинарских занятиях и не выглядеть бестолочью, усердно сидели в библиотеках, копались в научных монографиях и мучительно силились разобраться в таких солидных журналах, как «Успехи физических наук», «Вестник академии наук», «Вопросы психологии» и т. п.
Аркадий Аркадьевич обращался с нами очень корректно и внимательно, но всегда держал дистанцию. Нам даже в голову не приходило ставить какие-либо вопросы
личного характера. Например: почему он ходит в военной форме, где он работает на постоянной основе, откуда так досконально знает немецкий язык, где он так основательно учился физике и математике и т. п.
Он приходил в аудиторию в офицерской шинели, аккуратно складывал ее на крайнюю боковую парту и без всяких пустопорожних разговоров о погоде, общественном транспорте, домашних проблемах начинал занятие. Говорил высоким ясным голосом, с четкой дикцией. Темп лекции держал такой, что мы успевали вразумительно записывать, но не успевали перемолвиться словом. С большим удивлением мы после нескольких занятий заметили на шинели погоны подполковника, хотя нам казалось и до и после, что с нами работает генерал.
Однако на втором курсе вместо А. А. Квасова на место лектора заступил В. П. Тугаринов, декан философского факультета. До нас только донеслись слухи, что замена вызвана какими-то трениями между Аркадием Аркадьевичем и деканом факультета. Замена оказалась неравноценной с первой же лекции. Новый преподаватель — седой пожилой человек небольшого роста со слабым голосом — строил доказательную базу на здравом смысле и опыте обыденной практики. Рассказывая закон единства и борьбы противоположностей, он так показывал его действие: «Вот заяц летом серый, а зимой наоборот — совсем белый, но это все тот же заяц». Такая манера изложения поначалу вызвала у нас недоумение, а потом — насмешки и передразнивание. А через пару лекций мы просто перестали ходить на занятия.
Деканат пытался было нас приструнить, но заводилами оказались отличники, и деканат просто стал заменять преподавателей. Подобная же история произошла с преподавателем исторического материализма — В. П. Рожиным. Мы отдавали ему должное в точности цитирования целых абзацев из работ К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина, феноменальной памяти по части ссылок на тома и страницы (после лекции даже сверялись с книжными текстами). Однако никакой конкретики мы не услышали, хотя бы в тех пределах, которые нам были даны в курсах по всеобщей истории и политической экономии. В итоге — тоже перестали посещать лекции, а деканат начал судорожно менять преподавателей, пока очередь не дошла до Игоря Семеновича Кона.
Он покорил нас изящным литературным стилем изложения, знанием множества исторических и историко-культурных фактов, которые ярко характеризовали общественные события и процессы различных эпох, и увлекательным пересказом новейших социально-исторических и эстетических зарубежных теорий. Он познакомил нас с концепциями Коллингвуда, Тойнби, Рассела, Шпенглера, Сартра и других не переведенных тогда на русский язык авторов. Он приохотил нас к активному поиску неортодоксальной информации в открытых, но труднодоступных источниках: в журналах «В защиту мира», «Америка», «Англия», в реферативных журналах всесоюзной библиотеки иностранной литературы; в переводных зарубежных изданиях с грифом «Для научных библиотек»; в авторефератах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных острым дискуссионным проблемам сопредельных наук.
Запомнились его лекции о социальном прогрессе и его критериях в основных сферах общества. Он тонко подтрунивал над чередой «диаматчиков», продефилировавших перед нашими глазами и мимо наших ушей, которые настырно декларировали идею бесконечного прогрессивного развития природы и общества и бегали жаловаться в деканат на наши вопросы типа: будет ли общество существовать вечно, какая классовая борьба двигала прогрессом в первобытном обществе, что будет после
коммунизма и т. п. Наши «диаматчики» возмущались тем, что мы не удовлетворялись ответом Хрущева на вопрос, что будет после коммунизма, который он дал на пресс-конференции в Америке. Мол, коммунизм — это такой большой черничный пирог, которого всем хватит, и печь какой-то новый нет надобности.
А И. С. Кон цитировал Маркса и Гегеля о том, что все существующее несет в себе зародыш своей будущей гибели; приводил положения Энгельса из второй главы его работы «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии» о том, что общество как всякое материальное образование, достигнув своей высшей точки развития, неизбежно пойдет по пути регресса к своей неминуемой гибели. Однако Игорь Семенович нам тоже не сказал, «а что потом». Он остановился на разборе эпохи модернизма в искусстве в духе О. Шпенглера и предрек разгул постмодернизма во всей европейской культуре. На этой теме закончились часы его курса.
Особо следует сказать о разделе по истории философии в нашей программе обучения и преподавателях-исполнителях этой программы. История философии продолжалась 9 семестров из 10, от античной до современной зарубежной. В конце каждого семестра полагалось сдавать зачет или экзамен. В течение семестра надо было отчитаться также конспектами первоисточников. Установка деканата гласила: профессиональная квалификация философа определяется фундаментальным знанием историко-философского наследства. Мы безропотно приняли эту установку, хотя на старших курсах в наших умах зародились некоторые сомнения.
Большинство преподавателей излагали материал с акцентом на историю идей и работ мыслителей прошлого. Е. И. Водзинский, который вел у нас семинарские занятия, строго требовал от нас фактического и конкретного знания произведений, проверял конспекты, учил конспектировать, но не сопровождал высокую теорию наглядными историческими сюжетами (а нам так хотелось «оживляжа»!). Он печально и сожалеюще укрощал наш попытки найти связь идей греческих мудрецов с их образом жизни, бытовыми причудами, рационом питания и т. п.
В таком же духе читала нам историю философии нового времени З. Н. Мелещен-ко: основательно, детально, академично. Она упорно разъясняла нам отличия идей и концепций каждого последующего мыслителя от предшествующих представлений. Надо признаться, что это нередко утомляло. Закрадывались крамольные мысли: а когда и где мне пригодится знание различий в идеях Пико Делла Мирандоллы и Помпонац-ци об источнике нравственных качеств человека. Хотелось наглядности и ярких завлекательных иллюстраций, тем более что, покопавшись в каталогах, мы обнаружили книжечку Зои Николаевны от 1942 г. о шпионаже и контрразведке во время войны. Но не дождались.
Большой курс по истории марксистско-ленинской философии читала красивая стройная дама в элегантном английском костюме З. М. Протасенко. Читала четко, ясно, концептуально; излагала историю идей, нередко как филиацию идей, чаще — как отображение объективных исторических событий и процессов. Субъективной, человеческой стороны философского и идеологического творчества классиков она избегала касаться. А нас распирали такого рода вопросы. Готовя «тысячи» (домашнее чтение), мы начитались по повелению нашей преподавательницы по немецкому языку В. О. Оттен воспоминаний о Марксе Лафарга и Меринга, его дочерей, писем Энгельса к Марксу и работ Лукача о Марксе. Но попытки узнать причины особого пристрастия Маркса к имбирному пиву, узнать биографию внебрачного сына Маркса, поводы многократных дуэлей молодого Энгельса, объяснить сходство характеристики
интеллигенции у В. И. Ленина и у А. П. Чехова и тому подобные исторически значимые пикантности, увы, не нашли отклика. Наша классная дама холодно возвращала нас в колею строгой академичности и идеологической непогрешимости.
Значительно живее проходил у нас курс по истории русской философии, который читал А. А. Галактионов. Он излагал взгляды каждого мыслителя в конкретном социально-политическом контексте, показывая объективные и субъективные причины их метаний и шатаний в условиях противоречивой российской действительности. Не смущаясь и почти не обижаясь, он вступал с нами в споры о степени оригинальности идей отечественных философов, о значимости философской составляющей в компендиуме их общественно-политических взглядов, о недооценке вклада отечественных представителей идеализма в развитие философии.
Коренной перелом в отношении к истории философии случился с приходом в аудиторию Юрия Алексеевича Асеева, который прочел нам курс современной зарубежной философии. Он был замечательным педагогом и, видимо, по заслугам получил официальную номинацию лучшего лектора Университета. Убеждала его методика преподнесения учебного материала. В отличие от многих других преподавателей он излагал концепцию каждого рассматриваемого автора адекватно (говоря нынешней терминологией — гомоморфно): по его логике, его языком и в рамках его тезауруса, не допуская пошаговую критику рассматриваемых концепций. Он считал, что наши умы не настолько зелены и незрелы, чтобы от одного знакомства с неортодоксальной идеей перевернуться на 180 градусов в своих ориентациях. Только изложив рассматриваемое учение в целом, он проводил его критический теоретический анализ — от оснований возникновения и исходных постулатов до итоговой концептуальной доктрины и методологических следствий. Привлекал и сам стиль изложения: четкий, изящно литературный, без идеологических наставлений и политических ярлыков1.
Учебная программа включала также целый раздел спецкурсов, именуемых сейчас специализацией. В этом разделе самыми влиятельными и уважаемыми преподавателями оказались трое: В. И. Свидерский, М. И. Шахнович и М. В. Эмдин. Владимир Иосифович Свидерский читал большой спецкурс по философским вопросам современной физики с акцентом на проблемах частной и общей теории относительности. Будучи специалистом и в области физики и в области философии, он давал комплексный профессиональный анализ самой физической теории и ее философских аспектов. Материалы этого спецкурса он создавал с военных времен и, как он нам говорил, таскал рукописи в своей офицерской полевой сумке, потеснив индивидуальный перевязочный пакет. А в начале 1945 г., как он нам говорил, когда стало ясно, что войне скоро конец, и вероятность дожить до победы стала приближаться к единице, он всерьез засел за рукописи в каждую свободную минуту. Они были изданы большой монографией в 60-е гг. в издательстве ЛГУ, а в наших тетрадках сохранились записи его «30 правил истинного философствования».
Михаил Иосифович Шахнович читал обширный курс по истории религии и атеизма и научной критике священных книг. Обладая феноменальной памятью, он мог цитировать целые куски Библии, Евангелий, Талмуда и давать им толкование в контексте конкретных социальных условий. С тонким юмором он показывал противоречия и несообразности в священных текстах, а также высокие художественные достоинства
1 Часть материалов лекционного курса Ю. А. Асеева была издана небольшой книгой в издательстве ЛГУ в начале 60-х гг., но почему-то сейчас эта книга не числится в каталоге РНБ.
и философские премудрости ряда разделов этих текстов. Он читал лекции легко и понятно, так же как писал свои многочисленные статьи и книги.
Моисей Вульфович Эмдин научил нас читать и понимать самое трудное произведение Г. Гегеля — «Науку логики». Надо сознаться, что первый контакт с гегелевской философией — чтение «Феноменологии духа» — всегда производил на студентов ошарашивающее впечатление и погружал в безысходность и самоуничижение. Но М. В. Эмдин выводил нас из этого мазохистского состояния последовательным и скрупулезным разбором гегелевских текстов буквально по абзацам, а затем, когда мы начали что-то понимать, — по страницам. В итоге мы уразумели, что идеи Г. Гегеля не устарели методологически и вполне продуктивны для решения современных проблем. Например, в бурных научных дискуссиях, проходивших тогда на философском факультете: о соотношении динамических и статистических закономерностей, о возникновении новых свойств объектов в процессе их взаимодействия, о взаимосвязи понятия и слова и т. д. М. В. Эмдин оказался одним из немногих преподавателей философского факультета, которые учили нас технологии исследовательской работы, методам научного анализа не только текстов, но и реальных проблем. Впрочем, и сейчас в вузах не читаются курсы ни студентам, ни аспирантам о методологии, методике и технике научного исследования.
Оглядываясь на прошлое, приходится признать существенный недостаток той программы обучения — фактическое отсутствие подготовки к самостоятельной исследовательской работе. За весь период обучения студенты должны были написать только одну (!) курсовую работу. Даже рефераты не числились в учебном плане. Участие в студенческом научном обществе не получалось по двум причинам: во-первых, большая аудиторная нагрузка и задания к групповым занятиям почти не оставляли возможностей для внеаудиторных занятий во второй половине дня и, во-вторых, в научных кружках доминировали старшекурсники, которые в соответствии со своей подготовленностью занимались по преимуществу схоластическими толкованиями текстов классиков, что нам, уже напичканным эмпирическим естественно-научным материалом, было скучно и нудно. Да и в преподавательской среде философов научная работа тогда не считалась приоритетным занятием. Защиты кандидатских диссертаций случались редко, а уж защита докторской оказывалась выдающимся (для факультета) событием. В стенгазете факультета периодически появлялись заметки с критикой многих преподавателей за упорную пассивность в научной деятельности2.
И хотя ректор университета А. Д. Александров настойчиво продвигал на всех студенческих собраниях и в университетской газете свой любимый лозунг о контроверзе сосуда и факела в подготовке выпускника, в нашей учебной программе так не получалось. Наши преподаватели усиленно насыщали емкость нашей памяти, считая, видимо, что пожароопасного вольнодумства у нас достанет и без поджога.
Аналитическому мышлению учили нас преимущественно преподаватели естественно-научных циклов (физики, биологи, математики, физиологи) и преподаватели иностранных языков. Большой раздел курса физики вел профессор Г. С. Кватер. Демонстрируя физические опыты, он сначала объяснял механизм процесса, а потом донимал вопросами: почему происходит именно такое следующее изменение, какими законами физики оно определяется, почему невозможен другой вариант изменений
2 Ряд фигурантов этих критических уколов впоследствии стали кандидатами, докторами и даже заведующими кафедрой.
и т. п. Выводы формул он писал на доске каллиграфическим почерком, останавливаясь на каждом шагу для пояснения физических аналогов представляемых символов. Временами останавливался для того, чтобы показать, что будет с формулой, если мы изменим условия, пределы, допущения или систему координат. Он приучал нас к тому, что ученый должен постоянно в ходе исследования ставить себе вопросы: почему это так, а не иначе; это устойчивый результат или единичный; где причина, а где условия; возможна ли здесь ошибка наблюдения или погрешность в расчете и т. д. и т. п. Мы чуяли, что перед нами действительно крупный ученый. Из каталогов и разговоров мы выяснили, что все его работы имеют очень закрытый характер. Опубликованы (и имеются в Российской национальной библиотеке) только тезисы его доклада на защите докторской диссертации, из коих можно было догадаться, что наш профессор занимается разработкой инфракрасной оптики. (Это в начале пятидесятых годов ХХ в.!)
Часть курса психологии и курс физиологии высшей нервной деятельности читала Августа Викторовна Ярмоленко. Будучи известным и авторитетным специалистом в этих областях науки, она показывала нам на материале конкретных экспериментов соотношение уровней развития человека и высших обезьян; проводила сравнительный анализ методик такого рода экспериментов, показывая сильные и слабые черты лонгитюдного метода, метода естественного эксперимента, метода моделирования, индуктивного метода. Она понуждала нас думать аналитически, оценивая тогдашние сенсационные новации в психологии и в медицине (телепатические опыты лаборатории профессора Васильева с биологического факультета ЛГУ, демонстрации телекинеза Кулагиной, классификации типов ВНД человека на основе входивших в моду вербальных тестов, явление стресса народам как неведомого дотоле заболевания). По поводу стресса она ставила вопрос так: 1) существуют ли специфические симптомы данной болезни, характерные именно для нее; 2) существуют ли конкретные причины возникновения данного заболевания (вирусы, микробы, физические или психические повреждения); 3) существуют ли конкретные специфические лекарства точечного действия для борьбы с этим заболеванием. Если указанные условия отсутствуют, то нет оснований утверждать факт наличия конкретной болезни (заболевания). Можно говорить только о существовании определенного состояния — временного, хронического, вредного, полезного, требующего или не требующего медицинской помощи. Вот, — говорила она, — вы переутомлены ежедневными восьмичасовыми занятиями, задерганы каждодневными семинарами, угнетены вечным недосыпом, но в воскресенье отоспитесь как следует и придете в понедельник ко мне на лекцию свеженькими как ранние огурчики и вполне работоспособными.
Известный отечественный ученый К. М. Завадский, читавший курс биологии, расшатывал наше догматическое представление о связи наследственности и изменчивости сопоставлением понятия нормы в этике и праве с содержанием этого понятия в биологии, в генетике, в медицине. В этике и в юриспруденции норма трактуется однозначно — как алгоритм должного поведения, но в других сферах социального и природного бытия норма может выражать и часто встречающееся явление, и типичную форму проявления, и пределы допустимых отклонений, и нарождающийся еще редкий вариант проявления некоей закономерности и т. д.
Весомый вклад в развитие нашего ума вносили и преподаватели иностранных языков, особенно аналитических. Весомость вклада определялась не только содержанием предмета, но и внешними данными наших учительниц. Английский язык вела очаровательная женщина бальзаковского возраста Цецилия Анатольевна Шрайбер. Она
применяла разнообразные педагогические средства, чтобы сформировать адекватное отображение смысла высказывания в другом языке. Для этого она заставляла зубрить диалоги для общения в разных ситуациях, анализировать английские анекдоты, вычленять специфику английского юмора, петь джазовые песни с разными интонациями и в разной манере, варьировать употребление предлогов в зависимости от цели коммуникатора. И пусть уровень владения языком не достиг желаемого совершенства, но привычка к эмпатии в процессе языкового общения была сформирована.
Ретроспективно оценивая учебную программу и ее исполнение нашими преподавателями, можно сделать несколько выводов, полезных для сегодняшнего состояния профессиональной подготовки философских кадров. Во-первых, усиленное изучение истории философии не оказалось (и не оказывается) востребованным в последующей практической деятельности, педагогической, научно-исследовательской, управленческой, журналистской и пр. Студенты вузов (кроме, конечно, студентов философских факультетов) относятся равнодушно, как правило, к опыту прошлого, предпочитая современную теорию, а не историю ее формирования. Это особенно наглядно и карикатурно проявляется в поколениях периода ЕГЭ, которые считают, что вся история началась с даты их рождения и уже исчерпывающе изложена в гугле и яндексе.
Во-вторых, для преподавательской деятельности недостаточно вести один только курс философии. На практике для выполнения штатной нагрузки преподаватель должен (или вынужден) вести и сопредельные дисциплины, не только этику, историю религии, эстетику и разнообразные спецкурсы в пограничных с философией областях науки, но, прежде всего, — концепции современного естествознания в качестве мировоззренческой дисциплины. А для этого нужна хорошая естественно-научная подготовка. Изрядная фундаментальная научная подготовка особенно нужна для чтения курса по методологии научного познания — фирменного профессионального курса для философских кафедр.
В-третьих, выпускнику-философу для подстраховки в предстоящей социальной и профессиональной жизни необходима какая-то дополнительная специализация. Конечно, культпросветработа уже не актуальна. В условиях безбрежных рыночных отношений было бы полезно научать нынешних студентов-философов менеджменту науки и культуры. Потребность в таких специалистах очевидна, а доходность этого занятия впечатляюща.
Ну и, наконец, следует признать как аксиому, что подготовка специалиста по философии требует много времени (а не четырехлетнего бакалавриата), больших психических и физических затрат обучающихся, а потому в процессе производства философских кадров неизбежен большой отсев через искусственный и естественный отбор.





 CC BY
CC BY 62
62