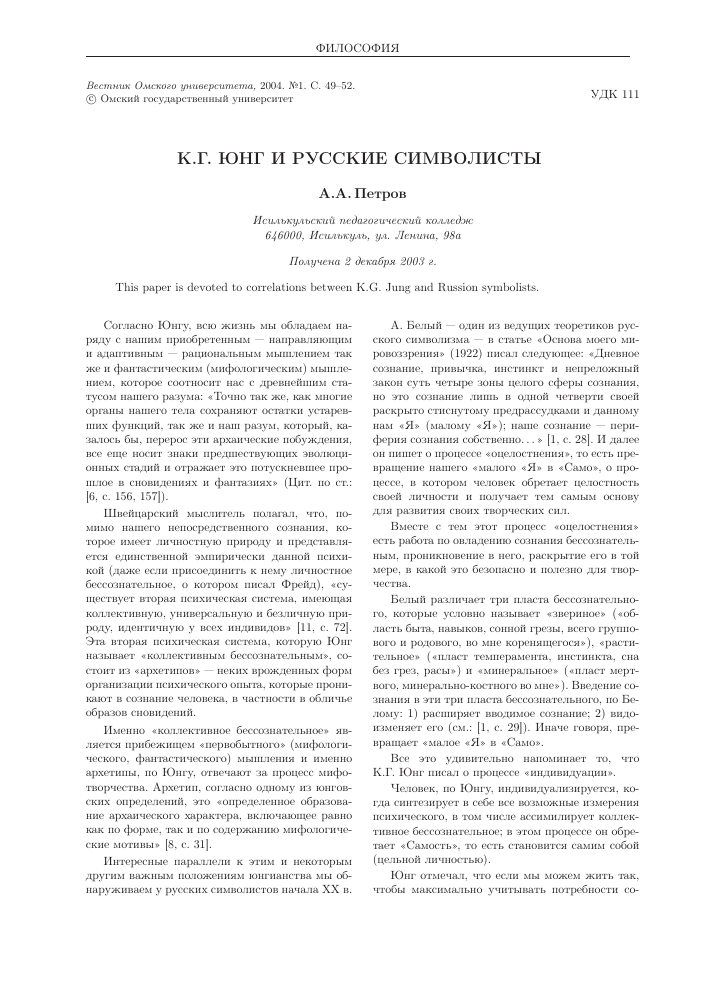ФИЛОСОФИЯ
Вестник Омского университета, 2004. №1. С. 49-52. © Омский государственный университет
УДК 111
К.Г. ЮНГ И РУССКИЕ СИМВОЛИСТЫ
А.А. Петров
Исилькульский педагогический колледж 6^6000, Исилькуль, ул. Ленина, 98а
Получена 2 декабря 2003 г.
This paper is devoted to correlations between K.G. Jung and Russion symbolists.
Согласно Юнгу, всю жизнь мы обладаем наряду с нашим приобретенным — направляющим и адаптивным — рациональным мышлением так же и фантастическим (мифологическим) мышлением, которое соотносит нас с древнейшим статусом нашего разума: «Точно так же, как многие органы нашего тела сохраняют остатки устаревших функций, так же и наш разум, который, казалось бы, перерос эти архаические побуждения, все еще носит знаки предшествующих эволюционных стадий и отражает это потускневшее прошлое в сновидениях и фантазиях» (Цит. по ст.: [6, с. 156, 157]).
Швейцарский мыслитель полагал, что, помимо нашего непосредственного сознания, которое имеет личностную природу и представляется единственной эмпирически данной психикой (даже если присоединить к нему личностное бессознательное, о котором писал Фрейд), «существует вторая психическая система, имеющая коллективную, универсальную и безличную природу, идентичную у всех индивидов» [11, с. 72]. Эта вторая психическая система, которую Юнг называет «коллективным бессознательным», состоит из «архетипов» — неких врожденных форм организации психического опыта, которые проникают в сознание человека, в частности в обличье образов сновидений.
Именно «коллективное бессознательное» является прибежищем «первобытного» (мифологического, фантастического) мышления и именно архетипы, по Юнгу, отвечают за процесс мифотворчества. Архетип, согласно одному из юнгов-ских определений, это «определенное образование архаического характера, включающее равно как по форме, так и по содержанию мифологические мотивы» [8, с. 31].
Интересные параллели к этим и некоторым другим важным положениям юнгианства мы обнаруживаем у русских символистов начала XX в.
А. Белый — один из ведущих теоретиков русского символизма — в статье «Основа моего мировоззрения» (1922) писал следующее: «Дневное сознание, привычка, инстинкт и непреложный закон суть четыре зоны целого сферы сознания, но это сознание лишь в одной четверти своей раскрыто стиснутому предрассудками и данному нам «Я» (малому «Я»); наше сознание — периферия сознания собственно... » [1, с. 28]. И далее он пишет о процессе «оцелостнения», то есть превращение нашего «малого «Я» в «Само», о процессе, в котором человек обретает целостность своей личности и получает тем самым основу для развития своих творческих сил.
Вместе с тем этот процесс «оцелостнения» есть работа по овладению сознания бессознательным, проникновение в него, раскрытие его в той мере, в какой это безопасно и полезно для творчества.
Белый различает три пласта бессознательного, которые условно называет «звериное» («область быта, навыков, сонной грезы, всего группового и родового, во мне коренящегося»), «растительное» («пласт темперамента, инстинкта, сна без грез, расы») и «минеральное» («пласт мертвого, минерально-костного во мне»). Введение сознания в эти три пласта бессознательного, по Белому: 1) расширяет вводимое сознание; 2) видоизменяет его (см.: [1, с. 29]). Иначе говоря, превращает «малое «Я» в «Само».
Все это удивительно напоминает то, что К.Г. Юнг писал о процессе «индивидуации».
Человек, по Юнгу, индивидуализируется, когда синтезирует в себе все возможные измерения психического, в том числе ассимилирует коллективное бессознательное; в этом процессе он обретает «Самость», то есть становится самим собой (цельной личностью).
Юнг отмечал, что если мы можем жить так, чтобы максимально учитывать потребности со-
знательного и бессознательного, тогда сместится центр тяжести всей нашей личности. Он перестанет пребывать в «Эго» («малом «Я» в терминах А. Белого), которое вряд ли является единственным центром психики, и окажется в гипотетической точке между сознательным и бессознательным. Этот новый центр психики и есть «Самость».
Итак, в процессе индивидуацгш («оцелостне-ния», по Белому) происходит расширение («амплификация») сознания, его диалог с бессознательным, и образуется новый центр психики — «Самость». По существу, оба мыслителя (и Юнг, и Белый) придерживаются близких воззрений не только на строение психики человека, но и на роль бессознательного в его жизни и творчестве.
Индивидуацгш, по Юнгу, — это способность ассимилировать коллективное бессознательное в персональной форме (т. е. как бы отметить его печатью своего «Я»). Именно это и отличает гения от душевнобольного, одержимого каким-нибудь «архетипом» — и тот, и другой очень чутки к коллективному бессознательному, «внимают» ему. Однако гений, в отличие от душевнобольного, стремится его «вобрать в себя» и «окультурить» (говоря словами А. Белого, «промыслить сознанием бессознательное»), то есть «приручить архетипы».
Речь, по существу, идет о позитивной сублимации энергии архетипов, о превращении смутных архетипических образов в символы искусства. Огромная, поистине «магическая» сила воздействия символического искусства как раз объясняется, по Юнгу, тем, что оно пробуждает в нас универсальное, присущее всему человеческому роду: «Любое отношение к архетипу, переживаемое или просто именуемое, «задевает» нас; оно действенно именно потому, что пробуждает в нас голос более громкий, чем наш собственный. Говорящий прообразами говорит нам как бы тысячью голосов, он пленяет и покоряет, он поднимает описываемое им из однократности и временности в сферу вечносущего, он возвышает личную судьбу до судьбы человечества и таким путем высвобождает в нас все те спасительные силы, что извечно помогали человечеству избавляться от любых опасностей и превозмогать даже самую долгую ночь» [10, с. 230].
Сказанное швейцарским мыслителем (философом и психологом) вполне отвечает воззрениям теоретиков русского символизма.
Так, например, Вяч. И. Иванов полагал, что всякий истинный художественный символ представляет собой своего рода отпечаток древнего народного миросозерцания и предопределен «психеей» народа: «Они (символы. —А. П.) были искони заложены народом в душу его певцов как
некие изначальные формы и категории, в которых единственно могло вместиться всякое новое прозрение»; «Символы — переживания забытого и утерянного достояния народной души. Но они органически срослись с нею в ее росте и своих перерождениях: психологически необходимые они метафизически истинны». Поэт, по Иванову, есть «орган народного самосознания» и вместе с тем
— «орган народного воспоминания»: «Чрез него народ вспоминает свою древнюю душу и восстанавливает спящие в нем веками возможности... Созданное им внутреннее слово узнается народной душой как нечто свое — постигается темным инстинктом забытого родства... Он изобретает новое — и обретает древнее... ». Таким образом, творчество поэта (а творчество поэта-символиста по преимуществу) может быть названо, по Иванову, «бессознательным погружением в стихию фольклора» [5, с. 36, 37].
В работах теоретиков русского символизма можно найти немало высказываний звучащих уж вовсе по-юнговски.
В статье 1918 г. «Скрябин и дух революции», например, Иванов пишет: «В торжественных утверждениях своего порыва — или прорыва
— в запредельное Скрябин говорил не языком индивидуальной воли, но хоровым звучанием воздымаемого им из глубин соборного множества. Дивиться ли тому, что столь многих смущает и безумит внятно звучащая в его музыке страшная песня древнего, родимого хаоса?» [5, с. 194]. Чем не картина человека, «захваченного» архетипом!
Немало «юнговских» высказываний можно встретить и у А. Белого. Ярким примером может быть следующее высказывание символиста-теоретика из статьи «Песнь жизни» (впервые опубликована в 1911 г. в сб. «Арабески»): «Небо души и небесный купол для дикаря — одно» [2, с. 171].
Теоретики русского символизма, подобно К.Г. Юнгу, рассматривали мифотворчество как присущую человеку во все времена способность и связывали ее с деятельностью бессознательного.
Юнг, как известно, связывал мифы со сновидениями: мифологические образы, с его точки зрения, есть результат обработки впечатлений человека от архетипических образов, а наиболее непосредственный способ «явлений» последних — сновидение. В связи с этим он даже как-то сказал, что можно было бы реставрировать содержание всех мировых религий и всей мировой мифологии, исследуя бессознательное одного единственного человека. Вяч. И. Иванов, в свою очередь, писал, что в «реалистическом символизме» символы раскрылись как «забытый язык утраченного богопостижения»: «Символ ожил и заговорил о не-личных, о изначальных тайнах... это было уже проникновением к душе народной, к древней,
К. Г. Юнг и русские символисты
51
исконной стихии вещего «сонного сознания», заглушённой шумом просветительных эпох... » [5, с. 169].
Интересные мысли о связи мифов и сновидений можно обнаружить у М. Волошина, в частности в статье «Театр как сновидение».
Согласно М. Волошину, «искра нашего дневного сознания была подготовлена и рождена великим океаном ночного сознания... », и сновидения, таким образом, «развертываются в мире темном и по законам иного сознания, отличного от нашего, по законам иной логики» [4, с. 26, 27].
Это «сонное сознание» М. Волошин определяет как мифологическое: «Это сознание, знакомое каждому в моменты засыпания и в моменты возвращения из сна, в известную эпоху, при самом начале всемирной истории, было нормальным состоянием всего человечества. Мир в действительности, брезживший перед глазами человека, осознавался в сказках и мифах. Сказки и мифы были в точном смысле слова сновидением пробуждавшегося человечества...» [4, с. 27]. При этом русский символист, подобно Юнгу (и некоторым другим «мифологам»), проводит параллели между «мифологическим» и «детским» мышлением: «Между творчеством детских игр и тем состоянием духа, в котором человечество создавало сказки и мифы, нет никакой разницы. Игра — это одна из форм сновидения, не больше. Это — сновидение с открытыми глазами. Танец — действенное, мускульное выражение его. В игре творческой ночной океан широкими струями вливается в узкую и скупую область дневного сознания...» [4, с. 27]. Что касается последнего утверждения Волошина, то в нем опять-таки обнаруживается «перекличка» с Юнгом, по мнению которого, за творческую интуицию также отвечает бессознательное...
Итак, по М. Волошину, «наше дневное — логическое — сознание постепенно высвобождается из ночного, интуитивного, сонного сознания. Последнее господствует в нас не только во время нашего сна, но и во время бодрствования, когда мы действуем под влиянием желаний, страстей и чувств» [4, с. 28]. Это касается не только отдельных индивидов, но и масс, народов: «Между кровавым безумием зверя в человеке и миром сновидений существуют какие-то тайные связи... С другой стороны, такая же связь существует между стихийными судорогами народов и танцев. Безвыходные ужасы тысячного года находят себе предохранительный клапан в повальных плясках, охватывающих целые города и области, а кровожадные исступления террора разряжаются в безумии танцев термидора... » [4, с. 27].
С одной стороны, эти мысли М. Волошина вполне согласуются с наблюдениями Юнга, ка-
сающимися проявлений «архетипов» «коллективного бессознательного», с другой — хорошо перекликаются с представлениями А. Белого и Ф. Ницше, которые видели в мифе «предохранительный клапан, закрывающий от нас музыкальную сущность жизни» [3, с. 192].
Обнаруженные параллели, как нам представляется, не случайны: и русские символисты и Юнг претерпели влияние близких (а в известной степени и одних и тех же) философских учений и оккультных доктрин. Здесь следует упомянуть, например, о Ф. Ницше (в частности, о его воззрениях на природу мифа из «Рождения трагедии...») и «теософии» - не столько об учении собственно Е. Блаватской, сколько об определенных «эзотерических» идеях и опыте.
Опыт «видений» К.Г. Юнга перекликается с опытом B.C. Соловьева и А. Белого, «видения» которых несли изрядную смысловую нагрузку, имели глубокое символическое содержание. Более того, некоторые «видения» близки по своему содержанию. А. Руткевич в своем предисловии к сборнику «Аналитическая философия» обращает внимание на поразительную параллель предвоенных (незадолго до начала Первой мировой войны) «видений» А. Белого и К.Г. Юнга (см.: [7, с. 23-24]).
Конечно, подходы русских символистов и Юнга далеко не тождественны. Отличие Юнга от Белого или, скажем, Волошина заключается в том, что во многом схожий опыт он интерпретирует не «эзотерически», а научно — в терминах биологии и психологии.
В статье «Настоящее и будущее» Юнг писал: «Положительный ответ на проблему религиозного опыта имеется лишь в том случае, если человек исполняет требования строгого самоиспытания и самопознания... Это никак не значит, что бессознательное тождественно Богу и ставится на его место. Это медиум, посредством которого нам может быть явлен религиозный опыт. Первопричина такого опыта лежит за пределами возможного человеческого познания. Богопознание представляет собой трансцендентную проблему» [9, с. 177].
Что касается признания «коллективного бессознательного» (у русских символистов — «София», «мировая душа» или же «народная психея») «медиумом», посредством которого может быть явлен религиозный опыт, то здесь подходы швейцарского мыслителя и теоретиков русского символизма по существу совпадают.
Однако русские философы (философы-символисты и «софпологи»), в отличие от Юнга, сторонящегося метафизических спекуляций, явно в большей степени выходили за рамки чисто научного подхода (хотя и сами воззрения Юнга едва
ли были эталоном научности). Думается, что их подход даже в большей мере отвечает тому, что С.Л. Франк писал об учении Юнга: «Оставаясь на почве чисто феноменологического анализа и не перетолковывая рационалистически предстоящую нам картину внутреннего мира, его духовного соприкосновения с силами духовного порядка, низшими и высшими, выходящими за пределы замкнутой в рамках человеческого тела душевной реальности человека и в этом смысле сверхчеловеческими. Психоанализ на этом пути превращается в феноменологическое описание и тем самым оправдание мистического опыта» (цит. по ст.: [6, с. 158]).
Философская картина бессознательного, запечатленная в работах русских символистов, на наш взгляд, не менее глубока и интересна, чем та картина бессознательного, которая принадлежит К.Г. Юнгу.
[1] Белый А. Основа моего мировоззрения // Лит. обозрение. 1995. № 4/5.
[2] Белый А. Песнь жизни // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
[3] Белый А. Фридрих Ницше // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
[4] Волошин М. Театр как сновидение // Наука и религия. 1996. № 4.
[5] Иванов Вяч. И. Лик и личины России. М., 1995.
[6] Парамонов Б. Согласно Юнгу // Октябрь. 1993. № 5.
[7] Руткевич А. Предисловие // Аналитическая психология: Прошлое и настоящее. М., 1995.
[8] Юнг К.Г. Аналитическая психология. СПб., 1994.
[9] Юнг К.Г. Настоящее и будущее // Октябрь. 1993. № 5.
[10] Юнг К.Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX— XX вв.: трактаты, статьи, эссе. М., 1987.
[11] Юнг К.Г. Понятие коллективного бессознательного // Аналитическая психология. М., 1995.





 CC BY
CC BY 93
93