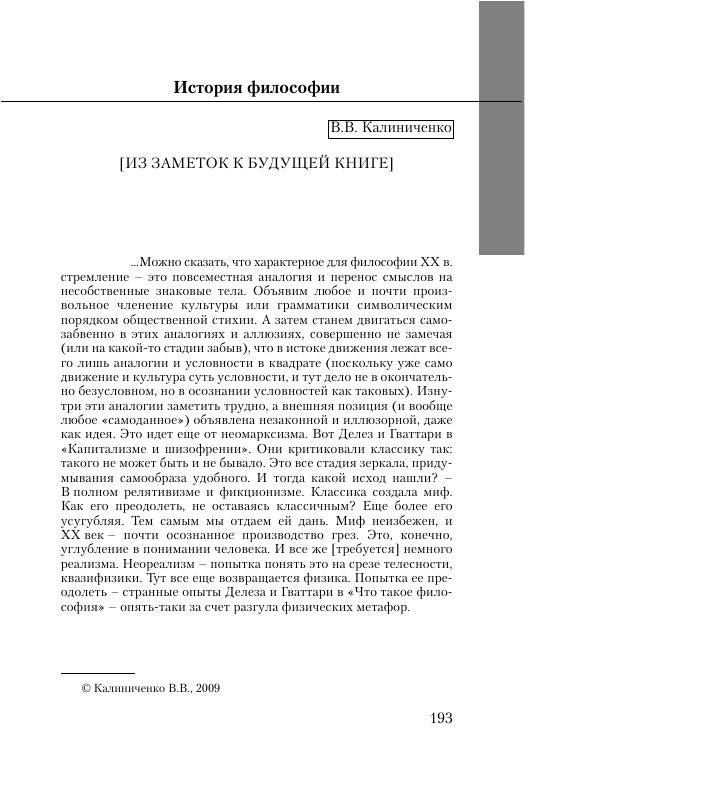[ИЗ ЗАМЕТОК К БУДУЩЕЙ КНИГЕ]
История философии
В.В. Калиниченко
...Можно сказать, что характерное для философии ХХ в.
стремление - это повсеместная аналогия и перенос смыслов на несобственные знаковые тела. Объявим любое и почти произвольное членение культуры или грамматики символическим порядком общественной стихии. А затем станем двигаться самозабвенно в этих аналогиях и аллюзиях, совершенно не замечая (или на какой-то стадии забыв), что в истоке движения лежат всего лишь аналогии и условности в квадрате (поскольку уже само движение и культура суть условности, и тут дело не в окончательно безусловном, но в осознании условностей как таковых). Изнутри эти аналогии заметить трудно, а внешняя позиция (и вообще любое «самоданное») объявлена незаконной и иллюзорной, даже как идея. Это идет еще от неомарксизма. Вот Делез и Гваттари в «Капитализме и шизофрении». Они критиковали классику так: такого не может быть и не бывало. Это все стадия зеркала, придумывания самообраза удобного. И тогда какой исход нашли? -В полном релятивизме и фикционизме. Классика создала миф. Как его преодолеть, не оставаясь классичным? Еще более его усугубляя. Тем самым мы отдаем ей дань. Миф неизбежен, и ХХ век - почти осознанное производство грез. Это, конечно, углубление в понимании человека. И все же [требуется] немного реализма. Неореализм - попытка понять это на срезе телесности, квазифизики. Тут все еще возвращается физика. Попытка ее преодолеть - странные опыты Делеза и Гваттари в «Что такое философия» - опять-таки за счет разгула физических метафор.
© Калиниченко В.В., 2009
Разумеется, наш способ рассмотрения носит вспомогательный характер, т. е. он вовсе не предполагает написание какого-то нового нарратива. Рефлексия вообще не способна заменить самого рассказа, хотя, если повезет, знаменует канун нового рассказа. <....>
И все же какой новый рассказ мог бы выйти из всего этого? О чем? Какая заветная мысль лежит в основе, ради чего? Если не ограничиваться академическими поправками на полях к Канту, Гуссерлю или Мамардашвили? Очевидно, вот что: вероятно, происходит радикальное переосмысление понятий и концептов, иначе говоря, Слов. Становится иным соотношение слов и вещей. Это особенно ощущается по переживанию современности. Такое, очевидно, было в Европе в канун века. Такое происходит сейчас в России. Только это не повторение. Новым является момент: сами первичные реакции на новое не должны повторяться, не повторится (если речь об элитарном сознании) восторг того, кто это понимает, а стало быть, глупы пафос и проекты найти ошибку, исправить. Тогда что остается?
Собственно главная тема нашего критического рассмотрения феноменологии заключается в той же самой ее ключевой теме, а именно теме сознания и предмета. Предметности сознания, имма-нентизма и т. д. Как! - воскликнул бы постмодернист, - разве не все уже здесь и с этим ясно, что это все тупиковые вопросы?..
3
Если Я противопоставлено символическому (Лакан-Фрейд) как воображаемое реальному - то можно ли это положение совместить: М[амардашвили] и П[ятигорский] плюс Лакан? Я как символическое образование играет-таки роль некоего символического в смысле Лакана: оно упорядочивает структуру Я как воображаемое.
Но не впадает ли сам Лакан в декартову метафизику? Тут важно уяснить модальность, в которой осмысленно утверждение Лакана. А именно: он ничего не описывает. Как и Фрейд не описывал эдиповым комплексом прямо (в смысле: нет такой исторической реальности, как отцеубийство). Вернее, ее естественно предположить, но не в смысле наблюдаемого в массовом порядке факта. Схема Лакана также символична. Символ окрашивает в символическое Все. Если мы образовали оппозицию, куда включено символическое, то все становится символическим. Это особая функция тотализации (функция, или эффект Мидаса своего рода). Это подобно тому, как Кант обсуждает [тему дуализма] или
критикует дуализм, имея в виду натуралистическое понимание дуализма. А нужно понять, говорит Кант, что все есть-как-пред-ставление (он не говорит: все есть представление). Вещь сама по себе абстракция, но не представление. То есть это тоже представление, но вещь сама по себе не есть как представление. Возможно это единственное нечто у Канта, что не есть как представление. И ее имена. Бог, например. Так же и в нашем случае: все есть как символ, и мы лишь переходим из одного слоя символического в другой <...>. Признаком слоя, в котором мы находимся здесь, актуально является не-осознание его как символа (находимость внутри символа). То есть это признак внешней квалификации или идентификации <...>.
Нужно осмыслить еще в этой связи «глубинное желание», по Лакану, и «нехватку бытия».
5
В том месте из «Мысли изреченной», где я разбираю пример Барта, где речь идет о принадлежности смыслов редукции к тем или иным позициям автора и героя, можно как раз ввести метауро-вень. Его смысл. Особенно метасмысл интенциональности. И даже получить типологию интенциональностей. По существу, мое замечание о метасмысле интенциональности означает, что там есть разные уровни, и их-то в качестве иллюстрации или сущностного задания как различных можно как раз показать на примере позиций автора, героя и рефлексии.
6
Идея моей книги заключается в том, что метасмысл феноменологических понятий внутри феноменологии снимается (утрачивается или даже изгоняется) за счет анимационной риторики, что указывает на спекулятивную подоплеку гуссерлевской стратегии. Если иметь в виду конкретно, что метасмысл здесь возникает из нашего анализа соотношения предметного языка и языка рефлексии, то анимацию или ее место можно точнее обозначить: это собственно гегелевский ход, гегелизм - когда движение предметности есть самодвижение субъективности, полагающей предметность. Гуссерль - это неогегельянство. (Интересно, нельзя ли найти переклички с пока не известным мне Кожевом?.. )
Но вот символологическая интерпретация позволяет преодолеть эту мифологизацию субъективности. Понять миф как миф. Подобно тому как редукция позволяет проявиться самой естест-
венной установке. Анимационный миф есть некий аналог естественной установки. Мою же процедуру, которая выступает аналогом редукции, можно назвать также феноменологической, но это феноменология знака. (Проследить эту риторику на примере интерпретации и даже критики у Ингардена в понимании восприятия, хотя как критик Ингарден как раз двигался в моем направлении.)
Однако нужно продумать анимацию и в ее неустранимости, как основу, возможно, всякого смыслополагания, натурного смысла вообще. Так, что «все наполнено Богами» Фалеса оказывается истоком всякой литературы или всякого заинтересованного описания. Вспомним также о мистических корнях науки.
7
Я ввожу понятия феноменологической или метафеноменологи-ческой топологии и даже топонимики. (Еще: топография). Установление места работы с темой. Место предмета и место рефлексии движения или работы с предметом, искусство перехода, топологически невозможное искусство перехода. В одном месте - кажется, в статье о Шпете - я провел аналогию с невозможными фигурами Эшера, говоря о работе Гуссерля... Это в контексте задачи разобраться в позициях рефлексии-сознания-опыта применительно к самой диспозиции, с которой происходит описание, дескрипция или разные описания. От топонимики к топологии. Можно тогда ввести классификацию топологических пространств. Посмотреть возможность переноса и аналогий. Можно ли ввести понятие связности, размерности и т. д. См. Наглядную геометрию. См. Хофштедтера.
8
К Предисловию. Моя позиция. Выступаю ли я арбитром [по отношению] к участникам произошедших споров (скажем, Ингар-ден-Гуссерль)? Подчеркиваю - не прошлых споров, а настоящих, поскольку вопросы остались неразрешенными. Роли арбитра не надо пугаться, хотя первая задача - это максимально адекватно представить позиции. Тем более, мы знаем, что во многих случаях разошедшиеся участники пытались доказать и развернуть свою позицию и возможно изменили ее в пользу оппонента.
9
<...> Метакритический вывод относительно понятий феноменологии ведет к тому, что они понимаются как установки, которые не
предрешают нахождение предметов. Предметность как-то возникает, но то, относительно чего установки применяются, остается в старой предметности. Так же как «знать истину» означает понимать вопрос «Что есть истина», а не владение чем-то готовым. Вопрос Пилата риторичен в принципе. Поэтому ответ Иисуса - молчание - точен.
10
Ясно, что отождествление переживаний с сознанием нужно Гуссерлю для того, чтобы иметь дело непосредственно и именно с сознанием. Подходят ли для этого «акты» и «переживания», и вообще что они именуют - другой вопрос. В противном случае - путь метатеории. Вопрос в том, есть ли какие-либо у нас существенные основания [для] предпочтения или дело в конвенции. Очевидно, что такие основания или резоны должны заключаться в самом предмете мысли -сознании, но они могут черпаться также из прагматики <...>.
11
Еще один ход в направлении критики Гуссерля. По большому счету феноменология в гуссерлевском аналитическом варианте оказалась на ложном пути, поскольку акты не могут быть даны в принципе. Акты - это конструкты. Сам феноменолог действует здесь как раз не феноменологически. А тут возникает иллюзия противоположного благодаря понятию переживания. Мы вспоминаем нечто и имеем дело всегда только с этим нечто. То, благодаря чему мы относим это нечто именно к вспоминаемому, а не воспринимаемому в живом присутствии, вовсе не есть акт. Тут время играет роль основания такой отнесенности. Хорошо, но является ли время таким основанием для маркировки иных когитаций? Я воспринимаю дом, я вспоминаю дом, я мыслю... - что? Тут еще одна трудность: можно ли вообще говорить об акте мышления, имея в виду дом как интенциональный предмет? (Это вопрос о том, допустимо ли говорить и в каких границах об акте вне зависимости от когитатума.) Я мыслю о доме или мыслю мысль. Если переживания связаны только с переживаниями, то может быть и как индивидуальные типы переживаний связаны только сами с собой, а связь с другими, возможно, служит указанием на некорректность задания их как отдельных. (Похожие вопросы возникают в Идеях 1) Итак, я мыслю мысль. Является ли время основанием для выделения мысли? У времени есть три модуса - этого явно недостаточно. Наверное, Гуссерль как-то сознавал эти трудности и так [именно следует] оценить и посмотреть на работу о внутреннем времени сознания.
Фуко говорит: Хайдеггера интересовал вопрос о сокровенной сущности истины, Витгенштейна - то, как мы говорим или сообщаем истину. Меня же (Фуко) то, почему истина оказывается столь часто неистинной.
Можно сказать: Канта интересует вопрос [о] сущности субъективности. То, что таковая существует в месте индивидуума (человека), было для него несомненным. Во всяком случае примечательно то, что трансцендентальное Я есть именно Я, которое исходно или первично «находится» в психофизической онтике и даже в языке как место-имение (имение места). Гуссерль попытался (специально не формулируя свою задачу [именно таким образом]) расцепить (и это какой-то трансцендентальный психоанализ!) субъективность и индивидуума за счет того, что субъективность и сознание у него оказывалось топологически развернутым (в отличие от сингулярного характера субъективности у Канта), занимают свое пространство, которое иррелевантно индивидуально-человеческому. Именно развертка проблематизировала место встречи, которое он постоянно искал. Это видно из его обсуждения проблемы Я (Сравни со Шпетом).
Оно (сознание или место) всеобще относительно «человеков», хотя имеет свою индивидуацию (не путать с юнговским понятием). Неким атавизмом индивидуальной приуроченности субъективности оказывалась анимация трансцендентальной сферы (еще через немецкий идеализм). Хайдеггер «окончательно» осознал, что вместе с субъективностью протаскивается индивидуум, что расцепить это не удастся (Хайдеггер не был затронут психоанализом). Но можно ли найти психоаналитическую аналогию хайдеггеровскому ходу (Юнг?), и что, стало быть, место субъекта должно быть смещено? В этом плане даже вполне идиотический вывод <...> о том, что субъектом у Хайдеггера выступает забота, не кажется неожиданным. Чем хуже эта забота «воли» Шопенгауэра?
Вообще такое расцепление взрывоопасно, подобно тому как при расщеплении ядра освобождается энергия. Смещение места трансцендентального с человека и освобождает энергетику мифа и анимации. Или можно сказать, что само расцепление происходит благодаря анимации субъективности: она становится на ножки и убегает от индивидуума.
Итак, после проблематизации места субъективности произошла проблематизация самой субъективности. Здесь уже атавизмом стало то, что мифологические персонажи принимают какой-то не антропоморфный, не греческий (восточный?) характер (Бытие и
его судьба, говорящий язык и проч.). (Отметить особую роль Ницше, ибо Хайдеггер во многом «заворотный хавбек» Ницше.)
А далее происходит нападение на индивидуума, на всякие объективации субъекта в культе: смерть автора, становления субъектом за счет принятия дискурсивных практик, разделение опыта и субъекта - и прочая полная десубъективация, деиндивидуация субъективности.
Идея ризомы Делеза. Но надо помнить, что паутина плетется пауком. Другое дело, что паук не совсем субъект в том смысле, что он как бы реализует план. Надо присмотреться к отношению индивидуума и судьбы. В этом плане проблематично, чтобы субъективность могла «иметь судьбу», поскольку она сама себе хозяйка. Видимо, изначально у субъективности всегда есть границы (уже по христианской раскладке отношений Бога и человека).
Так что Мераб Константинович вряд ли был прав, безоговорочно характеризуя именно индивидуацию как сущностный признак не-классики. Последнее было некой серединой завершения классического и сохраняется как здравая тенденция сейчас. Так в проблеме телесности можно впасть в абсурд, если брать ее в контексте десубъективации. Но если брать как выявление реализуемости мысли - тогда только это продуктивно и недеструктивно. В этом плане неоценен опыт Мамардашвили, который здесь идет явно против французского течения.
13
...Отсюда вытекает еще одна задача моей книги: демонстрация различий в ориентации: 1. Разведение субъективности, десубъективация индивидуума и индивидуума, 2. индивидуация субъективности. Это и есть ведущая линии сюжета «Приключений трансцендентальной субъективности». Я хочу показать, что абсолютизация первого, остановка на этой точке, которая [точка] [есть] лишь момент или этап деконструкции. Хотя возникает вопрос о мотивации подобной остановки.
16
О складке Делеза. Эта метафора не хуже, чем другие. Субъект-объект также метафора. Формально понятно, чего хочет Делез. Это борьба с субъективностью (субъектностью) человека. А стало быть, и с субъективностью в человеке. Отрицание всякого внутреннего. Только одни складки. Прорехи и прочие портняжные детали. Внутреннее - это складка. Или изнанка. Поверхности. Кожа. Тело.
Действительно, тут уж голова никак не важнее руки. Но только -что достигается? Снятие ли внутреннего, сознания человеческого? Вряд ли. Что дает такое переназывание? Переносит место возможного решения проблемы, меняет ее смысл - старых вопросов о соотношении души и тела, в конечном счете...
То, как я действую, - о том догадывался Фуко. Это иной раскрой мира...
17
Корни феноменологии парадоксальны. Тут есть два взаимно противоположных пути, которые отталкиваются от формально схожих интуиций или даже от одной интуиции. Корни ведут в культ романтической непосредственности. Но эта непосредственность оказывается тайной, сокрытой. Тот же пафос у Гуссерля, где жизненный мир - это то, в чем мы живем, [и] в то же время - скрытая основа... Романтизм здесь в картине закрытия естества и перво-зданности культурой. Редукция как некое опрощение... Но вот эта сокрытость ведет к некоему противоположному варианту феноменологии. К символологическому ее варианту. Возможно, этот путь можно сопрягать уже с Хайдеггером. Но мы в первую очередь имеем в виду Мамардашвили и П[ятигорского]. Их символоло-гия - это попытка мыслить символ, избегая романтических невнятиц, всякого пафоса «внутреннего», неизреченного и проч. Попытка замечательная и оригинальная в высшей степени и не нашедшая продолжения. Я вот и сознаю свою работу как некую работу «на полях» этого опыта...
18
Можно сказать, что вся философия 18-20 вв. прошла в попытках решить знаменитую проблему синтеза, или связи души и тела. Эта проблематика у Канта звучала как связь или синтез чувственности и рассудка. И в дальнейших попытках с их радикальным отходом от Канта наблюдалось то же. Вот Гуссерль в Л[огических] и[следованиях]. Основной вопрос - связи выражения и значения, видимого и невидимого. Попытки преодоления или за счет устранения видимого или невидимого. Откуда вообще эта забота: узнаем ли мы заключенную здесь сильную предпосылку, от которой можно избавиться как от проклятия (эту веру, кажется, разделяют Хайдеггер, Витгенштейн, Рорти (во всяком случае он так показывает дело), Делез и иже с ним...). Но, пожалуй, это лучше показано у Мерло-Понти в «Видимом и невидимом». <...>
Расхождение Гуссерля с геттингенцами началось тогда, когда первый пошел по пути Канта. Не давали ему эти лавры покоя. По исходной идее феноменология должна ориентироваться только на описание феноменов. Механика восприятия или состояния субъективности как последней основы не должны бы ее волновать. Хотя бы потому, что это ненаблюдаемое, не феноменальное в исходном смысле. Тем более что в первом томе «Логических исследований» критика психологизма отделила (кстати, повторяя Канта слово в слово) план выражения и морфологию (психику). Однако Гуссерль стал заниматься вопросами, к которым уклонялся и Кант в задаче трансцендентальной дедукции категорий, особенно в первом издании Критики, где он неосмотрительно вовлекся в анализ микромасштабной структуры апперцепции (синтезов). После Кант отказался от этого соблазна. И вот с этого [пункта] Гуссерль начинает, отсюда его проект феноменологии как трансцендентальной науки о сознании. Тут уже не до ноэмы, одни ноэзы...
22
Синтез есть языковый феномен. Он принадлежит метаязыку. Интенциональность есть иное название синтеза. Интенциональ-ное представление-определение (лучше, характеристика) сознания - это попытка изначально синтетическая, попытка схватить феномен сознания как целостное образование, эйдос. Вот почему интенциональность - также метаязыковый феномен. Это язык символический. Интенциональность переводит нас в феноменологическую установку, она предполагает редуктивную, а не предметную интерпретацию. Всякая предметная интерпретация топологична. Понятие интенциональности а-топологично. На это указывает постоянная борьба или даже путаница у Брентано и Гуссерля с топологией. (Чего стоят усилия по поводу выяснения отношений, что во что включается - разъяснения смысла интен-циональной предметности.) Парадокс коренится в том, что это именно предметность. Но это не предметность, так же как чистые созерцания Канта - не созерцания. Язык реагирует на предметность, и протаскивается топология. Но это парадоксальный, а-топологический предмет, ибо это чистый смысл. Смысл и сознание релевантны по своей а-топологичности. Это наследие Декарта. Можно, конечно, говорить о слабой топологичности или об «особом» пространстве.
Итак, я все больше сознаю, что уже проделал какой-то Путь. Он не завершен, но это неважно. Неосознание завершенности, кажется, входит в осознание пути. Все главное, кажется, еще впереди. Но Земля круглая.
Я начал с науки, астрономии, физики. Истоком были переживания Единого. Это мистическое переживание Вселенной. Это настоящая алхимия. Тогда казалось, что, занимаясь любым доказательством теоремы, ты касаешься звена в бесконечной цепи сущего, того, что истинно есть. Здесь телесное и теоретическое совпадали. Я не знал тогда, что у европейской науки есть исток в мистике.
58
Феноменология искусства. Невозможная вещь. Каков телос редукции? Если брать категорию Духа, который в искусстве воплощается всегда через иное - и в то же время выражается непосредственно, то тут нужна диалектика. (Диалектика и феноменология). Или понимать феноменологию искусства в вульгарном плане: это взгляд человека, лишенного этого органа, не принимающего эстетическое поведение. Интересно еще изучать такую установку, но никак не давать ей повторять свои одинаковые по сути вердикты отрицания. Так в искусстве феноменология становится внутренним моментом, моментом «цезуры» прерывания форм, границ, проявлением абсурда - именно моментом, а не тотальностью. Последний случай означает отрицание искусства. Так можно назвать «время феноменологии».
59
Время феноменологии (статья). Феноменология - рецидив тоски по подлинности. Не единственное место, конечно. Или - единственное адекватное этой тоске место. Рассмотреть сам феномен этой тоски. В данном примере проявляется сам феноменологический подход к вещам, или подход к вещам и предполагает феноменологию. Но: относительность аккомодации взгляда: феноменом может быть и конструкт как таковой. Часто путают в редукции конструкты и их содержание. Теоретический конструкт как таковой есть феномен. Так, у Мамардашвили точно ухвачено это в различии существования и содержания знания...





 CC BY-NC-ND
CC BY-NC-ND 17
17