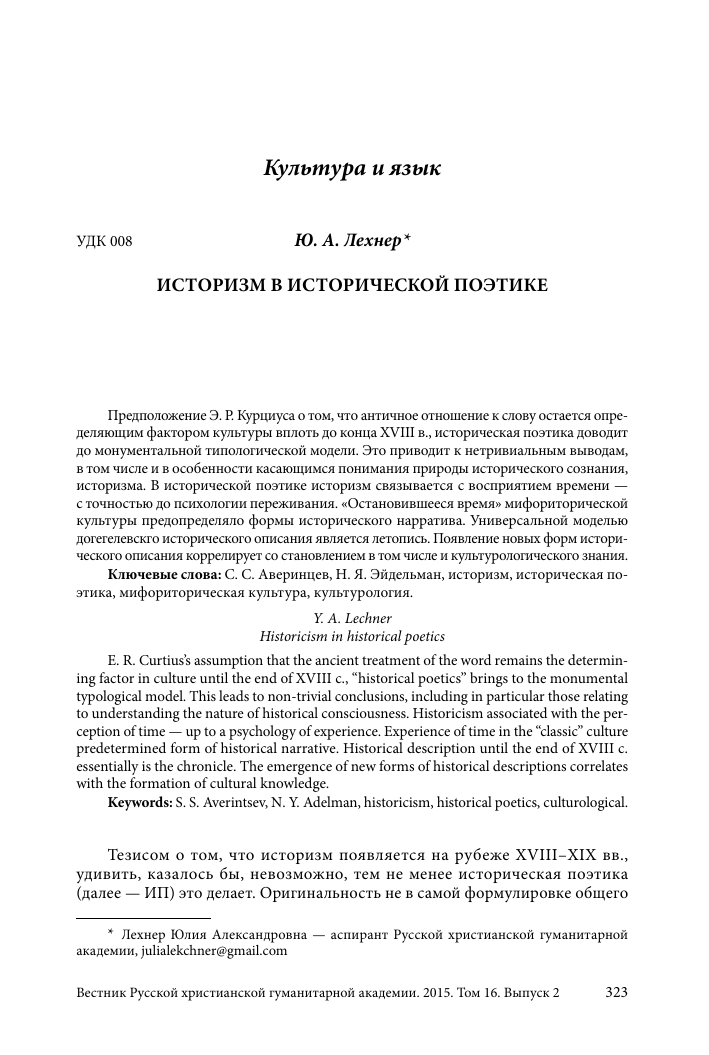Культура и язык
УДК 008 Ю. А. Лехнер *
ИСТОРИЗМ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКЕ
Предположение Э. Р. Курциуса о том, что античное отношение к слову остается определяющим фактором культуры вплоть до конца XVIII в., историческая поэтика доводит до монументальной типологической модели. Это приводит к нетривиальным выводам, в том числе и в особенности касающимся понимания природы исторического сознания, историзма. В исторической поэтике историзм связывается с восприятием времени — с точностью до психологии переживания. «Остановившееся время» мифориторической культуры предопределяло формы исторического нарратива. Универсальной моделью догегелевскго исторического описания является летопись. Появление новых форм исторического описания коррелирует со становлением в том числе и культурологического знания.
Ключевые слова: С. С. Аверинцев, Н. Я. Эйдельман, историзм, историческая поэтика, мифориторическая культура, культурология.
Y. A. Lechner Historicism in historical poetics
E. R. Curtius's assumption that the ancient treatment of the word remains the determining factor in culture until the end of XVIII c., "historical poetics" brings to the monumental typological model. This leads to non-trivial conclusions, including in particular those relating to understanding the nature of historical consciousness. Historicism associated with the perception of time — up to a psychology of experience. Experience of time in the "classic" culture predetermined form of historical narrative. Historical description until the end of XVIII c. essentially is the chronicle. The emergence of new forms of historical descriptions correlates with the formation of cultural knowledge.
Keywords: S. S. Averintsev, N. Y. Adelman, historicism, historical poetics, culturological.
Тезисом о том, что историзм появляется на рубеже XVIII-XIX вв., удивить, казалось бы, невозможно, тем не менее историческая поэтика (далее — ИП) это делает. Оригинальность не в самой формулировке общего
* Лехнер Юлия Александровна — аспирант Русской христианской гуманитарной академии, julialekchner@gmail.com
Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. Том 16. Выпуск 2
323
тезиса, а в энергии его утверждения, из чего затем вытекают нетривиальные следствия. Понятно, откуда вытекает эта энергия. Она задается контекстом, в который вписывается проблема. Этот контекст — общая типология культуры в ИП. Точнее, положение о том, что в конце XVIII в. европейская культура переживает революцию.
Здесь та же проблема, что и с историзмом. Утверждение о том, что в истории культуры в конце XVIII в. происходили серьезные изменения, — трюизм. ИП и здесь выглядит полностью неоригинальной. Это положение есть в той или иной форме во всех моделях истории культуры. В марксизме значимость именно конца XVIII в. отчасти гасилась тем, что Французская революция как важнейшее событие конца века полагалась частью более общего процесса — серии «буржуазных революций», этапом в ряду прочих (голландской, английской и т. д.). Современный неомарксизм, изменив слегка «оптику» (приняв в качестве фундамента теории понятие «модернизации»), поменял и общую картину. В этой перспективе решающий исторический акцент лег именно на конец XVIII в., на Французскую революцию — так у Э. Хобсбаума, в популярной и авторитетной на Западе типологической модели истории культуры [14-16]. А если вспомнить, что акцент на решающей роли Французской революции существовал и в других парадигмах (очень непросто было литературоведению. Отсчет именно от Французской революции «современной литературы» действовал там всегда — «по умолчанию». При этом в СССР это приводило к сложностям именно в силу очевидного здесь противоречия с марксистской догмой. Именно отсюда тяжелая судьба замысловатой концепции «просветительского реализма», как раз и позволявшая приблизить начало современной литературы к началу буржуазных революций), то тезис об особой значимости последних десятилетий XVIII в. в этой перспективе окончательно теряет претензии на оригинальность.
Но, как и с историзмом, это только на первый взгляд. На самом деле именно здесь, в указании на революционность конца Просвещения, подход ИП является новаторским, более того, парадоксально новаторским. В гуманитарном знании, уважающем традиции и авторитеты, такая смелость кажется чем-то таким, что заставляет вспомнить о слове «хулиганство». Парадоксальность на грани «научного хулиганства».
Это новаторство фундаментально, оно проявляет себя во всем, оно перекраивает все устоявшиеся оценки, всю картину «точек бифуркации» исторического процесса. При этом не следует искать это новое именно в оценках и в узлах схемы. Главное — в энергетике утверждения фундаментальных моментов, в той силе, с которой проводится «водораздел» между «классической культурой» и «новой». В ИП этот водораздел — крупнейший тектонический сдвиг в истории культуры, сравнимый в катастрофичности только с «интеллектуальной революцией» греков. «Изживание достигнутой греками стадии рефлективного традиционализма совершается не раньше, чем Новое время окончательно находит себя» [2, с. 6]. В современной вольной интерпретации: «Произошедший в это время перелом — это катастрофа, которая по своему масштабу и по последствиям — большая, чем все, что пережила европейская цивилизация за предыдущие две тысячи лет». Так, в ИП
переход от античности к средневековью — не «тектонический», это нечто гораздо более локальное, это революция внутри одного типа культуры, сохранившая главные определяющие механизмы культуры. То, что произошло в конце XVIII в., гораздо масштабнее... Заново были переписаны почти все культурные коды [8, с. 24].
В такой перспективе на несколько десятилетий конца XVIII в. взваливается исключительно высокая нагрузка. Если С. С. Аверинцев прав, то в эти десятилетия складываются контуры той парадигмы, которая будет определять содержание культуры последующих двухсот лет. Когда думаешь о тяжести, ложившейся на тех, кто жил и творил в то время, делается больно за них. Могли ли они выдержать все это? Есть ли в текстах творцов этой эпохи потенциал, соответствующий задачам определения контуров парадигмы новой культуры? «Есть», — уверенно отвечает Аверинцев. Эти тексты «стояли между временами — положение драматическое, но плодотворное» [3, с. 37].
Возможна оговорка, которая могла бы фактически снять напряжение, «купировать» общекультурный пафос ИП: «Как же, ведь здесь ключевое слово "поэтика". Значит, речь о литературе прежде всего — может быть тогда о литературе только?» Конечно нет. Да, жаль, что до общей истории культуры идеи ИП не были достроены. Последний фундаментальный труд «школы исторической поэтики»1 вышел в 1994 г., и он — только о литературе. Но, конечно, основные положения ИП затрагивают все сферы культуры, не только литературу. То, что было сказано часто «попутно», и особенно то, как это было сказано, не оставляет сомнений на этот счет. Создатели ИП прекрасно понимали, что основные выводы прямо и непосредственно могут быть экстраполированы в прочие сферы, но у небольшого коллектива (пять подписавших «манифест») на переписывание всей истории мировой культуры сил не было (через год ушел из жизни А. В. Михайлов, через десять — много болевший С. С. Аверинцев) — а речь шла именно об этом. Но некоторые процедуры экстраполяции, во-первых, были прямо указаны создателями ИП, во-вторых, намечены ими либо косвенно, либо попутно. Так, самые фундаментальные теоретические положения были высказаны в статьях, казалось бы, локальных, частных. Так, программное историко-культурное положение было заявлено в сборнике антиковедов: «Мифори-торическая система культуры, начинавшаяся в век Аристотеля и позже, утвердившаяся в эллинизме, никогда не переставала существовать вплоть
1 Следует уточнить: в этой статье под «школой исторической поэтики» имеется в виду только группа исследователей, работавших непосредственно с С. С. Аверин-цевым в ИМЛИ и подписавших «манифест» 1994 г., т. е. статью «Категории поэтики в смене литературных эпох», опубликованную в книге «Историческая поэтика» [12] (хотя «группа Аверинцева» — тоже условный термин: среди подписавших манифест был М. Андреев — оригинальный и самостоятельный ученый, продолжающий активно работать). Идеи ИП развивались параллельно и продолжают развиваться в РГГУ кафедрой ИП и рядом других исследователей. Это серьезная и значительная работа, но здесь касаться ее мы не будем.
до XVIII в.» [9, с. 312]. Вот так, ни больше ни меньше! История культуры от Античности до Гегеля — это «система», и она едина в своих основаниях (дальше Михайлов даже помечтает в квазимарксистском духе о возможных экономических причинах такого единообразия культуры). Еще раз скажем: согласиться с этим тезисом очень и очень непросто. Удар, наносимый провозглашением единства «классической культуры» (от Эсхила до Шиллера) принятым моделям, столь силен, что можно понять любой скептицизм в этом вопросе. Но и спрятаться от проблемы трудно. За этим тезисом — серьезная работа. Главный аргумент идет от эмпирики, от текстов. Объем текстов, на которых строится модель единства, огромен. Решающий аргумент — совпадение в главном (в указании на границы единства) в концепциях самых больших в XX в. знатоков классических текстов: Аверинцева, Гаспарова, Бахтина и Курциуса. Очевидны «болевые точки» типологии ИП. Самая «вопиющая» проблема: понижение роли христианства и Ренессанса — здесь скептицизм наиболее оправдан. Здесь открывается поле для большой работы. Прежде всего нужна фундаментальная реконструкция понимания проблемы Аверинцевым по косвенным, в том числе, возможно, архивным материалам. Одно можно сказать определенно: в легкомыслии по отношению к христианству его заподозрить невозможно — Аверинцев был аутентично верующим человеком, религиозным мыслителем и поэтом, переводчиком библейских текстов (в своих переводах текстов Евангелия он единственный, кто пытался учесть древнееврейские, коптские, арамейские и сирийские языковые и культурные контексты «пратекста»), крупнейшим на планете знатоком христианской литературы (скорее всего, ответ очень приблизительно может быть таким: христианство, совершив революцию в области духа, в культурной работе воспользовалось готовыми формами Античности). Так же свободно и полно Аверинцев, Михайлов, Гаспаров владели корпусом текстов эпохи Возрождения. Позиция по отношению к культуре Ренессанса (это не «тектоническая» революция) у них была твердой, но она осталась недосказанной. Показателен эпизод, произошедший в середине 1990-х гг., когда на небольшую статью Аверинцева о Ренессансе гневной пространной филиппикой разразился М. Баткин [5, с. 65-70, 252-254]. Аверинцев не ответил и полемику не продолжил. Скорее всего, из деликатности — создав массу проблем нам, сегодняшним. Проблему места Ренессанса к типологии ИП придется решать практически заново. Многое было сделано (и делается) в позднейших работах М. Андреева (одного из создателей ИП), но и они не дают ответа на все острые вопросы, скорее еще более заостряют их.
За изобразительное искусство, живопись, музыку в «школе ИП» «отвечал» А. В. Михайлов, бывший в том числе и профессиональным искусствоведом (а также философом, переводчиком Ницше и Хайдеггера). Ему принадлежат фундаментальные работы по истории живописи и музыкальной эстетике [см. 10, 11]. Но главное — не эти работы. Собственно искусствоведческие работы Михайлова посвящены локальным сюжетам. Важнее та серьезность фундаментальных положений, к которым ИП выходит на литературном материале. В частности, тезис о решающей роли жанровых границ в классической культуре. Кульминация «классических культур» — системы жанров. Твердая стабильная
система жанров, устроенная, как лестница — от «низших» жанров к «высшим», — обязательный признак классических литератур. Но ведь совершенно очевидно, что в живописи все то же самое. В классической живописи времени ее кульминации (XVII-XVШ вв.) можно обнаружить точно ту же лестницу, и сами жанры коррелятивны литературным (новелла, басня / жанровая сценка — «внизу»; эпос / историческое и мифологическое полотно — «наверху»). И главное: в точке крушения классической системы погибает прежде всего сам принцип иерархичности жанров — как в литературе, так и в изобразительном искусстве (с поправкой: в изобразительном искусстве этот процесс оказался более продолжительным в реальном времени). И это правило, неизменно работающее во всех вариантах: во-первых, так было во всех национальных культурах, во-вторых, так было позже в совершенно иных условиях на Востоке, в Японии и Китае.
Иными словами, то, что основной инструмент анализа в ИП — понятие «риторического слова», никак не замыкает проблематику этой теории в пределы только истории литературы. «Просто» проблема очень непроста. «Просто» есть сверхзадача: найти в «языке» живописи элементы, которые были бы аналогичны слову, а в классической живописи — риторическому слову. Есть основания полагать, что в этом направлении совершались определенные движения в «школе» А. Варбурга. Поиски в области иконологии и иконографии иногда поразительно близки открытиям в области «топики», сделанными Э. Р. Курциусом и позже Аверинцевым-Гаспровым.
Выходы в сторону философии совершались на всем протяжении развития «советской» ИП. Говорить о С. С. Аверинцеве только лишь как о филологе — это по меньшей мере странно (а именно так и выходит, когда, например, В. Куренной говорит о «литературоцентричности» «постсоветской культурологии» [7, с. 17-79]). Напомним общеизвестные факты: в 1960-е гг. монументальный проект Института философии Академии наук по изданию фундаментальной философской энциклопедии был едва ли не в одиночку спасен Аверинцевым, тогда еще совсем молодым аспирантом. Для «Философской энциклопедии» он написал больше пятидесяти статей по самым экзотичным тогда проблемам (в том числе статьи «Неотомизм», «Фома Ак-винский», «Шпенглер», «Бубер», «Ясперс», «София»). Особенно велика роль Аверинцева в создании 5-го, последнего тома, где должны были быть статьи о христианстве. Но при этом в профессиональной философской периодике Аверинцев не публиковался. Надо полагать, в том числе и из деликатности, из полной неспособности к бестактному вторжению на чужую территорию. Но и спрятать все те вызовы, которые содержались в «проекте» ИП и которые были направлены в сторону традиционных философских оценок, тоже было невозможно. Так появилась статья 1989 г. «Два рождения европейского рационализма» [1], где всю философию от Фалеса и Параменида до Канта фактически предлагалось переписать заново как единую парадигму «первого рационализма», а всю философию от Гегеля до сегодняшних споров — как единую программу «второго рационализма». Правда, самих этих требований в статье не было, но фундаментальные понятия были поставлены именно с указанием на эти перспективы.
* * *
Не могли выводы из общей картины истории слова не затронуть и логики описания исторического процесса. Более того, возможно, именно здесь идеи ИП оказываются наиболее радикальными.
Во множестве концепций истории культуры есть противопоставление культуры до рубежа XVIII-XIX в. и последующей по типу историзма. Часто встречается противопоставление послегегелевского историзма как «подлинного», «современного» предшествовавшим формам исторического сознания. Но ни одна концепция не является столь радикальной, как ИП. То, что происходит на рубеже XVIII-XIX вв., для ИП не просто водораздел, это линия, разделяющая два типа культуры, две разные планеты. Между этими типами культуры существует бездна, пропасть.
Все это есть уже в самом исходном термине, образующем фундамент системы, в понятии «рефлексивного традиционализма». Опасность для традиционного понимания историзма вытекает уже из самого слова «традиционализм», из того, как его понимает ИП. Аверинцев, будучи человеком очень мягким, внимательным и бережным к любым колебаниям, к полутонам, здесь был склонен к почти расселовской аналитической строгости. «Традиционализм» — ни в коем случае не есть просто «нечто», связанное с традициями. Традиционализм, по Аверинцеву, — это логика, отвергающая новое как ценность. Это мышление, которое в ситуации выбора между двумя сопоставимыми вещами всегда выберет ту, которая имеет отношение к прошлому, которое с недоверием относится ко всему тому, чего еще не было. Но ведь тогда в традиционализме что-то очень странное должно происходить со временем. Оно должно мыслиться текучим, но ничего не меняющим, фактически стоящим на месте. Неужели так? Именно так! И уже Михайлов уточняет: «Время риторической культуры — время стояния» [9, с. 315]. А потому что «в рамках такого типа культуры... в конечном счете всегда известно, что есть истина и что есть истина, а вместе с тем все истинное еще и морально-положительно» [9, с. 310]. Тогда понятно. Ведь если истина всегда «по умолчанию» предполагается самоочевидной, то тогда время будет излишним, оно ничего не будет создавать, потому что ничего всерьез не может изменить.
Но ведь если это так, то тогда в «мифориторической культуре» вообще невозможна история как наука (в хоть сколько-нибудь принципиальном понимании слова «наука») и уж точно невозможен историзм. Для создателей ИП дело обстоит именно так. «Гегелевский» («гегелевский» — условно, потому что не Гегель в одиночку изобрел историзм) историзм противостоит не многообразию типов историзма (как у М. А. Барга, как вообще и принято полагать в сообществе историков. До гегелевского историзма Барг насчитывает историзмы: античный, средневековый, ренессансный, просвещенческий. Уже то, что границы этих «историзмов» совпадают с границами традиционно понимаемых эпох, не говорит ли о том, что собственно внутренней логики историзма как такового Барг не ищет, а описывает свойства исторического знания по заданной извне схеме, встраивая слово «историзм» в известные наборы признаков
«эпох» [см. 4]?), а отсутствию историзма. Самое драматичное место об этом в ИП — фрагмент из той же статьи Михайлова, где автор мучительно, сложно констатирует, что — о ужас! — приходится признать, что историзм не был известен даже Канту, даже уже совсем позднему Канту, даже в 1790-е, когда в живительной влаге историзма с восторгом плескались йенские мальчики Вакенродер, Тик, Новалис. Хайдеггерианцу Михайлову, хорошо знающему современную философию, возводящую к Канту все важнейшие современные практики (толерантность, плюрализм, демократизм и т. д.), трудно это произнести (потому что вне историзма все эти практики невозможны), но он это произносит. У «Канта поражает полное отсутствие исторического — понимания ли, чувства, здравого ощущения истории» [9, с. 315].
И это ценный показатель того, что все еще длится. процесс истории, которая в устойчивости своего пребывания вжилась в себя и вжилась в свое. История — как пребывание в своем и при своем, новое еще не отделяется, не отмежевывается от древнего [9, с. 315-316].
Ну а дальше еще страшнее. Если уж у Канта нет «здравого ощущения истории», то тем более историзм был невозможен в регулярной академической науке вплоть до Канта. А можно ли тогда говорить о самой исторической науке как таковой? «А был ли мальчик?» Напрашивается ответ: историческое знание было, на всем протяжении «мифориторической культуры» оно было фундаментальным общественным институтом, но типологически оно далеко отстоит от того, что мы понимаем под исторической наукой. А тогда к чему близко, на что похоже «мифориторическое» историческое знание? Искомое слово обнаруживается в той же статье Михайлова. Время в такой логике — «механическое, хроникальное» [9, с. 316]. Хроника! Вот ключевое слово! Или, по-русски, летопись! И тогда есть замечательное совпадение! Вспомним, как Пушкин назвал Карамзина: «последний летописец». Это пушкинское словечко, которое казалось чем-то случайным, «просто» поэтическим украшением, вдруг приобретает точность термина. Вряд ли это случайно. Скорее это выглядит еще одним проявлением исключительной интуиции поэта. Последняя великая история «мифориторической эпохи» — именно последняя летопись. Морализирующая калькуляция событий, процедура связывания событий в линейную последовательность, сопровождающаяся моральными сентенциями.
Мало это или много? Вероятно, многим покажется, что этого очень мало, что следует немедленно защитить Карамзина от такого унижения. Но вот уже совсем недавно Н. Я. Эйдельман пишет книгу о Карамзине, которую называет «Последний летописец». Уж Эйдельмана в нелюбви к Карамзину упрекнуть невозможно. Важно, что Эйдельман пришел к этому определению независимо от ИП. Но если для Аверинцева и Михайлова хроникальность — это признак «мифориторческой» культуры, то, что заведомо и окончательно осталось в прошлом, то у Эйдельмана вычитывается тоска по подобному роду повествования. «Здесь было много верного, серьезного. Карамзин как будто оживлял умиравшую, отжившую традицию, все более нелепую для века разума и анализа» [17, с. 10]. Эйдельман решительно защищает Карамзина-летописца
от аналитической критики современной истории. «Да, при этом как будто отступает исторический анализ, подобному историку меньше можно верить в частностях, но зато схвачено нечто для Карамзина более важное — дух целого, летописная атмосфера прошлого» [17, с. 158]. Эйдельмана тревожит современное ему состояние науки истории. Он прекрасно понимает, что она (история) продвинулась далеко вперед, но все же переживает, что где-то там, за своей спиной, история оставила что-то важное и значимое.
Сегодняшний ученый, не отказываясь ни от одного научного завоевания, может, полагаем, найти массу ценного, поучительного в методе Карамзина и ему подобных первых историков и «последних летописцев». К тому же, стремясь к строгой, объективной картине, специалисты нашего времени, вооруженные мощными научными методами, кое-что и утратили по сравнению со старыми историографами. Открылось, например, что современный ученый куда лучше, легче «управляется» с большими массами людей, нежели с отдельными личностями: класс, сословие, нация — закономерности подобных общественных категорий, кажется, более подаются объективному анализу, нежели биография, внутреннее развитие одного исторического лица. Между тем Карамзин и другие историки-художники как раз достигали больших высот в «портретировании» своих героев, анализе их намерений и действий [17, с. 159].
Эйдельман призывает историков быть внимательней к исследуемому предмету:
Серьезный ученый разбор — дело великое! Но если при этом забыта конечная цель, если задача без сверхзадачи, тогда опасность засохнуть, утонуть в материале, потерять в конце концов научные ориентиры не меньшая (а может, большая!), чем опасность для историка-художника заболтаться, чересчур воспарить, оторваться от реальной почвы [17, с. 58].
Как мы видим, Эйдельман противопоставляет летописную историю научной истории, истории ему современной. В своей категоричности противопоставления исторического мышления эпох он не оказывается одинок. Сразу вспоминаются современные работы по истории культуры П. А. Сапронова. Самое интересное, что у него в определении догегелевского историзма мы так же встречам знакомое нам слово «летопись»: «Историзм, идущий от Геродота и разделяемый не только античностью, но и средневековьем и Ренессансом, основывается на работе историка — свидетеля и летописца» [13, с. 56]. Далее Сапронов пишет: «Очень показательно, что вплоть до XIX века в общественном сознании образ историка совпадал с образом мемуариста, а ведение дневника — с созданием исторического сочинения» [13, с. 56]. Сапронов демонстрирует нам и то, как можно «забыть о сверхзадаче, засохнуть и утонуть в материале», — на примере книги Голенищева-Кутузова о Данте. Современный исследователь отмечает, что в работе Голенищева-Кутузова, построенной на широком контексте, главный ее герой — Данте — оказывается малоинтересен автору. Замечательно сближение логики Сапронова и Эйдельмана в точке понимания
прошлого как живого настоящего. Но настроение Эйдельмана более апокалиптическое. Для него все ограничивается лишь светлой тоской по летописной истории, которая безвозвратно утеряна. Сапронов идет дальше, пытаясь найти разрешение проблемы. Увидеть, так сказать, свет в конце туннеля.
Интересной оказалось неожиданная близость концепции Сапронова книге Эйдельмана. Еще интереснее, что в точке выхода от понимания историзма к модели культурологического знания Сапронов сближается с ИП.
Напомним, что культурологию, по Сапронову, «не устраивает взгляд "со спины", она хочет взглянуть в глаза тем людям, которые находятся в центре ее внимания» [13, с. 68]. Сапронов утверждает, что «для культуролога принципиально важно увидеть изучаемую реальность глазами человека, живущего в этой реальности». Он также утверждает, что у каждой культуры есть «своя "душа", в которую предстоит взглянуть и что-то понять» [13, с. 68]. Но если мы культурологию определили так, то это снова нас возвращает к серьезности взгляда исторической поэтики. У Сапронова культурология связана с историзмом. Но ведь и в ИП тоже так, причем весьма выразительно. Выше уже говорилось о важности последних десятилетий XVIII в. И отдельно — о том, насколько значимым был опыт ранних романтиков. Очень важным для ИП является как бы «кенотическое» переворачивание акцентов: вместо акцента на традиционных классиков, «корифеев» — внимание к тем, кто был на обочине, к почти маргиналам ([см. 8] там же говорится о новаторстве ИП на фоне по-прежнему господствующих дисциплинарных философских практик, «оптика» которых внимательна прежде всего к «корифеям»). Михайлов иронизирует над Кантом, а вот Гердер... Гердера он переводит. А ведь это 700 страниц, надо полагать, не один год работы. А еще он переводит В. Г. Вакенродера. Уже этим ничего фундаментального не создавший мальчик оказывается в центре внимания. Потому что серьезное движение навстречу историзму сразу создает предпосылки культурологии. У Вакенродера можно зафиксировать следы рождения нового понимания культуры, собственно рождения культурологии. Желание Вакенродера «искать людей такими, какими они на самом деле были» кажется весьма странным для него как для представителя своей эпохи. Но тем не менее оно есть. Заглянув в один из его текстов — «Фантазии об искусстве», — мы без труда уже в первой части книги сможем найти вещи, которые так близки культурологии сегодня. Например:
Зачем же вы проклинаете средние века за то, что тогда строили не такие храмы, как в Греции? .О, попытайтесь проникнуть в чужие души. предоставьте же каждому смертному и каждому народу верить в то, во что он верит, и быть счастливым по-своему [6, с. 57-58].
Этот призыв звучит совсем по-современному. Книга Вакенродера посвящена искусству. И вот парадокс: книга, которой более 200 лет, все еще оказывается актуальной. В своем анализе искусства Вакенродер превосходит многих современных искусствоведов. Он призывает нас не быть внешним наблюдателем по отношению к изучаемому предмету, он предлагает нам проникнуть «душой в смысл и дух целого» [6, с. 60]. Он упрекает исследователей искусства, которые
не способны «выйти из пределов настоящего и перенестись в прошлое» [6, с. 62]. Вакенродер предупреждает, что «образы немы и замкнуты в себе, коль скоро вы взираете на них холодными глазами; для того чтобы они заговорили с вами и подействовали на вас со всей своей силой, ваше сердце должно сначала воззвать к ним» [6, с. 75]. Энергетика Вакенродера, с которой он желает «войти» в предмет исследования, «прожить» его, «прочувствовать», оказывается весьма нетривиальной и для современного исследователя культуры и искусства. «Мы должны приобщиться к духу всякого из великих художников, посмотреть на предметы природы его глазами и сказать как бы от его лица» [6, с. 79]. Это почти точно слова П. А. Сапронова, и это культурология. А еще это ИП Аве-ринцева-Гаспарова-Михайлова. Последовательный историзм сближает.
ЛИТЕРАТУРА
1. Аверинцев С. С. Два рождения европейского рационализма // Вопросы философии. — 1989. — № 3. — С. 3-13.
2. Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Аверинцев С. С. Поэтика древнегреческой литературы.— М., 1991. — С. 3-14.
3. Аверинцев С. С. Поэзия Клеменса Брентано // Брентано К. Избранное (на немецком языке). — М., 1985. — С. 7-37.
4. Барг М. А. Эпохи и идеи: Становление историзма. — М., 1987. — 348 с.
5. Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. — М., 1989. — 273 с.
6. Вакенродер В. Г. Фантазии об искусстве. — М., 1977. — 263 с.
7. Куренной В. Исследовательская и политическая программа культурных исследований // Логос. — 2012. — № 1. — С. 14-79.
8. Мартынов В. А. Золотой век русской идеи. Историко-типологические очерки. — М., 2015. — 320 с.
9. Михайлов А. В. Античность как идеал и как культурная реальность // Античность как тип культуры. — М., 1988. — С. 308-324.
10. Михайлов А. В. Проблема характера в искусстве: живопись, скульптура, музыка // Языки культуры. — М., 1997. — С. 211-269.
11. Михайлов А. В. Этапы развития музыкально-эстетической мысли в Германии XIX века // Музыкальная эстетика Германии XIX века. — Т. 1. — М., 1981. — С. 9-73.
12. Аверинцев С. С., Гаспаров М. Л., Гринцер П. Н., Михайлов А. В., Андреев М. Л. Категории поэтики в смене исторических эпох // Историческая поэтика. М., 1994. — С. 3-38.
13. Сапронов П. А. Культурология: курс лекций по теории и истории культуры. — СПб., 2003. — 560 с.
14. Хобсбаум Э. Век империй: Европа 1875-1914. — Ростов н/Д., 1999. — 512 с.
15. Хобсбаум Э. Эпоха капитала: Европа 1848-1875. — Ростов н/Д., 1999. — 480 с.
16. Хобсбаум Э. Эпоха революций: Европа 1789-1848. — Ростов н/Д., 1999. — 480 с.
17. Эйдельман Н. Последний летописец. М., 1983. — 176 с.





 CC BY
CC BY 92
92