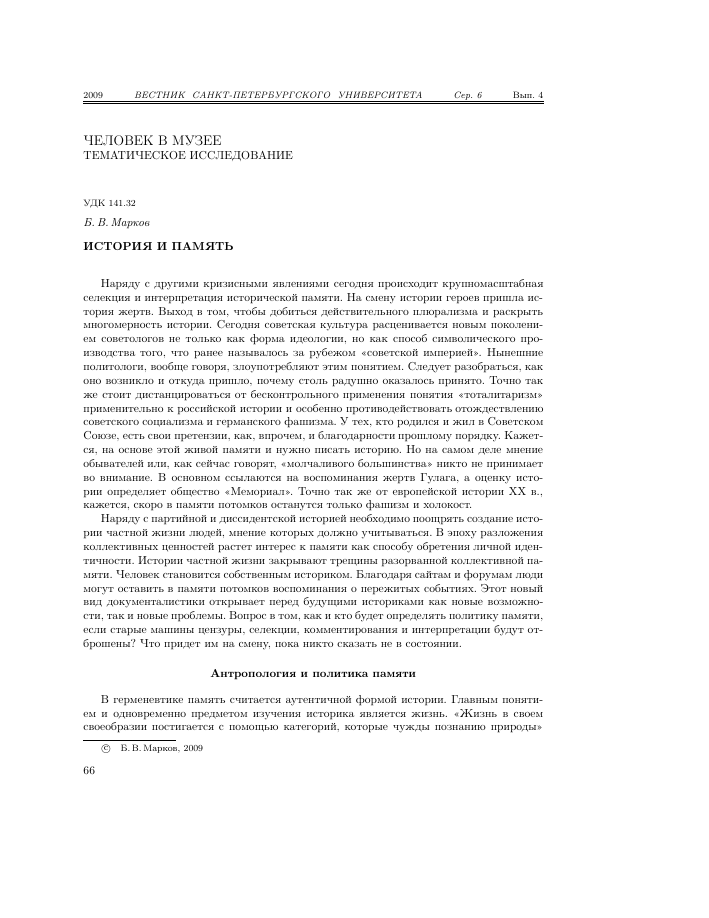ЧЕЛОВЕК В МУЗЕЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
УДК 141.32 Б. В. Марков
ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ
Наряду с другими кризисными явлениями сегодня происходит крупномасштабная селекция и интерпретация исторической памяти. На смену истории героев пришла история жертв. Выход в том, чтобы добиться действительного плюрализма и раскрыть многомерность истории. Сегодня советская культура расценивается новым поколением советологов не только как форма идеологии, но как способ символического производства того, что ранее называлось за рубежом «советской империей». Нынешние политологи, вообще говоря, злоупотребляют этим понятием. Следует разобраться, как оно возникло и откуда пришло, почему столь радушно оказалось принято. Точно так же стоит дистанцироваться от бесконтрольного применения понятия «тоталитаризм» применительно к российской истории и особенно противодействовать отождествлению советского социализма и германского фашизма. У тех, кто родился и жил в Советском Союзе, есть свои претензии, как, впрочем, и благодарности прошлому порядку. Кажется, на основе этой живой памяти и нужно писать историю. Но на самом деле мнение обывателей или, как сейчас говорят, «молчаливого большинства» никто не принимает во внимание. В основном ссылаются на воспоминания жертв Гулага, а оценку истории определяет общество «Мемориал». Точно так же от европейской истории ХХ в., кажется, скоро в памяти потомков останутся только фашизм и холокост.
Наряду с партийной и диссидентской историей необходимо поощрять создание истории частной жизни людей, мнение которых должно учитываться. В эпоху разложения коллективных ценностей растет интерес к памяти как способу обретения личной идентичности. Истории частной жизни закрывают трещины разорванной коллективной памяти. Человек становится собственным историком. Благодаря сайтам и форумам люди могут оставить в памяти потомков воспоминания о пережитых событиях. Этот новый вид документалистики открывает перед будущими историками как новые возможности, так и новые проблемы. Вопрос в том, как и кто будет определять политику памяти, если старые машины цензуры, селекции, комментирования и интерпретации будут отброшены? Что придет им на смену, пока никто сказать не в состоянии.
Антропология и политика памяти
В герменевтике память считается аутентичной формой истории. Главным понятием и одновременно предметом изучения историка является жизнь. «Жизнь в своем своеобразии постигается с помощью категорий, которые чужды познанию природы»
© Б. В. Марков, 2009
[6, с. 281]. Это—«значение», «ценность», «цель», «развитие», «идеал». Они вырастают из проявлений положительного или негативного действия, радости, удовольствия, одобрения, осуждения и тому подобных душевных состояний. Применительно к жизни каждая ее часть является целым, которое, в свою очередь, постигается в рамках более широкой целостности. Речь идет о понимании, опирающемся на герменевтический круг: чтобы понять часть, нужно знать целое, которое само складывается из частей. Любовь и вражда, уединение и объединение, радость и тоска, страдание и его преодоление — все эти понятия суть состояния самой жизни.
На самом деле воспоминания вовсе не являются «неприкосновенным запасом» для историка. Ученый-исследователь не любит очевидца, который видит и запоминает то, что любит или ненавидит, ибо воспринимает происходящее со своей точки зрения. Пер-спективизм Ницше оправдывает такой подход как единственно возможный. Так называемые общечеловеческие ценности — это не что иное, как нормы европейской культуры, навязываемые в качестве обязательных. Этот «культурный колониализм» присущ историзму. Э. Саид показал, что образ Востока был продуктом европейских институтов востоковедения, создаваемых колониальными империями. Мало того, что в мифе о Востоке переплелись как фантазии европейцев, так и ожидания власти, он был еще навязан жителям Востока, причем проник в их сознание настолько глубоко, что они уже сами начали смотреть на себя глазами европейцев [10, с. 24]. Сказанное относится и к самим европейцам, к их поискам традиции как основания идентичности. История с давних пор политически ангажирована и содержит совокупность мифов, укрепляющих позиции национального государства. Это история его основателей, героических защитников, а также история побед над враждебным окружением. Словом, история — это иммунная система общества.
Философия уже давно занимается разоблачением власти. Ее простой и одновременно циничный облик описан критиками идеологии. На самом деле традиционная власть культивировалась в двух обличьях: как общественный договор и как имперская маг-нетопатия, ослепляющая и сковывающая подданных своим блеском. Государственный, политико-исторический дискурс сосредоточен на восхвалении и легитимации власти, которая объединяет людей в общество. Наоборот, юридический дискурс описывает историю как эмансипацию общества, в основе которого лежат право и свобода. История перестает быть ритуалом суверенитета у просветителей. Власть уже не воспринимается как связующее начало города, нации, государства. Раскрывается ее оборотная сторона: победа одних — это поражение других. Те, кого славила генеалогическая история, разоблачаются как насильники и узурпаторы. Фуко замечает, что римская история побед заменяется еврейской историей поражений [14, с. 87]. Это история разоблачений порабощающей нас власти.
Акт учреждения нового общества сопровождается насилием, которое сначало Руссо, а затем Беньямин назвали священным. Правда, в отличие от героического революционного насилия Руссо, Беньямин воспринимал фашистское насилие в духе ветхозаветной готовности расплаты за грехи демократии. В какой-то мере эта позиция близка настроениям Бердяева и Трубецкого, которые считали, что катастрофические эпохи приближают конец истории, второе пришествие Христа. «Среди пламени мирового пожара, уничтожающего обветшавшие формы жизни, рождаются те величайшие откровения Духа Божия на земле, которые предваряют явления новой земли» [12, с. 282].
Революция начинается, когда люди не могут больше терпеть зла и решаются на отчаянный шаг: лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Судя по знаменитой главе о господстве и рабстве, это хорошо понимал Гегель, согласно которому революцию
тоже можно трактовать как смертельную борьбу за признание. Борьба переходит в гражданскую войну и длится до победы одних и смерти других. Достоевский попадает в точку, когда говорит о готовности страдания. Революция — это смерть. Обычно видят одну ее строну — репрессии против врагов революции и не замечают другую — готовность к смерти самих революционеров. Клятва революционеров столь же противоречива, как и клятва гладиаторов. Бердяев считал, что революции имеют исключительно отрицательный характер, они ничего не созидают, а только разрушают. Вместе с тем как бывший марксист он не отрицает необходимости революций. Вопрос упирается в ее формы, средства и цели. Бердяев писал: «Несчастье культурного ренессанса начала ХХ века было в том, что в нем культурная элита была изолирована в небольшом круге и оторвана от широких социальных течений того времени. Это имело роковые последствия в характере, который приняла русская революция» [4, с. 149].
Для объяснения меланхолии, переходящей в ностальгию по прошлому, необходима антропология или психоистория революции, где бы обсуждались человеческие проблемы. Революция может определяться как экстериоризация внутренних конфликтов или интериоризация внешних политических событий. В политической антропологии душа находит отражение сквозь призму политики. Вопрос в том, какими средствами нужно изменять общество. Задача философии — предсказать характер будущей революции. Мы живем в условиях кризиса, когда неравенство, уровень бедности, безработица достигли критической отметки. Реакцией на это, как «в старые добрые времена», становятся стихийные выступления, пока в основном женщин, крики которых, как известно, возбуждают мужчин. Философ обязан дать рекомендации, как в сегодняшних условиях можно противодействовать власти. А главное — в чем и насколько противодействовать. Во-первых, надо учитывать множественность инстанций справедливости и находить компромисс государственной бюрократии и общественности. Во-вторых, искать более мягкие и гуманные способы социального преобразования. И современные технологии это позволяют. Может быть, она произойдет через смех, иронию, шутку, — словом, через неучастие в политике, апатию масс. А может быть — через постепенное и незаметное изменение учреждений, отвечающих за сохранение исторической памяти.
Память и революция
Новейшая история — это глубокая трансформация коллективной памяти, приспособление ее для легитимации государства. Раньше память понималась как путь к истине, к прошлому, к традициям и обычаям народа. Память — это устная традиция передачи опыта от поколения к поколению. Поэтому воспоминания очевидцев не только не замалчивались, не вытеснялись в интеллектуальное подполье, а, наоборот, реанимировались официальными историками как уроки патриотизма. Они не рассматривали прошлое как ужасное. Новейшая история исказила эту память. Она обращалась не к воспоминаниям, а к документам. Исследователи занялись описанием форм коллективной памяти: хроники, справочники, учебники истории, архивы, музеи, создаваемые для сохранения идентичности нации.
Первым значительным историком Французской революции считается Ж. Мишле, которому довелось слушать рассказы участников революционных событий. Историческую память он представлял как воскрешение духов прошлого в воспоминаниях. История — это коллективная сага. Благодаря живой связи поколений, достигаемой передачей традиции, дух революции постоянно оживал в форме повторения демонстраций и
народных выступлений. «Народ» у Мишле, как у наших славянофилов, — это метафора коллективной памяти, носитель коллективных ценностей.
Автор государственного учебника по истории Франции XIX в. Э. Лависс стал ключевой фигурой в деле очищения архивных источников и использования их для пропаганды образа Франции как империи. Он видел задачу историка не в возрождении бунтарского духа революции, а в интерпретации ее как стадии становления государства-нации.
Официальным историком Третьей республики, лидеры которой смотрели на государство как фактор социального, экономического прогресса, стал А. Олар. Он расценивал память очевидцев скорее как препятствие, а не условие понимания прошлого. Поэтому Олар опирался на «объективный», «научный» подход к легендам о прошлом. «Благодаря его лекциям и письменным работам память о революции была подвергнута ревизии, чтобы служить интересам режима, желавшего смотреть на себя как на режим современный и прогрессивный» [13, с. 322]. Праздник в честь столетия революции был организован с целью укрепления лояльности граждан к настоящему режиму, который подается как преемник прошлого.
Ж. Лефевр писал в канун 150-летия революции и интерпретировал ее как воплощение социалистического идеала. В противовес официальной идеологии он возродил модель народной революции, исправил память о ней в соответствии с демократическими изменениями и реконструировал тайную память, подавляемую академической и политической интерпретацией. Если Олар был либералом, то Лефевр придерживался эгалитаристкой позиции. Сюжетом его нарративной истории стала борьба за свободу, формой которой была борьба классов. Это было напоминание о ценностях, которые отвергали фашисты. Отсюда выводилось всемирное значение Французской революции.
В канун 200-летия революции Ф. Фюре выступил с ревизионистской интерпретацией идеи революции как формы народной памяти. При этом он опирался на работу А. Токвиля «Старый порядок и революция» (1856), который свел к минимуму роль народного переворота и акцентировал централизацию власти при монархическом режиме. Фюре акцентировал значение якобинской риторики, заполнившей вакуум власти. Революция в его интерпретации стала событием языка.
В ХХ в. память о революционной традиции перестала быть формой достижения национальной идентичности. Событие революции утратило центральное положение во французской истории. На свет выходят другие события, и восстанавливаются забытые традиции. П. Нора — редактор альманаха «Пространства памяти», приуроченного к 200-летию революции, попытался восстановить мнемонические места французской памяти, как они располагались в течение столетий. Тем самым он хотел открыть своеобразные «коридоры времени», пространства доступа к живым традициям, к живой памяти, которая уже исчезла.
Многим исследователям сходство русской и французской революций кажется очевидным. Однако не вызвано ли это мнение сходством исторических реконструкций прошлого России и Франции? Преемственность между ними всегда отмечалась нашими историками. Ленин полагал, что Октябрь воплотил идеал Коммуны. При Сталине Французская революция сменила имя собственное на регистрационный ярлык «Французская буржуазная революция 1789-1794 гг.». Считается, что в советской историографии восторжествовала концепция «революции-антипода». На самом деле идея сходства двух революций продолжала жить, и сегодня споры об их единстве и различии продолжаются с прежним накалом [9, с. 311].
Сначала Октябрьская революция называлась переворотом, но потом о ней говорили
как о начале мировой революции. Сталин говорил: «Октябрьская революция доказала, что пролетариат может взять власть и удержать ее, если он сумеет оторвать средние слои, и прежде всего крестьянство, от класса капиталистов, если он сумеет превратить эти слои из резервов капитала в резервы пролетариата. Октябрьская революция пошла дальше, попытавшись сомкнуть вокруг пролетариата угнетенные национальности. Это обстоятельство послужило той базой, на основе которой пролетариату удалось осуществить соединение “пролетарской революции” не только с “крестьянской войной”, но и с “войной национальной” [11]. Сталин считал борьбу за национальные права частью мировой революции. Тезис о том, что Великая Октябрьская социалистическая революция открыла широкие перспективы национально-государственного строительства, был с энтузиазмом воспринят национальными меньшинствами. В. И. Машезерский писал о «слиянии социалистической революции с общедемократическим национальноосвободительным движением крестьян» [8, с. 28].
Одни авторы считают, что И. В. Сталин указал на принципиальное отличие революции в СССР не только от Французской, но и всех революций прошлого с целью обоснования ужесточения режима и продления революционно-диктаторского порядка управления на весь обозримый период созидания нового общества. Для них социалистическими предстают post factum фразеология, официальные ценности, надежды, а реально решалась задача воссоздать деградировавшую и дискредитированную при последних Романовых центральную власть, создать обороноспособную индустриальную экономику, сформировать современное и вместе с тем подчиненное государству как его производное гражданское общество [9, с. 335].
Другого мнения придерживается Р. Вахитов: российский абсолютизм настолько прогнил, что рухнул сам собой, без всякого сопротивления. К власти пришли либералы, которые тоже оказались неспособными удержать власть. Политики Февраля так и не смогли организовать нормальную работу городских служб, не смогли противостоять разгулу преступности в городах, бесконечно отодвигали решение насущных вопросов — о земле, о мире, кивая на Учредительное собрание, погрязли в бесплодных спорах и интеллигентской болтовне [4].
Ю. П. Белов подверг критике обе политики памяти, как советскую, так и антисоветскую. Он полагает, что антикоммунистическая историография является зеркальным отражением историографии большевистской — она столь же лениноцентрична. Ю. П. Белов признает, что роль Ленина в подготовке вооруженного восстания сильно преувеличена. Между тем руководителем Военно-революционного комитета был Троцкий, у которого имелись свои планы атаки на Временное правительство, отличавшиеся от позиции Ленина. Ю. П. Белов попытался по-новому представить роль Сталина в революции, которую он понимает как длительный процесс, включающий серию событий: «Победи Троцкий Сталина в их идейной и политической схватке, Октябрьскую революцию, а она продолжалась, ожидал бы трагичный исход» [2].
Сравнивая историографии русской и французской революций, можно указать несколько политик памяти. Одна строится как власть стереотипов, воздействующих из прошлого на настоящее, другая опирается на конструирование прошлого исходя из планов на будущее. Память во многом зависит от способа репрезентации воображения. Побеждает тот, кто наиболее ярко говорит и способен воодушевить и повести за собой. Революция начинается с митингов и речей. В 1917 г. популярными ораторами были сначала Керенский, а потом Троцкий и Ленин. У нас Перестройка открылась как эра гласности. Попов, Афанасьев, Собчак воодушевляли массы. Сначала заговорили о европейской идентичности, затем наступила ностальгия по старой России. Сегодня
память о революции блокируется, зато память о войне реанимируется. Политики ищут самобытное и восхваляют Александра Невского и Ивана Грозного. За словами стоят глубокие структурные преобразования, природа которых до конца еще не осознана.
Места памяти
В эпоху постмодерна история перестает быть мнемонической реконструкцией и становится археологической деконструкцией. Ученые проявляют интерес не к событиям, а к способам их репрезентации, не накапливают исторические факты, а изучают контекст. Вместе с тем факты содержат намек на воспоминание. Поэтому наряду с изучением мнемонических мест проявляется интерес и к интериоризации истории в форме живой памяти. Если архив является своеобразным театром памяти, где хранение, систематизация и размещение документов в архивах предопределяют образ прошлого, то устную традицию можно назвать театром воображения. Поэтому изучение воспоминаний и документов может быть дополнено анализом мнемонических мест — архивов, музеев, библиотек.
История должна укрепить связи между пространствами внутренне переживаемых ценностей и местами их внешнего почитания. Например, сразу после революции началась работа по ее увековечиванию. Торжественное заседание Петроградского Совета рабочих и крестьянских депутатов в мае 1918 г. было посвящено памяти К. Маркса. Принято решение начать издание Полного собрания сочинений Маркса и Энгельса и поставить Марксу памятник на площади перед Смольным. До этого Ленин подписал декрет о снятии не имеющих художественной ценности памятников царям и их слугам и создании проектов, «долженствующих ознаменовать великие дни Российской социалистической революции» [1, с. 13]. В октябре 1918 г. открылся городской Музей истории прошлого и настоящего Петрограда, установлены памятники Марксу и Энгельсу, открыта памятная доска борцам Октябрьской революции. Всего состоялось открытие 11 памятников выдающимся деятелям революционного движения. Точно так же эра демократии в России началась со сноса памятников, переименования городов и улиц, преобразования музеев. Однако по мере роста ностальгии по прошлому почти в каждом городе стали появляться кафе или рестораны, оформленные с использованием советской символики.
Миссия классического музея соединяла истину и власть. Отсюда трогательная забота государства не только о музеях, но и библиотеках, театрах и прочих «учреждениях культуры». Фактически они заменили храмы и функционировали как общественные коллекторы, обеспечивающие единство общества. Для выполнения этой социальной задачи использовались наука и просвещение. Ученый экскурсовод, указывая на экспонаты прошлого, поизносил длинные речи, раскрывающие их истинный смысл. Картины, скульптуры, обычные вещи показывают нечто большее, чем может быть сказано. Если созерцать картину, изображающую обнаженную даму, трудно избежать нескромных мыслей. Для этого необходимо перевести визуальное в вербальное. Например, сказать, что перед нами символ Родины-матери. Современные посетители музеев и выставочных залов смотрят на картины и экспонаты глазами телезрителя. Они уже не слушают или не воспринимают комментариев экскурсовода. А задача работника классического музея состояла в том, чтобы за пестрым разнообразием экспонатов увидеть и показать посетителям нетленные ценности. Но сегодня людей соединяют не истина и мораль, а масс-медиа. Люди приходят в музей не познавать и учиться, не исследовать и открывать, а развлекаться. Поэтому необходимо готовить арт-менеджеров, способных так
организовать зрелище, чтобы на нем все-таки состоялась встреча с искусством и чтобы люди вновь соединились в публику, испытывающую порыв воодушевления.
Благодаря туризму исторически меняющиеся места повседневной жизни обретают статус монументов. По мере его развития увеличивается скорость монументализации. Поэтому наше время можно назвать «взрывом вечности», эпохой музея, точнее, му-зеефикации. Музеефицируются не только памятники, но любые другие места, где мы ощутили порыв воодушевления. Монументальное возникает из банального, музейное — из повседневного. Все зависит от игры в горожанина и туриста, и у монументального и повседневного нет никакой собственной субстанции. Турист все рассматривает с точки зрения вечного, а горожанин — временного. Наиболее ярко это проявляется при посещении экзотических для европейца стран, таких как Индия или Китай. Для туриста не имеет значения, построены сооружения два тысячелетия, двести или двадцать лет назад. Все они для него — монументы вечной Индии или великого Китая, которые остаются вечными и неизменными. Они таковы только потому, что существуют в другом измерении, чем то, в котором протекает собственная история.
Туристы не восприимчивы к рассказам экскурсоводов о реконструкции знаний, ибо они не гармонируют с их установкой на монументальность, они приехали в музей, где хранится вечное. Совсем другое дело — фото, на которых турист снимается на фоне памятников. Их с удовольствием и не раз рассматривают, показывают друзьям. Это документы, свидетельствующие о существовании вечного, и тем самым собственного бессмертия. Если я сфотографировался на фоне пирамиды, в которой погребен фараон, или руин афинского Акрополя, то тем самым я обессмертил себя. Это сильно похоже на иконопись средневековья, где святые изображались на фоне небесного Божьего града. Возможно, в этом и состоит метафизика музея. Он потому и становится символом национального государства, что приобщает к вечному, сохраняя руины прошлого.
Сегодня стратегия Просвещения уступила место стратегии туризма. Музей Просвещения выставлял чужое как экзотическое для обозрения и освоения. Сегодня, наоборот, свое выставляют и продают туристам как объект созерцания. Культурная идентичность тоже стала продуктом туризма. Если раньше она ограждала от влияния чужих, то сегодня стала формой самомузеефикации. Люди и страны стараются превратить себя в цель туризма. В эту игру можно играть тем, кто сам много и часто ездит и способен к де- или ремузеефикации.
Литература
1. 50 лет советской исторической науки. Хроника. М., 1971.
2. Белов Ю. П. Сталин в Октябре. К 90-летию Великой Октябрьской социалистической революции. «Советская Россия». иИ,Ь: www.cprfspb.ru
3. Бердяев Н. А. Философия свободы. М., 1989.
4. Вахитов Р. Политический реализм Ленина. иИЬ: redeurasia.narod.ru/ ЫЬ1ю1ека/1ешп
5. Дильтей В. Введение в науки о духе // Дильтей В. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М., 2000.
6. Дильтей В. Построение исторического мира в науках о духе // Дильтей В. Собр. соч.: В 6 т. Т. III. М., 2004.
7. Копосов Н. Е. Как думают историки. М., 2001.
8. Машезерский В. И. Победа Великого Октября и образование советской автономии Карелии. Петрозаводск, 1978.
9. Одиссей. Человек в истории. М., 2001.
10. Саид Э. Ориентализм. СПб., 2005.
11. Сталин И. В. Октябрьская революция и вопрос о средних слоях // Правда. 1923. № 253. 7 ноября.
12. Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. Избранное. М., 1995.
13. Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003. С. 322.
14. Фуко М. Нужно защищать общество. СПб., 2005. С. 87.
Статья поступила в редакцию 18 июня 2009 г.





 CC BY
CC BY 73
73