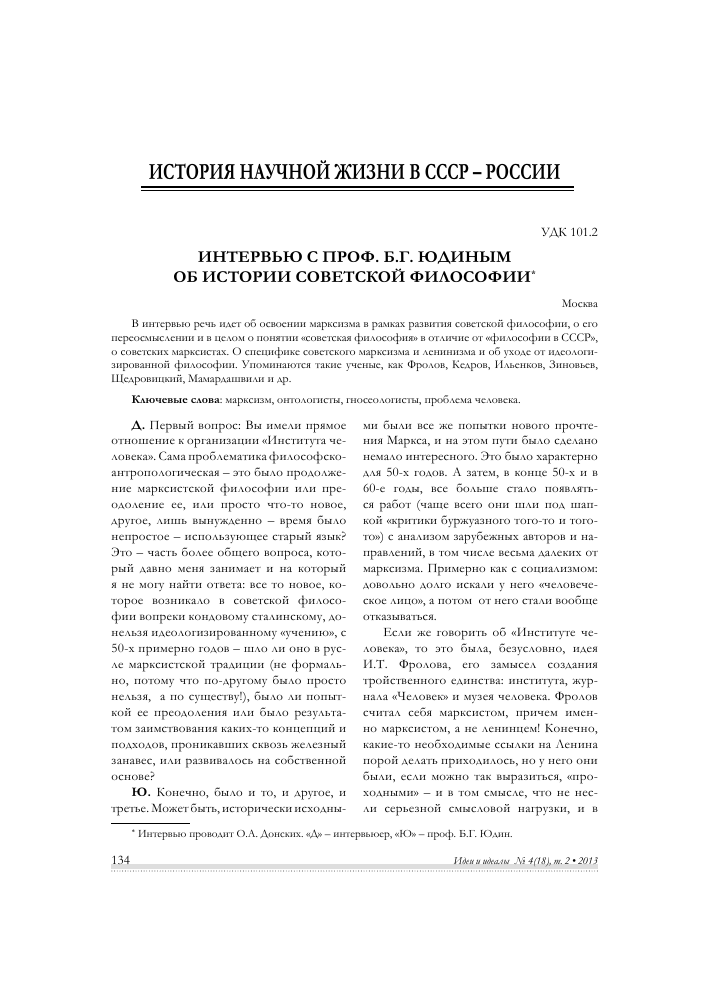ИСТОРИЯ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ В СССР - РОССИИ
УДК 101.2
ИНТЕРВЬЮ С ПРОФ. Б.Г. ЮДИНЫМ ОБ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ФИЛОСОФИИ*
Москва
В интервью речь идет об освоении марксизма в рамках развития советской философии, о его переосмыслении и в целом о понятии «советская философия» в отличие от «философии в СССР», о советских марксистах. О специфике советского марксизма и ленинизма и об уходе от идеологизированной философии. Упоминаются такие ученые, как Фролов, Кедров, Ильенков, Зиновьев, Щедровицкий, Мамардашвили и др.
Ключевые слова: марксизм, онтологисты, гносеологисты, проблема человека.
Д. Первый вопрос: Вы имели прямое отношение к организации «Института человека». Сама проблематика философско-антропологическая — это было продолжение марксистской философии или преодоление ее, или просто что-то новое, другое, лишь вынужденно — время было непростое — использующее старый язык? Это — часть более общего вопроса, который давно меня занимает и на который я не могу найти ответа: все то новое, которое возникало в советской философии вопреки кондовому сталинскому, донельзя идеологизированному «учению», с 50-х примерно годов — шло ли оно в русле марксистской традиции (не формально, потому что по-другому было просто нельзя, а по существу!), было ли попыткой ее преодоления или было результатом заимствования каких-то концепций и подходов, проникавших сквозь железный занавес, или развивалось на собственной основе?
Ю. Конечно, было и то, и другое, и третье. Может быть, исторически исходны-
ми были все же попытки нового прочтения Маркса, и на этом пути было сделано немало интересного. Это было характерно для 50-х годов. А затем, в конце 50-х и в 60-е годы, все больше стало появляться работ (чаще всего они шли под шапкой «критики буржуазного того-то и того-то») с анализом зарубежных авторов и направлений, в том числе весьма далеких от марксизма. Примерно как с социализмом: довольно долго искали у него «человеческое лицо», а потом от него стали вообще отказываться.
Если же говорить об «Институте человека», то это была, безусловно, идея И.Т. Фролова, его замысел создания тройственного единства: института, журнала «Человек» и музея человека. Фролов считал себя марксистом, причем именно марксистом, а не ленинцем! Конечно, какие-то необходимые ссылки на Ленина порой делать приходилось, но у него они были, если можно так выразиться, «проходными» — и в том смысле, что не несли серьезной смысловой нагрузки, и в
* Интервью проводит О. А. Донских. «Д» — интервьюер, «ЮЮ» — проф. Б.Г. ЮЮдин.
том смысле, что были необходимы, чтобы сделать проходимыми публикации, которые иначе не смогли бы увидеть свет либо встретили бы самую жесткую идеологическую критику.
Конечно, для фроловского проекта был важен гуманизм Маркса, особенно молодого Маркса, но он понимал, что возникло много нового, чего Маркс никоим образом знать и представлять себе не мог. Фролов видел, в частности, сколь далеко со времен Маркса в познания человека продвинулись биологические науки и какие новые вызовы самому существованию человека и человечества несут в себе те проблемы, которые тогда стали называть глобальными проблемами современности.
Д. Ну, это уже появилось после 56-го года, до этого был еще сталинизм.
Ю. Безусловно, но и сам тройственный замысел Фролова стал формироваться где-то в конце70-х — начале 80-х годов. Я сам стал заниматься философией уже намного позже, когда от сталинизма, по крайней мере в философии, не осталось ничего, кроме горьких воспоминаний.
В годы хрущевской «оттепели» открылись первые, поначалу весьма ограниченные возможности для контактов с зарубежными коллегами, что не могло не сказаться и на более глубоком понимании их концепций, и на том, что проблематика «критики современной буржуазной философии» привлекала все больше исследователей. А несколько позже, уже в 60-е годы, началась и рецепция русской философии, причем не стандартного набора «революционных демократов», а намного более широкого и разнообразного круга русских философов. Выдающуюся роль в этом (как, впрочем, и во многих других) отношении сыграла пятитомная «Философская
энциклопедия». Он попросту открыла для широкого круга читателей (тогда этот шаблонный оборот был вполне применим к ней, как и к журналу «Вопросы философии») много имен отечественных мыслителей. Поначалу это могло выглядеть чем-то экзотическим, несколько человек этим занимались, но они были, так сказать, на обочине. Потом уже, в 80-е, в годы перестройки, интерес к русской философии приобрел массовый характер. И в этом, кстати, Фролов сыграл важную роль, ведь решение об издании серии «Из истории отечественной философской мысли» принималось на самом высоком партийном уровне.
Д. А я помню его статью в «Вопросах философии», в которой он писал о Толстом, его отношении к добру и злу. Вы говорили о рецепции западных направлений. А какие именно повлияли, как Вы считаете?
Ю. Ну, безусловно, экзистенциализм, а также аналитическая философия, в частности логический позитивизм, между прочим, преобладающим было критическое отношение к нему. Потом, чуть позже, стал проявляться интерес к философии Гуссерля, затем Хайдеггера, к феноменологической философии. Определенную роль в темпах и характере этой рецепции играло то, в какой области философии она происходила. Скажем, в философии науки идеологический контроль был не такой жесткий, как в социальной философии, и проникновение новых идей происходило легче.
Д. Да, нам в университете философию науки читал Розов, и все разумно было. А вот в области антропологии именно, если более узко подойти, как обстояло дело с рецепцией?
Ю. Здесь надо говорить об амальгаме: и молодой Маркс с его гуманистическими исканиями, и Э. Фромм, затем Макс Шелер, он уже воспринимался именно как представитель философской антропологии. Серьезно ее рецепция начинается уже в 70-е годы.
Д. Да, тогда вышла книжка Тейяра де Шардена, это же очень интересное явление было. Философским хулиганом его называли... Значит, философская антропология — это уже 70-е. Но вот что это было: продолжение или преодоление?
Ю. Здесь нельзя противопоставлять: было и то и другое. И продолжение, и новое. Отрицания, преодоления Маркса не было, не только открытого — это и невозможно ведь было, но и скрытого, внутреннего. Маркс тогда воспринимался как гуманистический философ, с этими ранними его работами. И Н.И. Лапин, написавший книгу «Молодой Маркс», и И.Т. Фролов — каждый из них развивался в этом русле. Вот к Ленину у серьезных философов было намного более сдержанное отношение.
Д. Вот Вы очень интересную вещь сказали о том, что серьезные философы были марксистами, но не ленинцами. А в чем это выражалось?
Ю. В том, что по большей части они не считали Ленина серьезным философом.
Д. Я могу привести пример: известное ленинское «живое созерцание, от него к абстрактному мышлению и от него к практике» прямо противоречит марксову принципу восхождения от абстрактного к конкретному. Это же философский примитив с точки зрения немецкой классики, да и с точки зрения Платона это примитив. А его пресловутый «Материализм и эмпириокритицизм» — это же просто непонимание
того, чем занимались и о чем размышляли физики.
Ю. Тут есть еще один момент: Ленин был просто понятнее для тех, кто «проходил» и кто преподавал философию. Все вузовское изучение диамата строилось на «Материализме и эмпириокритицизме», Маркс здесь был на втором плане: слишком сложным он был для обыденного мировосприятия. Ведь это «от живого созерцания...» так понятно, просто до очевидности. Что касается «Материализма и эмпириокритицизма» — я помню, как уже в перестроечные времена наш известный философ Д.П. Горский на одной весьма представительной конференции просто воем выл, умолял освободить студентов от бесконечного изучения этой книги, имеющей столь малое отношение и к современной философии, и к современной науке.
Д. А вот какими путями шло преодоление той кондовой, догматичной и идеологизированной ленинско-сталинской философии?
Ю. Очень важным в этом контексте было размежевание гносеологистов и он-тологистов.
Д. Очень интересно. А когда это происходило и кто в этом участвовал?
Ю. Гносеологисты — это, в первую очередь, Кедров, Ильенков, Копнин. Онтоло-гисты — Тугаринов, Мелюхин. Для меня их олицетворением был Орлов, работал такой философ в Перми. Они по-разному понимали, чем и как занимается философия. У гносеологистов основная проблематика была теоретико-познавательная. Онтоло-гисты напирали на то, что философия изучает наиболее общие законы бытия, общества и мышления.
Д. А во времени — когда это было? И в лицах?
Ю. Во времени — это 60-е годы.
Д. Получается, что эти споры сами по себе заставляли думать о философии, выводили философию за пределы идеологических догм?
Ю. Да. Еще одно важнейшее направление отказа от догм — постепенный отход от вульгарного социологизма, от выведения всего и вся из классовых интересов. Помню, я был аспирантом в академическом институте, в Институте истории естествознания и техники (ИИЕТ), а поскольку базового философского образования у меня не было, поэтому мне надо было ходить слушать лекции на кафедру философии Академии наук. Одну лекцию я прослушал, лектор говорил что-то о том, что французская революция произошла под влиянием идей Гегеля, и больше я уж туда не ходил. Темные, просто дремучие какие-то были люди.
Д. А какова была в этом процессе роль философов старшего поколения, выживших после обрушившихся на них репрессий, людей, которые понимали, что философия никак не сводится к вульгарной идеологии? Людей типа Асмуса, например, под редакцией которого вышла «История западной философии» Рассела, издавалась прекрасная серия «Философское наследие».
Ю. Все это двигалось очень и очень непросто. Всегда какая-то борьба была: сначала за то, чтобы книжку издать, потом чтобы ее отстоять, чтобы ее не запретили. С некоторыми огрублениями, это была борьба двух лагерей.
Д. Но ведь это была борьба за философию?
Ю. Ну, одна сторона боролась за философию. Про другую я так сказать не могу.
Д. Естественно. Помните, вышел прекрасный 6-томник Канта под редакцией Т.И. Ойзермана, Гегель был издан.
Ю. Собрание сочинений Гегеля выходило еще раньше, начиная с 1929 г.
Обращаясь к истории борьбы за философию, хочу напомнить об известном совещании по философии, которое Жданов проводил, в 47-м году. Оно было посвящено учебнику по истории западноевропейской философии под редакцией Г.Ф. Александрова, который называли «серой лошадью» и который подвергся суровой критике. Но вот по его итогам были сделаны оргвыводы, благодаря которым появился журнал «Вопросы философии», а также «рекомендации» по поводу того, что следует переводить, что издавать. Это вообще какие-то волны были: то послабления, то ужесточение идеологического давления.
Д. Вот если обобщить немножко, то можно ли сказанное Вами представить так, что с одной стороны была попытка понять Маркса как Маркса — это Зиновьев, Щедро-вицкий, Грушин, Ильенков. Идеология здесь вообще оказывалась вне поля обсуждения, и поэтому с точки зрения руководства они действительно были вредны. Второе направление, борьба гносеологизма с онтологизмом, выводило философию на обсуждение действительно философских проблем.
Ю. Ну, я бы не разделял то и другое как различные направления. Я бы не сказал, что то, что делали Зиновьев, Щедровицкий, Грушин, Ильенков, было вообще за пределами идеологии. Их вредность обосновывалась как раз тем, что они были не правы в идеологическом отношении. И потом, все они были гносеологистами, т. е. исходили из того, что философия взаимодействует с
миром не напрямую, а через мышление, через понятия.
Д. Мне кажется, сложно отнести Кедрова к одной группе с Зиновьевым и Ще-дровицким.
Ю. Нет, в целом это все-таки был один лагерь, при всех их мировоззренческих и философских расхождениях.
Д. Ну хорошо, пусть оба эти течения — это одно направление, другое — это борьба с вульгарным социологизмом. Я помню, в книге по античной философии Чанышев с Михайловой объясняли выбор Фалесом Милетским в качестве всеобщего единого основания воду тем, что Милет — это порт на Эгейском море, по воде проходила морская торговля и т. п. Ну и третье направление — это издание мировой философской классики, которое тоже заставляло обратить внимание на действительно философскую проблематику.
Ю. Да, действительно. Впрочем, мы с Вами, видимо, говоря о направлениях, имеем в виду несколько разные вещи. То, что я понимаю под направлениями — это все-таки некоторые размежевания по тем или иным вопросам, скажем, можно быть онто-логистом или гносеологистом, но и онтоло-гист, и гносеологист может заниматься изданием мировой философской классики или бороться с вульгарным социологизмом и т. п .
Д. Тогда еще один вопрос. Помните, проходила дискуссия об идеальном, Ильенков против Дубровского. Мне, кстати, Альберт Николаевич Кочергин рассказывал, что Эвальд Васильевич был непримиримым оппонентом, сорвал Дубровскому три защиты. Тем не менее тот защитился в ВАКе и работает сегодня в Институте философии. Так вот: эта дискуссия как-то
повлияла на становление в нашей философии антропологической проблематики? Ведь это же прямой вопрос о том, что есть Человек.
Ю. Наверное, можно принять такую реконструкцию, так сказать, задним числом, но в моем восприятии тогда это было очень далеко от проблем Человека. Скорее, это можно соотнести с дискуссией об основном вопросе философии, о соотношении сознания и материи, о том, что такое идеальное и по каким законам оно строится и живет.
Д. И тогда же появился интерес к экстрасенсорике. Помните, Спиркин опубликовал тогда статью о ней в каком-то популярном журнале?
Ю. Нет, это попозже было, когда уже ослаб пресс идеологического контроля.
Д. А какую роль в попытке сделать философию философией сыграл Мамардаш-вили? Или его тоже надо отнести к первому направлению?
Ю. Отчасти да, Мамардашвили относится к первому направлению в том смысле, что он достаточно много и продуктивно занимался Марксом. Но тут уже надо персонифицировать. Конечно, многие из этих людей вместе учились, работали в одних институтах, но все же каждый из них был чем-то особенным, личностью, и к Мамардашвили это относится в полной мере. Он, пожалуй, раньше всех и дальше всех начал отходить от марксизма, и опять не в смысле борьбы и размежевания, а в смысле перехода к новой проблематике, которой просто не было у Маркса. Тогда появилось ощущение, что марксизм классический начал исчерпываться. Новую социальную действительность уже нельзя было втиснуть в русло старых марксистских схем, нужно было двигаться дальше,
и Мераб тут был если и не самым первым, то одним из первых.
Д. Ну и последний вопрос. Постоянно встречаются утверждения — и у нас, и за рубежом, что в России философии нет, она давно кончилась, раздавленная идеологическим прессом, и т. п. А как Вы считаете — есть сегодня в России философия?
Ю. Эту проблему, которую Вы затронули, я бы слегка переформулировал: какова роль знания иностранных языков в развитии нашей философской мысли? Это знание/незнание очень влияло на самоопределение советских философов: кто мы такие? Или мы этакие автохтоны, самобытно развивающие единственно верное учение, и тогда зарубежная философия нам просто не нужна, не интересна, вредна даже. Разве что покритиковать свысока за непонимание очевидных вещей.
Д. Был у нас такой зав. кафедрой философии в СО РАН, так он про одного сотрудника очень положительно говорил: это вот настоящий марксист, он иностранных языков не ведает.
ЮЮ. Или мы — часть мировой философской мысли.
Если же говорить о сегодняшнем дне, то тогдашняя неразделимость философии и идеологии, подчиненность идеологии сыграла, конечно, очень негативную роль. Все было так заидеологизиро-вано, что никакой живой мысли, кажется, и не могло быть. Но, с другой стороны, философы того времени были именно поэтому гораздо более ответственными за свои слова и действия. За все сказанное надо было быть готовым ответить — если и не перед высшим судом, то, во всяком случае, перед весьма высоким. И зачастую весьма жестоким. Сейчас этого почти не
осталось, и, по-моему, многие высказывания вызваны просто тем, что человеку захотелось, грубо говоря, прокукарекать.
Д. Понятно. Но в целом есть ли какой-то позитив в современной российской философии? Тут ведь еще один момент есть. Вот Шпенглер утверждал, что наука национальна. Насчет науки не уверен, но вот философия уж точно национальна, в том смысле что национальный характер в ней отражается. Так, Локк для меня — чистое выражение практицизма англичан, греки отразились в своей философии. И у нас в XIX веке своя традиция сформировалась: мотивы, темы, способы анализа вполне своеобразные. Вот эта традиция сможет найти свое продолжение и реализоваться сегодня в какой-то серьезной философии? Или сейчас это уже не актуально в принципе?
Ю. Есть какие-то философские проблемы, которыми можно заниматься и в Штатах, и в Испании, и в России. Безусловно, хотим мы этого или не хотим, национальные, культурные особенности в подходе к этим проблемам, в их решении будут проявляться. Опасно лишь, когда эти различия начинают культивироваться, выпячиваться.
Д. Но ведь философия нужна обществу? Вот оно сейчас «сыпется», явно находится в кризисе. Должна ли философия выполнять какую-то цементирующую роль? Точнее, слово «должна» здесь неуместно, но играет ли философия в жизни современного российского общества какую-то позитивную роль?
Ю. Насчет цементирующей роли я что-то не уверен. Что касается влияния на общественное сознание — можно на это претендовать, но насколько эти претензии будут обоснованными? Считалось,
что философия задает твердые основы мыслеустройства, мироустройства, но эти основы неожиданно оказались песочком... Может быть, философии нужно время, уж не знаю сколько лет, для того чтобы самоопределиться. Она никуда не может деться, так как является объективной потребностью и способностью ума, но каково будет ее значение в социальном поле — тут вопрос открытый. Хороший пример: недавно мне попалась
книжка, американские и английские авторы — философы — обсуждают телесериал «Доктор Хаус». Думаю, эту книгу вполне можно отнести к поп-философии. Вместе с тем это вполне серьезные философские разборы этого сериала с разных позиций, в разных аспектах. Сам сериал, конечно, этого стоит. Вот это, мне кажется, попытка нового подхода в развитии философии.





 CC BY
CC BY 20
20